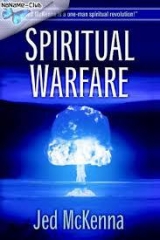
Текст книги "Духовная война (ЛП)"
Автор книги: Джед МакКенна
Жанр:
Самопознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
Многое из этого я включаю в книги. Сейчас, например, я приятно заинтересован «1984» Оруэлла, но если бы это не входило в контекст, предоставленный этой книгой, я бы и не открыл неё. Она не интересна лично мне, потому что нет моей личности, которая могла бы заинтересоваться. То же самое я могу сказать о том времени, которое я провёл в библиотеке у Фрэнка, выслушивая его энциклопедические знания о методах трансценденции, используемых разными культурами в разные эпохи, и его взгляды на дистопичнокорпоративное состояние мира. Это было интересным, постольку поскольку служило книге, но вне этого – нет. У меня нет подлинного, независимого интереса в чём бы то ни было, кроме прогулок, предпочтительно с моей собакой. Вот что значит быть полностью пробуждённым, просветлённым, реализовавшим истину. И так это было бы для всех. Сострадающий Будда, например, это оксиморон, непримиримое противоречие. Это звучит красиво, но это полный абсурд, как любой, кто проработал теоретическую часть, может легко увидеть сам. Меня забавляет мысль, что есть люди в мире, которые считают, что состояния реализации истины необходимо преданно желать и бороться за него. Сразу же начинают накапливаться противоречия. Его нельзя желать, поскольку его нет, как и «я», которое в нём обитает, хотя я обитаю в этом состоянии и не променял бы его ни за какое количество богатства, власти, красоты, детей, внуков или чего-либо ещё. Мне хотелось бы избежать громких рыночных слов как блаженство или любовь, так как я не чувствую, что они точно описывают это состояние, по крайней мере то, как эти термины понимаются теми, кто в нём не находится. Я счастлив, удовлетворён, обычно либо изумлён, либо радостно поглощён каким-либо занятием, и даже если мне скажут, что я точно умру через пять минут, моей реакцией будет лишь очистить ум, обратить внимание на то, какое чудесное время я провёл здесь, и позволить благодарности хлынуть и затопить меня. Быть может, не хватало именно этого, когда сержант сделал мне то предложение – у меня не было бы возможности сказать спасибо и прощай этой замечательной, милой, непростой жизни. Подобный выход через заднюю дверь мог иметь свой неотразимый комический эффект, но он оставил бы этот огромный резервуар благодарности неопустошённым. Это было бы плохой смертью, и, вероятно, одной из последних вещей, которые посетили бы меня тогда, был бы приступ сожаления. Вот такой я сделал вывод, бродя по маленькому городку в Вирджинии. Когда придёт время уходить, хотелось бы иметь в запасе минуту-другую, чтобы сначала попрощаться. С усилием я направил внимание на это желание и отпустил его, уверенный в том, что оно, когда придёт время, будет исполнено.
***
Часом позже мы снова встретились с Лизой, и отправились в гостиничный ресторан. Усевшись за столиком на улице, мы заказали чай со льдом, и стали глядеть на воду. – Мне кажется, человек не может заставить своё прошлое просто так уйти, будто его и не было, – сказала она, продолжая наш последний разговор, – как будто оно не было его частью. Прибыли наши напитки, и мы сделали заказ. – Не нужно заставлять прошлое уходить, – сказал я ей, – оно просто растворяется, как когда просыпаешься утром, мир сна, в который ты только что был погружён, постепенно исчезает и забывается. Когда это случается, ты знаешь об этом непосредственно, видишь это сам, без посредства людей или процессов. Весь остаток своей жизни вы будете считать того человека, которым вы были, и практически всех остальных, недоразвитыми и дефективными существами. – Недоразвитыми и дефективными, – повторила она с неприязнью. – Недоразвитыми, как ребёнок по отношению к взрослому, а дефективными, потому что застой в развитии это ненормально. Что ещё можно сказать о создании, которое выросло и развилось в физического взрослого, никогда не выходя из утробы? Она выразила отвращение. – Какая гадость, – сказала она. – Вот ещё что должно измениться, – сказал я, – это эгоистическая потребность судить, сортировать, навешивать на всё ярлыки. Она исчезнет, когда отделённость уступит дорогу тому, что есть. Это гораздо более расслабленный, требующий меньше внимания взгляд. – Разве не для этого предназначен интеллект? – спросила она. – Судить? Взвешивать? Определять ценность и смысл? Я что, должна отказаться от своей способности к различению? Мне это не кажется правильным.
– То, что вы называете интеллектом, это интеллект крысы в лабиринте, интеллект шимпанзе, складывающего друг на друга блоки, чтобы достать банан. Когда вы увидите реальный интеллект в работе во всём и всегда, вы больше никогда не будете думать о нём в человеческих терминах. Мышление, как инструмент навигации и понимания, это ещё одна ненужная вещь, которая отбрасывается и забывается. Все наши мнения – это просто мини-убеждения – мусор, который мы повсюду таскаем за собой ценой своих жизненных сил. Склонность судить о вещах как о плохих или хороших, правильных или неправильных и так далее, просто отпадает сама собой, и энергия высвобождается. Уже скоро вы начнёте находить все мнения и убеждения довольно вредными, и естественным образом будете сторониться их источника, который есть эго. – Не могу себе это представить, – сказала она, отхлебнув чая, пока я ковырялся в салате «Цезарь» в поисках признаков Цезаря. Салат-латук возвышался айсбергом, вокруг плавали клинообразные помидоры, оранжевый сыр в загадочном соусе из банки; единственным ингредиентом, гармонирующим с тарелкой, были тугие на зуб гренки. – Похоже, вы судите свой салат, – заметила она с кислой миной. – Разве вы не удовлетворены тем, какой он есть? Я рассмеялся. – У меня есть личные предпочтения, вещи, которые мне нравятся и не нравятся. Никто не говорит о том, что нужно действовать определённым образом, или пытаться подстроиться под какие-то предвзятые мнения о том, каким ты должен быть. Это ловушка, и очень эффективная, судя по количеству человек, находящихся в ней. – Не заметила, что вы попадаетесь во много ловушек, – сказала она. – Мы говорим не обо мне, – сказал я. Она тяжело вздохнула. – Зачем мы об этом говорим, можно спросить? – Потому что я хочу причинить вам неудобство, – сказал я. – Хочу разозлить и досадить вам. – У вас это получается. – В каком контексте происходит этот разговор? – То есть? – Что мы делаем? – спросил я. – Что вы делаете? – Я везу вас, чтобы вы могли произнести хвалебную речь Брэтт, я думала. – Нет. Мой контекст – это книга. Я пишу книгу. Какой ваш контекст? Она покачала головой. – Не знаю. Пожалуй, я об этом не думала. – Вам не нужно думать, – сказал я, – вам нужно только посмотреть.
***
Мы съели невдохновенную еду, и они унесли тарелки. Развернув стулья в направлении обзора, мы потягивали чай со льдом. Прошло несколько минут, прежде чем она заговорила снова. – Я не знаю, как не различать плохое и хорошее, правильное и неправильное, – произнесла она после длинного интервала. – Как не судить? Это как утерять свой интеллект, свой персональный суверенитет, свой моральный компас. Как можно не делать этого? Это непростой вопрос – можно легко наговорить лишнего. Я хочу помочь людям сделать следующий шаг и ненавязчиво предостеречь их от заглядывания за его пределы. В первой моей книге был короткий диалог между мной и Майей (архитектором иллюзии, не собакой). Я заметил, как она красива; она спросила, предпочёл бы я другое её лицо, а я сказал, что все хороши. Этот игривый диалог скрывает за собой весь ужас, зло и страдания в мире – другое лицо Майи. Я пробуждён из сна, поэтому меня уже не обманет ни одно её обличье – ни доброе, ни злое, ни красивое, ни ужасное. Я знаю, что это такое, что всё это – одна вещь. На данной стадии нет необходимости или даже возможности показать Лизе, что нет разницы между любыми двумя крайностями, но пришло время ей пересмотреть своё глубоко укоренившееся убеждение, что таковые существуют. Ей не нужно видеть другое лицо Майи, чтоб сделать следующий шаг, но она должна начать подвергать сомнению свою практику сортировать мир по стопкам, как бельё.
Да, мы едем помянуть добрым словом Брэтт, но это не наш контекст. Мой контекст – эта книга, а контекст Лизы похож на контекст не умеющего ходить младенца – начать двигаться и взаимодействовать с миром, выяснить, где она, как всё работает, и как она в это вписывается.
***
В биосферах, где нет ветра, деревья становятся слабыми, так как им не с чем бороться. Тогда генерируется искусственный ветер, чтобы деревья могли развить силу, но не из жестокости, не для того, чтобы над ними измываться. Если ветра не будет, дерево испортится. – Я видел по телевизору маленькую девочку, – рассказывал я Лизе, когда мы брели по лесной велосипедной дорожке немного позже. – С ней произошла жуткая трагедия. Она оказалась запертой в горящей машине, и получила больше повреждений, чем, казалось бы, может выдержать тело. Ей сделали множество операций, но она осталась практически полностью обезображенной. И вот, во время интервью, она смотрит на обрубки, которые когда-то были её пальцами, и произносит: «Раньше я плакала, если сломается ноготь». Через секунду Лиза ответила тихим шёпотом: – Боже мой, это так ужасно. – Разве? – ответил я. – Я думал, это одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо слышал. Какая поэма может с этим сравниться? Какое искусство? Фотографии войны и бедствий это единственное из того, что я знаю, что ближе всего к этому, но они не сравнятся с образом реальной живой девочки, когда-то милой школьницы, полной надежд и мечтаний, а теперь настолько физически уничтоженной, насколько это вообще возможно, которая, глядя на свои исковерканные руки, говорит, «Раньше я плакала, если сломается ноготь». – У вас очень своеобразные представления о красоте, – сказала она угрюмо. – Бедная девочка. Бедная её семья. – Для меня это всё не про девочку, это про меня, про жизнь, про бытие. Это то, где мы находимся, и таковы правила. Тот труп, которому делают У-образный надрез на столе из нержавеющей стали завтра утром, это я. Та женщина, падающая из Всемирного Торгового Центра, это вы. Та сгоревшая девочка – это Мэгги. Лиза остановилась и повернула лицо ко мне. Я тоже остановился. Она смотрела на меня ровным немигающим взглядом, который трудно было прочитать, но мне не нужно было его читать. Следующие свои слова я произнёс медленно и чётко. – Вы знаете, где вы? Ничего. – Mires. Abrase los ojos*. – *смотрите, откройте глаза (исп) – – Джед... – Вы знаете, что это за место? – Пожалуйста, не надо, Джед, – сказала она. – Я знаю, вы пытаетесь мне как-то помочь, но сегодня такой прекрасный вечер. Не могли бы мы просто расслабиться и насладиться им?
***
Слишком? Я толкаю Лизу слишком сильно? Я мог бы пойти в библиотеку или в книжный магазин и заполнить коробки книгами с секций поэзии, религии, духовности, самопомощи и философии, написанными людьми, которые прошли также далеко, как Лиза, и остановились на этом – людьми, которые подверглись трансформации смерти-перерождения, но остались с закрытыми глазами в воображаемой реальности, вместо того, чтобы открыть глаза новому миру, в который они вышли. Я не мог подумать, что такое возможно, но вижу это всё время. Кажется, что если мы начали двигаться, то будем продолжать двигаться, но в реальности всё по-другому. Такую же ярую непреклонность оставаться вросшими корнями на месте, которую мы демонстрируем, находясь в утробе, мы продолжаем демонстрировать и после выхода из неё. Если метафоры привести в соответствие друг с другом и регистрировать доступные наблюдению случаи, то можно
обнаружить промежуточную стадию между двумя мирами, некий сорт гипнагогического, очистительного состояния, в котором человек, покинув утробу, всё ещё зовёт её домом, когда, войдя в мир, он ещё не открыл глаза. Это не то же самое, что фальшивое перероджение, так распространённое в поп-христианстве и программах двенадцати шагов, эти люди действительно вышли из утробы, но не смогли выйти за пределы страха. Это не просто сбрасывание цепей в пещере Платона, это безусловно больше чем это, но безусловно, меньше, чем ясность. Это кажется почти ненатуральным, но как уверяют люди, занимающиеся причудливым сексом, единственной ненатуральным актом является тот, который ты не способен совершить, поэтому можно рассматривать эти промежуточные состояния как ступеньки эволюционной лестницы из подземных уровней тёмного сознания, в котором пресмыкается человечество, проклявшее само себя. Именно здесь сейчас и находилась Лиза – она вышла из тьмы, но с ещё закрытыми глазами. И она может остаться в таком состоянии, застряв между двух миров, будучи чужаком в них обоих. Она легко может ошибочно принять эту начальную точку за конечную и сложить оружие, может даже вывесить вывеску, когда поймёт, как здесь оказалась – написать книгу, проводить встречи, сделать карьеру, помогая другим пройти неполный переход. Искушение отдохнуть после такой битвы, заведшей так далеко, должно быть сильным, но я страстно хотел, чтобы Лиза продолжила идти. Наверно, для этого шлёпают по заду новорожденных. Может быть, именно это я пытаюсь сделать для Лизы. Следующий её шаг не так лёгок, но и не слишком труден, и если она его осилит, она сможет продолжить движение вперёд. Мне казалось, для неё будет почти позором – дойти так далеко, и остановиться. Здесь начинает становиться хорошо. У меня нет большого опыта в работе с людьми на этой стадии, но я точно знаю, что я должен подталкивать Лизу, чтобы она пока не успокаивалась, даже если это значит немного позлить её.
***
Минут десять мы шли молча, прежде чем я снова начал наседать. – Вы прожили тридцать с чем-то лет своей жизни в утробе, родившись для тела, но не родившись для духа, – сказал я. – Кто хочет покинуть утробу? Никто. Независимо от того, что говорят, никто не хочет выходить наружу. Это невозможно. Внутри тепло, уютно, безопасно, и покинуть её означает конец мира, конец единственной жизни, которую ты когда-либо знал. Человек выходит оттуда в единственном случае – когда какое-нибудь бедствие или яд побуждает его с криком выбежать в мир. – Через это я прошла, – произнесла она задумчиво, – как постепенное отравление, которое в конце концов становится непереносимым. – Да, и теперь вы здесь, но вы всё ещё стремитесь отрицать и отвергать всё, что не приятно и мило. Это старый путь, путь с закрытыми глазами. Теперь пришло время смотреть, видеть, наблюдать творение, частью которого вы являетесь. Вот что такое честность, вот что такое жизнь с открытыми глазами – приятие того, что есть. Осознание, где вы и каковы правила. Вѝдение, как всё работает, как в этом участвовать, как жить без страха. – Это всё так мрачно и угнетающе, – сказала она. – Дело не в том, что это мрачно, – продолжал я, – просто вы щурите глаза. Всё хорошо, на это можно смотреть. Это только кажется тёмным, потому что мы не смотрим, не идём в это, но мы можем. Вы можете. Мы отгородились от всего пугающего, потому что так поступают дети – они крепко закрывают глаза, чтобы не видеть чудовищ. Это мир детей и он полон религий, основанных на наградах и наказаниях, духовных систем, которые учат быть разборчивыми, они принимают приятное и красивое, исключая тёмное и уродливое, но единственная причина этому – страх. Когда ты открываешь глаза и видишь, где ты находишься, ты видишь всё, и только тогда страх исчезает. Сейчас вы всё ещё живёте в своём выдуманном царстве. Вы уже не часть его, но ещё не двинулись дальше. Пришло время открыть глаза и увидеть, где вы. Она опустила голову. – Слишком много для такого прекрасного вечера, – сказала она. – Довольно долго вам снились презренные сны, – снова процитировал я Уитмена. – Теперь я смою дёготь с ваших глаз, вы должны привыкнуть к ослепительному свету каждого момента вашей жизни. – Сегодня я слышу много Уитмена, – заметила она.
– Уитмен лучшие свои вещи писал о том, где вы сейчас, об этом переходе, о перерождении. Она внимательно посмотрела на меня. – Правда? – Вы больше не будете принимать вещи из вторых или третьих рук, – декламировал я, – не будете смотреть глазами мертвецов, или питать книжных призраков. Вы не будете смотреть и через мои глаза, или перенимать у меня, вы будете прислушиваться вокруг и фильтровать всё сами. – Это Уитмен? – Большая часть мистической поэзии, если это не цветочная абракадабра, описывает два элемента процесса смерти-перерождения: покидание отделённого состояния и вступление в интегрированное состояние. – Не просветление? Я усмехнулся от такой мысли. – Нет, не существует искусства, которое описывало бы недвойственное сознание, или поэзии, воспевающей состояние реализации истины, ничего подобного нет. Это вещь не такого рода. – Да, Уитмен звучит лучше, чем история о бедной маленькой девочке. Но сейчас не время для приятного. – А вот кое-что из моего собственного опыта, небольшое событие типа «ага!». В начале восьмидесятых я учился в Нью-Йоркской школе. Однажды включилась новостная радиостанция. Какой-то стандартный набор новостей, которые слушаешь в пол-уха, а потом, после чего-то о мэре и перед чем-то о янки, тем же механическим тоном диктор произнёс: «Сегодня какой-то мужчина ворвался в апартаменты в Верхнем Западном Районе и кинул младенца в стену без каких-либо видимых причин». – Господи, Иисусе, – произнесла она, закрыв рот руками. – Прошу вас, Джед, не надо больше. Давайте просто погуляем, пожалуйста?
***
Мне всегда казалось, что это прекрасное хайку, несмотря на нарушение формы. Я назвал его «Долбаная лягушка Басё»:
Сегодня мужчина ворвался в квартиру в западном районе и швырнул младенца о стену без всяких на то причин. Шмяк!
***
Уже намного позже, когда я редактировал эту главу возле другого бассейна в другой части Мексики, я всё ещё не знал, войдёт ли этот материал в книгу. Не слишком ли мрачно? Девочка без пальцев, младенец о стену? Годится ли это для книги или нет? Ответ, как я отлично знал, состоял в том, что не мне это решать. Мне не ясно, значит ясность придёт. Нужно только быть терпеливым, и ответ появится. Вселенная даст о себе знать. Я не пытался шокировать Лизу только ради того, чтобы шокировать. Если бы я хотел только шокировать её, я бы, наверно, ударил бы её действительно высоковольтным ужасом и поджарил бы её электрическую схему. Моим замыслом было пару раз легонько тряхануть её сердце, только для того, чтобы заставить её осознавать всё то пространство, которое она хранила во тьме, отгородившись от него. Я лениво размышлял над всем этим, когда на экране ноутбука появился заголовок Нью-Йорк Таймс: «Мужчина ударил ножом девочку в коляске». Вселенная дала о себе знать. Материал вошёл в книгу.
***
Одно последнее замечание. Однажды ночью, когда я уже заканчивал редактировать эту главу, я читал нечто совершенно не связанное со всем этим, и мне попался на глаза термин «пост-утробная беременность». Я напряжённо работал над концепцией о людях, которые так же завязли после выхода из чрева, как и до этого, и из довольно невероятного источника – эссе о «Меридиане крови» Кормака МакКарти – я получил этот термин, «пост-утробная беременность», который, похоже, ухватывает этот странный феномен, рассматриваемый нами на этих страницах. Этот термин предполагает, как обнаружилось во время наблюдений, что появление в мире не является чёткой точкой разграничения, как можно было бы предположить. Процессы роста и развития, работающие до и после этого появления, продолжают работать и после него, и если прервать эти процессы, или не распознать и не взращивать их, мы скорее всего погребём себя вне утробы так же эффективно, как те, кто находится внутри. Странно.
27. Casus Belli*
– *повод для объявления войны –
И теперь, так как Пьер начал видеть сквозь первый слой мира, он наивно полагал, что достиг цельной материи. Но как и любой геолог, проникающий вглубь мира, он обнаружил, что мир состоит из не более, чем слоёв, наслоённых на другие слои. До своей оси мир представлял собой не что иное, как множество наложенных друг на друга поверхностей. Через огромную боль мы роем подкоп в пирамиду, через полные ужасов искания мы находим центральную комнату, с радостью видим саркофаг, но когда открываем крышку – там никого нет! – он невыносимо пуст, подобно бескрайности человеческой души! – Герман Мелвилл, «Пьер» –
Во время поездки Лиза рассказывала мне о своём муже, Дэннисе. Деннис был дантистом. Дэннисдантист. Она рассказала, что он тайно ненавидел быть дантистом, а может, он просто ненавидел быть Дэннисом, она точно не знала. Он стал дантистом, потому что дантистом был его отец. Он так отчаянно пытался угодить своим родителям, сказала она, что его жизнь была вечно проигранной битвой за то, чтобы жить согласно их ожиданиям и завоевать их одобрение. Лиза сказала, что он ненавидел множество вещей в своей жизни, поэтому никогда не был счастлив, и часто злился. Страдая от депрессий и алкоголизма, он с внешней стороны казался счастливым и успешным. Проецирование этого имиджа, особенно для своих родителей, было главной мотивацией его жизни. Наши отношения с родителями это очень важная тема для рассмотрения, не потому что мы хотели бы наладить их и исцелить все раны, которые мы могли испытать или причинить, но потому что большинство из нас всё ещё застряли на этом уровне. Если наше основное понимание жизни в широком смысле одинаково с пониманием наших родителей, значит мы ещё не начинали своего путешествия. Мы – дети детей, которые были детьми детей, которые были детьми детей и так далее до самого конца. Солидная цепь, чтобы её порвать, но именно этого и касается процесс освобождения. Любой, кто когда-либо захочет что-то сделать в жизни, стать самостоятельным человеком с собственными правами, должен начать с убийства своих родителей (метафорически!). Когда мы убиваем своих родителей, на самом деле мы сбрасываем внутренний слой ложного контекста, в который мы упакованы и который нас определяет. Вот что мы делаем каждый раз, делая шаг – сбрасываем следующий слой обволакивающей нас иллюзии. Мы увидим другую вариацию этой темы, когда посмотрим на прошлое Брэтт и на её отношения с отцом, как она разобралась в этим. Дэннис, по словам Лизы, не разобрался. Может быть, когда-нибудь он разберётся. Может быть, он выскажет всё на семейном совете, или заорёт по-первобытному, или примет МДМА в терапевтической обстановке, и его постигнет катарсис, который позволит ему наконец выйти из этого духовного запора, сделавшего из него вечного и хронически больного ребёнка. Катарсис означает опорожнение, очищение от токсинов и непроходимости, вывод тяжёлого ментальноэмоционального мусора и восстановление свободного течения по всей системе. Весь прогресс можно
рассматривать как поток и затор. С Лизой после долгой мучительной болезни наконец случился катарсис, очищение, исцеление, и можно увидеть, куда это её привело – пока, во всяком случае. Она утеряла всё, что главным образом её определяло. Возможно, она могла бы предпочесть просто принять пилюлю, чтобы боль ушла и она смогла остаться в своих жизненных обстоятельствах. На свете много таких пилюль, они принимают множество различных форм, но она не приняла пилюлю, она выбрала боль. – У него патологическая одержимость угождать своим родителям, чтобы они могли им гордиться, – рассказывала она, – но они всегда недовольны. Всё, что он делает, недостаточно хорошо, а он всё пытается сделать больше и сводит себя с ума. Для них он всё ещё маленький мальчик. Не думаю, чтобы я осознавала это раньше, но он словно болен, а все его проблемы – это лишь симптомы. Выпивка, высокие достижения и низкая самооценка, хроническая несчастность, вечная неудовлетворённость, но он всегда делает вид, что счастлив и успешен, так как стремится угодить родителям, чего ему никогда не удаётся, потому что на них ничего не действует. Что бы он ни делал, это не имеет значения – он в ловушке. Даже после смерти они всё ещё имеют власть над ним. Он в безвыходном положении. Сократ говорил, что неизученную жизнь не стоит жить. Это серьёзно, чёрт. Большинство людей не захотят изучить это утверждение, а уж тем более свою жизнь. Если это означает, что застоявшуюся, закоснелую жизнь не стоит жить, тогда мы говорим, что жизнь большинства людей не стоит беспокойства, и именно так Человек-Ребёнок выглядит с перспективы Человека-Взрослого. Можно, конечно, привести доказательства в пользу Человека-Ребёнка, но они будут вызывать ощущение неудовлетворённости, что выиграли за счёт техники. Сократ вынес довольно изобличающее обвинение: неисследованная жизнь не стоит того, чтобы её жить. Кто живёт осознанную, исследованную жизнь? Все, вероятно, думают, что ведут такую жизнь, но в реальности этого не делает практически никто. Кто решает проводить часы, дни, недели, месяцы и годы своей жизни именно так, как проводит? Кто осознанным решением, преднамеренно, со знанием дела решает соединиться в пары, завести детей, купить дом, работать на работе, тратить все свои силы, заполняя строчки потрёпанной книги-раскраски? Где те люди, которые исследуют свою жизнь? Жизнь, которую стоит жить? Где те люди, которые сделали выбор? Не просто вторичный выбор, сделанный в рамках уже существующей системы, но принципиальный выбор, выбор самой системы? Где те люди, которые выбрали свою жизнь? Кто осознанно делает выбор заковать себя в цепи? Кто выбирает женитьбу, детей, карьеру? Кто выбирает пополнить ряды обременённых долгами потребителей и пожинать плоды трудов всей своей жизни в качестве раба имущества и корпораций? Кто выбирает в свободное время быть на побегушках, заниматься домашними делами, уставиться в телевизор? Кто выбирает есть ядовитую пищу, жить в ядовитой среде, в окружении ядовитых людей? Кто выбирает жить заранее запрограммированную жизнь от рождения до смерти? Кто видит такие жалкие, отвратительные, отрицающие жизнь сны? Конечно, может быть, жизнь в тяжёлой нудной работе и погоне за морковкой это именно то, что мы выбрали бы, если бы выбор был за нами, но мы не выбираем. Вот что означает быть неосознанным: спать внутри сна. Мы быстренько напяливаем на себя жизнь, которая уготована для нас, подобно детям, напяливающим в одежду, приготовленную для них утром. Никто не решает. Мы живём нашу жизнь не по выбору, а по умолчанию. Мы исполняем роли, для которых родились. Мы не живём наши жизни, мы избавляемся от них. Мы выбрасываем их, потому что мы не знаем ничего лучшего, мы не знаем ничего лучшего потому, что никогда не спрашивали. Мы никогда не задавали вопросов, не сомневались, никогда не поднимались, никогда не проводили черту. Мы никогда не подходили к родителям, или к духовным наставникам, или к учителям, или другим людям, влиявшим на наше становление, и не задавали один простой, честный и откровенный вопрос, вопрос, ответ на который должен быть получен прежде, чем можно задать любой другой вопрос: Что, чёрт возьми, здесь происходит? Так вы убьёте их. Не саблями и пистолетами, но мыслью, честностью и прямотой. Так вы посмотрите, так вы увидите. Так вы проведёте черту. Это не бодрая маленькая речь в перерыве между таймами, призванная согнать всех нас в остервенелый carpe diem*, чтобы мы вышли, вопя, на поле с победным чувством в сердце и с жизнеутверждающей, свободолюбивой жаждой крови в первый день своей новой жизни, пульсирующей в венах, пока в понедельник утром не зазвонит будильник, ловко перемещая нас обратно в тюремную рутину. Поймать момент – не значит его остановить. Это как подстрекать товарища по камере к воплощению мечты его жизни
петь в тюремном хоре. Если бы у меня был сын или дочь, кто-то, о ком я глубоко беспокоился бы, я бы вместо этого ободрял бы его словами carpe vitae – лови жизнь. А если бы я знал, как по-латински «твою мать», я бы вставил и это. Я бы наколол это на тыльной стороне его ладоней, чтобы он всё время это видел и чувствовал здоровый стыд и отвращение к себе за каждую минуту, которую он потерял в качестве зрителя, а не участника игры. – *лови момент (лат.) – Говоря метафорически (!), первое, что мы должны сделать в нашей претензии на свободу, это убить своих родителей. Мы убиваем Будду (или его эквивалент) последним на пути к реализации истины, но родителей мы убиваем в первую очередь на любом пути. Есть ещё немало людей, которых нужно убить, прежде чем достигнешь свободы, но всё начинается с этого. Пока мы не убьём своих родителей (метафорически!), мы останемся нерождёнными. Фильм «Выпускник» именно об этом – смерть и новое рождение Бенджамина Брэддока. Как он вырывается из своей жизни, убивает своих родителей – их мир, их надежды на него, их общество, человека, в которого они его превратили, и будущее, которое они ему уготовили – и борется в своём процессе смертиперерождения. В «Выпускнике» нет плохих и хороших людей. Родители не злые (вообще-то), просто они скучны, а против скучности нет закона (вообще-то, есть), иначе всех нас упекли бы в тюрьму (вообще-то, мы уже там). Элен не проявляет воли и является просто призом, который можно выиграть или проиграть. В конце фильма она не освобождается, лишь разрушается её шаблон. В конечном счёте этот фильм о бомбах замедленного действия среди нас. Бен не хотел взрывать и разрушать всё вокруг себя. Он не проделывал тяжёлой работы в школе, планируя свой побег. Он такая же жертва своего спонтанного взрыва, как и все остальные. «Выпускник» это фильм не о любви, а об освобождении. Если бы вышло продолжение, мы, возможно, нашли бы Бена не ушедшим далеко от того, что мы видели вначале. Как и большинство тех немногих, кто проделал этот переход, он, вероятно, посчитал бы своё новое состояние целью, а не отправной точкой, и скоро оказался бы снова в стаде, никогда уже не став его членом полностью, хотя и в достаточной степени. Вот через что я пытался помочь пройти Лизе. Переход Бена был относительно мягким. Он был ещё молодым деревцом, его корни были ещё слабы и редки, их легко можно было выдернуть из земли. В двадцать один год у него нет больше семьи кроме родителей, ни детей, ни закладной или долга, ни друзей или дальних родственников, ни установившейся карьеры, ни одной из множества сложных ролей, которые он мог бы играть, будь он более устоявшимся, более укоренённым в жизни. Короче говоря, его срыв произошёл в идеальное время, когда было очень мало того, что нужно было отсечь, очень немногих предать, очень немногих потерять. Но что произошло бы, случись такой кризис на двадцать лет позже, когда корневая система уходит намного глубже? Когда она намного сильнее и намного больше переплетена с окружающими корневыми системами? Тогда, вместо «Выпускника», мы бы смотрели «Коллегу». В сорок один Бен уже не маленькое деревцо, которое можно легко выдрать из земли. Теперь он дерево, и такой же шаг на этом более продвинутом уровне эмоциональных разветвлений требует невообразимо большего количества взрывчатой энергии и гораздо более мощного источника неудовлетворённости, чтобы питать топливом такой взрыв. Это не аккуратная и незаметная хирургическая операция. Это не духовно, не сострадательно, не благословенно. Это приведёт к огромному беспорядку. Это нанесёт вред всему его окружению и связанному с ним развитию. Если бы Бен продолжил свою жизнь в течении ещё пары десятков лет до появления своего прозрения, тогда вместо простого бунта против своих ужасно немодных родителей, он должен был бы рвать связи с женой, детьми, друзьями и дальними родственниками, с работой, сообществом, церковью. Его карьера и финансы превратились бы в прах, камня на камне не осталось бы от всего, над чем он работал всю свою жизнь, и ради чего? От этого не уедешь на заднем сидении автобуса, улыбаясь, словно ты удрал из дома, прихватив с собой трофей в натуральную величину. Кто герой в «Коллеге»? Кто хороший парень? Как ещё рассматривать старшего Бена в такой ситуации, кроме как психо-духовного террориста? Человек, который проник в жизнь людей, сначала казавшийся серьёзным и любящим, вдруг взрывается как бомба? Дамба была под таким толстым покровом, что он и сам








