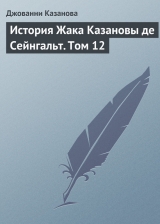
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 2"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Когда я рассказал обо всем г-ну де Бонневаль, он был этим очень доволен и сказал, что его янычар будет каждый день во дворце венецианских Байо готов к моим услугам.
Когда я дал отчет господам Байо о знакомствах, которые свел в этот день у графа де Бонневаль, они были весьма довольны. Его Светлость Венье посоветовал мне не пренебрегать знакомствами такого рода в стране, где нетерпимость заставляет бояться иностранцев больше, чем чумы.
В назначенный день я пошел к Юсуфу очень рано, но он уже ушел. Его садовник, который был предупрежден, отнесся ко мне со всем вниманием и развлекал меня два часа, показывая все красоты садов своего хозяина и, в частности, цветы. Этот садовник был неаполитанец и принадлежал хозяину тринадцать лет. По его манерам я предположил в нем хорошее происхождение и образование, но он откровенно сказал, что никогда не учился читать, что он был матрос, когда попал в рабство, и что он так счастлив, служа у Юсуфа, что счел бы за наказание, если бы тот дал ему свободу. Я поостерегся расспрашивать его о делах его хозяина. Скромность этого человека могла заставить покраснеть мое любопытство.
Юсуф приехал на лошади и после взаимных приветствий мы направились обедать в павильоне, откуда видно было море и где дул нежный ветерок, смягчавший жару. Этот ветер, который ощущается всякий день в определенное время, – Норд-Вест, – называется мистраль. У нас был хороший стол, среди прочих блюд – каурма. Я пил воду и превосходный медовый напиток, который, как я заверил хозяина, я предпочел бы вину. В те времена я пил вино крайне редко. Похваливая свой напиток, я сказал хозяину, что мусульмане, которые нарушают закон, выпивая вино, не заслуживают снисхождения, так как пьют его лишь потому, что оно запрещено; он меня заверил, что многие считают допустимым употреблять его только в медицинских целях. Он сказал, что врач султана ввел это лекарство в обиход и благодаря этому сделал карьеру и пользуется милостью своего хозяина, который действительно все время болеет, но поправляется, напиваясь допьяна. Он удивился, когда я сказал, что у нас пьяницы очень редки и этот порок распространен только в низах общества. Когда он сказал мне, что не понимает, как вино может быть разрешено в других религиях, потому что употребляющих его оно лишает разума, я ответил, что все религии запрещают чрезмерное употребление, и что вина может заключаться только в злоупотреблении. Я убедил его, говоря, что поскольку эффект опиума такой же и гораздо сильнее, и его религия должна была бы его также запретить; он мне ответил, что за всю свою жизнь не употреблял ни опиума, ни вина.
После обеда нам принесли трубки и табак. Мы покурили. Я курил тогда, и с удовольствием; но я имел привычку сплевывать. Юсуф, который не сплевывал, сказал мне, что табак, который я курю, из местности Гинге, превосходный, и очень жаль, что я не усваиваю его бальзамическую составляющую, которая оседает в слюне и которую я, таким образом, отбрасываю. Он считал, что сплевывать надо, если табак плох. Оценив его рассуждение, я сказал, что, в самом деле, трубка доставляет настоящее удовольствие, только если табак хорош.
– Совершенство табака, – ответил он, – разумеется, необходимо для получения удовольствия от курения; но это не главное, потому что удовольствие от хорошего табака – только чувственное. Истинные удовольствия – это те, что обращаются прямо к душе, минуя чувства.
– Я не могу себе представить, дорогой Юсуф, удовольствий, которые моя душа могла бы воспринять без участия моих чувств.
– Послушай. Когда ты набиваешь свою трубку, ты получаешь удовольствие?
– Да.
– К какому из своих чувств ты обращаешься, если не к своей душе? Продолжим. Не правда ли, что ты чувствуешь удовлетворение, когда твое действие уже полностью завершено? Ты получаешь удовлетворение, когда видишь, что в трубке остался только пепел.
– Это правда.
– Вот два удовольствия, в которых твои чувства явно не участвуют; но я прошу тебя догадаться о третьем, главном.
– Главное? Благоухание табака.
– Не так. Это удовольствие от запаха – оно чувственное.
– Я не знаю.
– Тогда слушай. Главное удовольствие от курения заключается в наблюдении дыма. Ты никогда не наблюдаешь его выходящим из трубки, но всегда – из угла твоего рта, через правильные интервалы, всегда не слишком частые. Это удовольствие тем более важное, ты никогда не увидишь слепого, наслаждающегося курением. Попробуй курить ночью в своей комнате без света, и после того, как ты зажжешь трубку, через секунду ты ее погасишь.
– То, что ты говоришь, истинная правда; но ты меня извинишь, если я замечу, что некоторые удовольствия, которые затрагивают мои чувства, пользуются моим предпочтением перед теми, которые интересуют только душу.
– Сорок лет назад я думал, как ты. Через сорок лет, если ты останешься разумен, ты будешь думать, как я. Удовольствия, мой дорогой сын, которые проистекают от движения страстей, расстраивают душу, так что ты чувствуешь, что они не могут быть с полным правом называться удовольствиями.
– Но мне кажется, что они тем не менее кажутся вам таковыми.
– Согласен; но если бы ты дал себе труд рассмотреть их после их употребления, ты бы не нашел их чистыми.
– Это может быть; Но зачем мне дается страдание, которое послужит только уменьшению удовольствия, испытанное мной?
– Придет возраст, когда ты почувствуешь удовольствие от этого страдания.
– Мне кажется, мой дорогой отец, что ты бы предпочел молодость возрасту зрелости.
– Говори смело, старости.
– Ты меня удивляешь. Должен ли я считать, что ты в молодости был несчастен?
– Далеко не так. Всегда здоровый и счастливый; никогда не был жертвой своих страстей; однако все, что я видел в своем кругу, явилось для меня хорошей школой, чтобы учиться понимать человека и указывать себе дорогу к счастью. Самый счастливый из людей – это не самый сластолюбивый, но тот, кто может сделать выбор между главными наслаждениями, а главные наслаждения, повторяю, это те, которые, не возбуждая страстей, увеличивают мир в душе.
– Это те наслаждения, которые ты называешь чистыми.
– Таков вид обширного луга, покрытого травой. Зеленый цвет, столь рекомендованный нашим божественным пророком, накладывается на мое зрение, и теперь я чувствую, как мой разум плавает в спокойствии столь дивном, что мне кажется, что я приближаюсь к создателю. Я чувствую такой же мир, такое же спокойствие, когда сижу на берегу реки и наблюдаю поток воды, текущий передо мной и не вносящий возмущения в мою жизнь, так, что его постоянное движение не делает воду менее прозрачной. Она представляется мне образом моей жизни, и спокойствие, которого я желаю, подобно течению воды, что я наблюдаю, которое не прекращается и закончится только в конце ее бега.
Так рассуждал этот турок, и мы провели таким образом четыре часа. У него было две жены, двое сыновей и дочь. Его старший, отделившийся от него, жил в Салониках, где занимался коммерцией и был богат. Младший жил в большом серале, на службе у султана, и находился на попечении опекуна. Его дочь по имени Зелми, пятнадцати лет, должна была стать после его смерти наследницей всего его состояния. Он дал ей все образование, которое можно пожелать, чтобы составить счастье тому, кого бог пошлет ей в мужья. Мы заговорили об этой девушке. Его жены умерли и вот уже пять лет, как он взял себе третью жену, родившуюся на Хиосе, совсем молодую и замечательно красивую, но он сказал, что не может надеяться заиметь от нее сына или дочь, поскольку уже стар. Ему было, однако, только шестьдесят лет. Покидая его, я должен был обещать проводить с ним не менее одного дня каждую неделю.
К ужину, когда я дал отчет г-дам Байо о проведенном дне, они сказали, что мне посчастливилось иметь возможность провести приятно три месяца в стране, где они, будучи иностранными министрами, могут только скучать.
Три-четыре дня спустя г-н де Бонневаль повел меня обедать к Исмаилу, где я наблюдал большое собрание азиатского высшего света; однако, поскольку было очень много гостей и говорили почти все время по турецки, я скучал, также, как мне кажется, и г-н де Бонневаль. Исмаил, который это заметил, пригласил меня при прощании приходить к нему завтракать так часто, как я смогу, чем доставлю ему истинное удовольствие. Я обещал и через десять-двенадцать дней пришел. В соответствующем месте читатель об этом узнает. Я должен, однако, вернуться к Юсуфу, который, при моем втором визите, проявил характер, внушивший мне к нему самое большое уважение и самую глубокую привязанность.
Мы обедали вдвоем, как в первый раз, и речь зашла об искусстве; я высказал свое мнение о запрете Алкорана, который лишил оттоманов невинного удовольствия наслаждаться произведениями живописи и скульптуры. Он мне ответил, что Магомет в своей истинной мудрости должен был удалить от глаз мусульман все рукотворные образы.
– Заметь, – сказал он, – что все народы, которым наш великий пророк дал познать Бога, были идолопоклонники. Люди слабы, и наблюдая снова те же объекты, они могли бы снова впасть в те же ошибки.
– Я думаю, мой дорогой отец, что ни одна нация не поклоняется образу, но всегда божеству, которое представляет этот образ.
– Я тоже хочу этому верить; однако, поскольку Богне может быть материален, надо удалить от вульгарных голов представление, что он может быть таков. Только вы, христиане, полагаете возможным видеть Бога.
– Это правда, мы в этом уверены, но заметь, прошу тебя, что то, что нам дает эту уверенность, это вера.
– Я это знаю; но вы не становитесь от этого менее идолопоклонниками, потому что то, что вы видите, – это только материя, и ваша уверенность основана на этом видении, по крайней мере, пока ты мне не скажешь, что вера это отрицает.
– Бог меня сохрани сказать тебе такое, потому что, наоборот, вера от этого становится крепче.
– Это иллюзия, в которой, слава Богу, мы не нуждаемся, и в мире нет такого философа, который мог бы убедить меня в необходимости этого.
– Это, мой дорогой отец, относится не к философии, но к теологии, которая намного выше первой.
– Ты говоришь на том же языке, что и наши теологи, которые, однако, отличаются от ваших тем, что не используют свою науку для того, чтобы сделать истины, которые мы должны понимать, более темными, а не наоборот, более светлыми.
– Подумай, мой дорогой Юсуф, о таинстве.
– Существование Бога – одно из них, и достаточно великое, чтобы люди не смели ничего к нему добавить. БОГ может быть только прост, это тот БОГ, о котором возвестил нам его пророк. Согласись, что нельзя ничего добавить к его сущности, чтобы не разрушить его простоту. Мы говорим, что он един, вот образ простоты. Вы говорите, что он один и их три в одно и то же время: это определение противоречивое, абсурдное и кощунственное.
– Это тайна.
– Ты говоришь о Боге или об определении? Я говорю об определении, которое не должно быть тайной и которое разум должен отвергнуть. Здравый смысл, дорогой сын, должен считать неуместным утверждение, суть которого абсурдна. Докажи мне, что три это не есть соединение или может им не быть, и я сразу стану христианином.
– Моя религия мне предписывает верить не рассуждая, и я трепещу, дорогой Юсуф, когда думаю, что в результате сложного рассуждения могу прийти к религии моего дорогого отца. Следовало бы начать с того, чтобы убедиться, кто же ошибается. Скажи мне, могу ли я, опираясь лишь на свою память, допустить себя в качестве своего собственного судьи, с намерением произнести осуждающий приговор.
После такого упрека я увидел, что почтенный Юсуф смущен. После двухминутного молчания он сказал, что, строя свои мысли таким образом, я могу быть только угоден Богу и, соответственно, спасен, но если я нахожусь в заблуждении, только Бог может из него извлечь, потому что он, Юсуф, не знает человека праведного, который был бы в состоянии опровергнуть чувство, которое я ему описал.
Мы говорили и о других вещах, очень доброжелательно, и к вечеру я покинул его, получив бесконечные изъявления самой чистой дружбы.
Идя к себе, я размышлял о том, что все, сказанное Юсуфом о сущности Бога, вполне правдоподобно, потому что, очевидно, вещь в себе (l’être des êtres) не может не быть, в сущности, наиболее простой из всех вещей; однако невозможно допустить, что, исходя из предположения об ошибочности христианской религии, я мог бы дать убедить себя стать турком, который может излагать вполне правильное представление о Боге, но способен лишь рассмешить меня со своей доктриной как самый экстравагантный из обманщиков. [14] 14
Allant chez moi je réfléchissais qu'il était bien possible que tout ce que Josouff m'avait dit sur l'essence de Dieu fût vrai, car certainement l’être des êtres ne pouvait être en essence que le plus simple de tous les êtres; mais qu'il était impossible qu'en conséquence d'une erreur de la religion chrétienne je pusse me laisser persuader à embrasser la turque, qui pouvait bien avoir de Dieu une idée très juste, mais qui me faisait rire, en ce qu'elle ne devait sa doctrine qu'au plus extravagant de tous les imposteurs
[Закрыть]Однако я не думал, что Юсуф хотел сделать из меня прозелита.
Когда я обедал с ним в третий раз и разговор, как всегда, зашел о религии, я спросил у него, не уверен ли он, что его религия – единственная, которая может привести смертного к вечному спасению. Он ответил, что не уверен в том, что она единственная, уверен, что христианская ошибается, потому что она не может быть универсальной.
– Почему?
– Потому что на двух третях земного шара нет ни хлеба, ни вина. Заметь, что Коран может быть принят везде.
Я не знал, что ему ответить, и не пытался слукавить, заявив однако, что Бог не материален и должен быть духом, на что он ответил, что мы могли бы знать, что его нет, но не то, что он есть, и что, соответственно, мы не могли бы утверждать, что он дух, потому что можем иметь о нем только абстрактную идею.
– Бог, – сказал он, – имматериален: вот все, что мы знаем, и мы никогда не узнаем больше.
Я вспомнил Платона, который говорил то же самое, но Юсуф, несомненно, не читал Платона [15] 15
арабы, несомненно, знали Платона – прим. перев.
[Закрыть].
Он мне сказал в тот день, что существование Бога полезно только для тех, кто в этом не сомневается, и что, соответственно, самые несчастные из смертных – атеисты.
– Бог, – сказал он, – сотворил человека по своему подобию потому, что среди всех созданий только человек может выразить благодарность за свое существование. Без человека Бог не имел бы никакого свидетеля своей славы; и человек, соответственно, должен понимать, что его первейшая обязанность есть прославлять вершителя правосудия и довериться Провидению. Смотри, как Бог никогда не покинет человека, который в своих бедствиях преклоняется перед ним и взывает о его помощи; и оставляет гибнуть без надежды несчастного, который полагает молитву бесполезной.
– Есть, однако, счастливые атеисты.
– Это правда; но, несмотря на спокойствие своей души, они, мне кажется, достойны сожаления, потому что не надеются ни на что после этой жизни и не воспринимают себя выше животных. Кроме того, они должны были бы томиться в невежестве, если они философы, и если они ни о чем не думают, у них не на что опереться в несчастье. Бог, наконец, создал человека таким, что он может быть счастлив, только не сомневаясь в своей божественной сущности. Каково бы ни было его существование, он имеет необходимую потребность его принять; без этой потребности человек никогда бы не воспринял Бога создателем всего.
– Но я хотел бы понять смысл, почему атеизм существует только в системах некоторых ученых, в то время как нет примера, чтобы он существовал в системе целой нации.
– Это так же, как бедный чувствует свои нужды гораздо сильнее, чем богатый. Среди нас есть много безбожников, которые насмехаются над верующими, возлагающими свои надежды на паломничество в Мекку. Несчастные! Они должны уважать древние монументы, которые, возбуждая благоговение верующих, питают их религию и облегчают их страдания в бедствиях. Без этих утешительных объектов невежественный народ впадет во все эксцессы отчаяния.
Юсуф, польщенный вниманием, с каким я слушал его доктрину, все больше предавался склонности меня поучать. Я стал проводить дни у него без приглашения, при этом его дружба становилась крепче. Однажды утром я приказал отвести себя к Исмаилу эфенди, чтобы позавтракать с ним, как обещал; но этот турок, встретив меня и приветствовав наилучшим образом, пригласил прогуляться с ним по маленькому саду, где в комнате отдыха ему пришла в голову фантазия которую я счел не в моем вкусе: я сказал ему со смехом, что я не любитель этих дел, и, наконец, утомленный его нежной настойчивостью, я поднялся, немного слишком резко. Исмаил, делая вид, что одобряет мое отвращение, сказал мне, что пошутил. После дежурных комплиментов я покинул его с намерением больше не возвращаться к нему; однако я был вынужден, и мы поговорим об этом в соответствующем месте. Когда я рассказал г-ну де Бонневаль эту историйку, он сказал, что по турецким представлениям Исмаил хотел мне выдать высокий знак своей дружбы, однако что я могу быть уверен, что он не преложит мне больше ничего подобного, если я вернусь туда еще раз, кроме того, Исмаил очень галантный мужчина, у которого имеются рабы замечательной красоты. Он сказал, что вежливость требует, чтобы я туда еще вернулся.
Через пять или шесть недель нашего знакомства Юсуф спросил у меня, женат ли я. Услышав ответ, что нет, он коснулся вопроса целомудрия, которое он мог рассматривать как добродетель только по отношению к воздержанию, которое, однако, не может быть близко богу, должно быть ему противно, потому что нарушает его первую заповедь человеку.
Но я хотел бы знать, – сказал он, – что такое это целомудрие ваших мальтийских рыцарей. Они дают обет целомудрия. Это не означает, что они будут воздерживаться от любого плотского действия, потому что, если это преступление, все христиане совершают его при зачатии. Этот обет заключается лишь в обязательстве не жениться. Таким образом, целомудрие может быть нарушено лишь браком, и я вижу, что брак – это одно из ваших таинств. Эти господа обещают лишь, что они не совершат никогда плотского деяния, в то время как божий закон его им позволяет, и они вольны его выполнять незаконно, вплоть до власти признавать своими детьми детей, которых они смогли бы заиметь лишь в результате двойного преступления. Они их называют естественными, как будто рожденные в брачном союзе, заключенном в таинстве, не являются таковыми. Обет целомудрия, наконец, не может быть угоден ни Богу, ни людям, ни тем, кто его соблюдает.
Он спросил меня, женат ли я. Я ответил ему, что нет, и что надеюсь никогда не заключать этот союз.
– Как! – сказал он, – я должен полагать, что ты либо не настоящий мужчина, либо что ты хочешь предать себя проклятию, если только ты не скрыл от меня, что ты не являешься христианином, как можно предположить по видимости.
Я настоящий мужчина и я христианин. Я скажу тебе, кроме того, что люблю прекрасный пол и надеюсь, если повезет, им попользоваться.
– Ты будешь осужден по законам твоей религии.
– Уверен, что нет, потому что когда мы исповедуемся в своих преступлениях своим священникам, они обязаны нам их отпускать.
– Я это знаю; но согласись, что есть что-то глупое в том, чтобы рассчитывать на то, что Бог простит тебе проступок, который ты, быть может, и не совершил, если бы не был уверен, что исповедник тебе его простит. Бог прощает только раскаявшегося.
– Это несомненно, и вера это предполагает. Если это не так, отпущение не имеет силы.
– Мастурбация у вас также преступление.
– И более тяжкое, чем незаконное соитие.
– Я это знаю; и это меня всегда удивляет, потому что любой законодатель, издающий закон, выполнение которого невозможно, – глупец. Мужчина, у которого нет женщины и который здоров, обязательно должен мастурбировать, когда властная природа заставляет его ощутить эту потребность. Тот, кто из страха осквернить свою душу смог бы удерживаться, может получить смертельную болезнь.
– У нас считают совсем наоборот. Полагают, что молодые люди этим действием портят свой темперамент и укорачивают себе жизнь. В большинстве сообществ за этим наблюдают и не допускают их до этого преступления.
– Эти надзиратели суть животные, и те, кто платит им за это, – дураки, потому что запрет сам должен усиливать желание нарушить закон, такой тиранический и противный натуре.
– Но, однако, мне кажется, что злоупотребление этим расстройством должно причинять вред здоровью, потому что оно возбуждает и ослабляет.
– Согласен; но это злоупотребление, по крайней мере, когда оно не спровоцировано, не может существовать, и те, кто его запрещает, его провоцируют. Если вас не беспокоит эта проблема среди девочек, я не вижу, почему она смущает вас среди мальчиков.
– Девочки не подвергаются такому большому риску, потому что теряют при этом лишь очень немного субстанции, которая не исходит при этом из того источника, в котором заключается жизненное начало у мужчины.
– Я об этом ничего не знаю, но у нас есть доктора, которые считают, что малокровие у девочек происходит от этого.
Юсуф Али после этой беседы и после многих других, в которых он, тем не менее, не склонил меня к своему мнению, счел меня, как мне казалось, весьма рассудительным, и сделал мне предложение, которое меня удивило, в таких примерно, или мало отличающихся от этого, словах и выражениях.
– У меня есть два сына и дочь. Я не думаю больше о сыновьях, потому что их судьба от меня уже не зависит. Но что касается дочери, она получит после моей смерти все мое имущество, и в моих силах составить судьбу того, кто женится на ней при моей жизни. Пять лет, как я взял себе молодую женщину, но она не дала мне ребенка, и я уверен, что больше не даст, потому что я уже стар. Дочь, по имени Зельми, пятнадцати лет, красива, с черными глазами и волосами как пламя, от своей матери, высокая, хорошо сложенная, с мягким характером и воспитанием, которое я ей дал, достойная завоевать сердце нашего султана. Она говорит по-гречески и по-итальянски, она поет, аккомпанируя своим ариям на арфе, она рисует, вышивает, и она всегда весела. В мире нет мужчины, который мог бы гордиться тем, что видел ее лицо, и она меня так любит, что не смеет иметь другой воли, кроме моей. Эта девушка сокровище, и я предлагаю ее тебе, если ты захочешь провести год в Адрианополе у одного из моих родственников, где изучишь наш язык, нашу религию и наши обычаи. Через год ты вернешься сюда, где, после того, как ты станешь мусульманином, моя дочь станет твоей женой, и ты обретешь дом и рабов, для которых ты будешь хозяином, и ренту, с помощью которой ты сможешь жить без забот. Это все. Я не хочу, чтобы ты отвечал мне ни сейчас, ни завтра, ни в какой-либо другой установленный срок. Ты мне ответишь, когда почувствуешь, что твой Гений понуждает тебя ответить, и это будет знаком, что ты принимаешь мое предложение, потому что если ты его не принимаешь, бесполезно нам еще раз говорить об этом. Я не советую тебе также и думать об этом деле, потому что с того момента, как я заронил семя в твою душу, ты не найдешь советчика ни для согласия, ни для отказа от моего предложения. Не торопясь, не медля и не тревожась, ты выполнишь только волю Бога, следуя бесповоротно воле своей судьбы. Такому, как я тебя знаю, тебе необходимо только общество Зельми, чтобы быть счастливым. Ты станешь, я это предвижу, столпом оттоманской империи.
После этой короткой речи Юсуф прижал меня к груди и, убедившись, что я не отвечаю, покинул меня. Я вернулся к себе, настолько занятый мыслями об этом предложении Юсуфа, что не замечал дороги. Байо нашли меня задумавшимся, как и г-н де Бонневаль позавчера, и спрашивали о причине; но я остерегся рассказывать о ней. Я считал вполне правдоподобным то, что Юсуф мне сказал. Это дело было настолько важным, что я не должен был не только никому об этом сообщать, но и воздерживаться думать об этом, пока не почувствую, что рассудок мой достаточно успокоился, чтобы быть уверенным, что никакое дуновение ветра не нарушит мое равновесие, в котором я должен определиться. Все мои страсти должны были замолчать – пристрастия, предрассудки, и даже личная заинтересованность. Назавтра, при моем смутном пробуждении, любое размышление об этом деле могло бы помешать мне определиться, и поскольку мне нужно было это сделать, надо было сделать, не раздумывая. Это был случай sequere Detimстоиков [16] 16
Следуй богу. Следуй своей судьбе
[Закрыть]. Четыре дня я не приходил к Юсуфу, и когда пришел на пятый день, мы весело курили и даже не думали говорить хоть слово о деле, о котором не могли не думать. Мы провели так пятнадцать дней, но, поскольку наше молчание об этом деле не происходило ни от разобщения, ни от чего-то, отличного от дружеских побуждений и взаимного уважения, он, сидя рядом со мной, касаясь предложения, которое мне сделал, предположил, что я сообщил о нем кому-то умному, чтобы обрести добрый совет. Я заверил его в обратном, сказав, что я считаю, что в деле такой важности я не должен следовать ни чьему совету.
– Я положился на Бога, – ответил я ему, – и, питая к нему полное доверие, уверен, что приму правильное решение, либо став твоим сыном, либо оставшись таким, каков я есть. В ожидании этого мысль об этом деле занимала мою душу утром и вечером, до момента, когда, наедине с самим собой, решение пришло в полнейшем спокойствии. Когда я принял решение, ты, мой отец, – тот, кому я передаю эту новость, и с этого момента ты стал обладать для меня авторитетом отца.
При этом объяснении я увидел слезы, стекающие из его глаз. Он положил левую руку мне на голову и второй и третий пальцы правой на середину моего лба, и сказал, чтобы я продолжал и был уверен, что не ошибаюсь. Я спросил, не может ли так оказаться, что его дочь Зельми сочтет, что я не в ее вкусе.
– Моя дочь тебя любит, – ответил он, – она тебя видела, вместе с моей женой и с гувернанткой, всякий раз, как мы обедали вместе, и она тебя слушала с большим удовольствием.
– Но она не знает, что ты хочешь сделать ее моей женой.
– Она знает, что я хотел бы соединить ее судьбу с твоей.
– Я очень рад, что тебе не позволено допустить меня ее увидеть, потому что она могла бы меня ослепить, и к тому же возникнет страсть, которая послужит толчком, который нарушит мое равновесие и я не смогу определиться в полной чистоте моей души.
Радость Юсуфа, услышавшего мое рассуждение, была наивысшая, и я говорил с ним без малейшего двуличия и очень искренне. Сама мысль увидеть Зельми заставляла меня трепетать. Я чувствовал уверенность, что, не колеблясь, стану турком, если влюблюсь в нее, в то же время, если я останусь безразличным, уверен, что никогда не решусь на поступок, который, при прочих условиях, не имел для меня ничего притягательного и, наоборот, являл весьма безрадостную картину как в отношении настоящего, так и в будущем, Относительно богатств – я мог надеяться обрести такие же благодаря милости фортуны в Европе, без необходимости сменить религию; мне казалось, что я не должен был быть безразличен к презрению всех тех, кто меня знал и уважение которых хотел заслужить. Я не мог решиться распрощаться с прекрасной надеждой стать знаменитым среди просвещенных наций, в искусстве, в литературе либо в каком-то другом качестве, и я не мог перенести мысль забыть о триумфах среди равных, которые, быть может, были мне приуготовлены, живи я среди них. Мне казалось, и я в этом не обманывался, что решение принять тюрбан, могло прийти только разочаровавшимся, и я не из их числа. Но что больше всего меня отвращало, это идея отправиться жить год в Андрианополе, чтобы учиться говорить на варварском языке, к которому я не имел никакой склонности и который, соответственно, не мог надеяться изучить в совершенстве. Я не мог отказаться без сожаления от тщеславного желания считаться красноречивым, каковую репутацию я повсюду уже заслужил. Кроме того, я думал, что очаровательная Зелми может не остаться таковой в моих глазах, и что это сможет сделать меня несчастным, потому что Юсуф может прожить еще лет двадцать, и я чувствовал, что мои уважение и благодарность никогда не допустят меня до того, чтобы решиться причинить боль доброму старику, перестав оказывать его дочери все те знаки внимания, что я должен. Таковы были мои мысли, о которых Юсуф не мог догадываться, и которые не было необходимости ему излагать.
Несколько дней спустя я встретил Исмаила на обеде у моего дорогого Османа-паши. Он выказал мне знаки внимания, на которые я ответил, и я потонул в упреках, что давно не появлялся с ним завтракать; я не смог отделаться от приглашения пообедать у него вместе с г-ном де Бонневаль. Я явился туда в назначенный день и после обеда наслаждался красивым спектаклем, показанным неаполитанскими рабами обоего пола, которые исполняли фарс-пантомиму и танцевали калабрийские танцы. Г-н де Бонневаль рассказал о венецианском танце, называемом Фурлана, и Исмаил нашел это любопытным. Я сказал, что невозможно его показать без танцовщицы моей страны и без скрипки, которая должна подыгрывать. Взяв скрипку, я наиграл ему мелодию, но когда захотели посмотреть и танец, я не смог одновременно играть музыку и танцевать. Исмаил поднялся и отошел в сторону с евнухом, который ушел и через три-четыре минуты вернулся, сказав ему что-то на ухо. Исмаил сказал, что нашли танцовщицу, и чтобы я сказал, могу ли я найти также музыканта на скрипке, если он отправит записку в Отель Венеции. Все было проделано очень быстро. Я написал записку, он ее отправил, и слуга Байо Дона явился через полчаса со своей скрипкой. Тут же дверь в углу залы открылась и появилась прекрасная женщина с лицом, прикрытым черной велюровой маской в форме овального лица, которое в Венеции называется Моретта. Появление этой маски удивило и очаровало все собрание, невозможно было представить себе более интересного персонажа, как по красоте форм, так и по элегантности туалета. Богиня встала в позицию, я ее сопровождал, и мы станцевали шесть фурлан подряд. Я задыхался, так как это самый энергичный из национальных танцев, но красавица осталась стоять, неподвижно, без малейших признаков усталости, и как бы бросала мне вызов. В «рондо» балета, самой утомительной части, она, казалось, парила, вызывая во мне невольное изумление. Я не припоминаю, чтобы видел такое прекрасное исполнение этого балета в самой Венеции. После короткого отдыха, немного пристыженный своей слабостью, я снова подошел к ней и сказал: « Ancora sei, e poi basta, se non voleté vedermi a morire» [17] 17
Еще шесть и хватит, если вы не хотите, чтобы я умер (ит.)
[Закрыть].
Она бы, наверное, мне ответила, если бы смогла, потому что в такой маске невозможно произнести ни слова; но она мне многое сказала пожатием руки, которое никто не мог видеть. После вторых шести фурлан евнух открыл ту же дверь и она исчезла.
Исмаил рассыпался в благодарностях, но это я должен был благодарить, потому что это было единственное настоящее удовольствие, которое я получил в Константинополе. Я спросил у него, не была ли дама венецианкой, но он ответил мне лишь тонкой улыбкой. К вечеру мы ушли.








