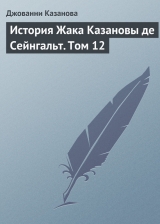
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 11"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Посол рассчитывает представить тебя ко двору в Аранхуэсе на следующей неделе, и он хочет, чтобы ты обедал с ним сегодня, в многочисленной компании.
– Я приглашен к Менгсу.
– Я пойду пригласить Менгса, и если он откажется, в этом случае тебе следует отказаться пойти к нему, потому что ты понимаешь прекрасный эффект, который должно произвести твое появление у посла, которое станет твоим триумфом.
– Это правда. Иди к Менгсу; и я пойду обедать к послу.
Глава II
Кампоманес. Олавидес. Сиерра Морена. Аранхуэс. Менгс. Маркиз Гримальди. Толедо. Мадам Пеллисия. Возвращение в Мадрид к отцу донны Игнасии.
В основных превратностях моей судьбы частные обстоятельства складывались так, чтобы сделать мой бедный ум немного суеверным. Я чувствую себя униженным, когда, углубляясь в себя, обнаруживаю эту возможность. Но как от этого защититься? Так устроено в природе, что судьба формирует человека, который отдается ее капризам, то, что делает малый ребенок с биллиардным шаром слоновой кости, когда пускает его в одну сторону, в другую, смеясь, когда он попадает в лузу; но это не то же самое, мне кажется, когда фортуна делает с человеком то, что делает с шаром опытный игрок, который рассчитывает силу, скорость, дистанцию и равенство реакции; это не естественно для моей натуры, когда я оказываю фортуне честь считать ее знающей геометрию, ни когда я приписываю этому метафизическому понятию следование законам физики, объектом которых считаю всю природу. Вопреки этому рассуждению, то, что я наблюдаю, меня удивляет. Эта фортуна, которой, как синонимом случая, я должен пренебрегать, становится уважаемой, как если бы она хотела казаться мне божеством в самых решающих событиях моей жизни. Она развлекается, показывая мне каждый раз, что она не слепая, как о ней говорят; она никогда мне ничего не портит без того, чтобы меня в той же мере не приподнять, и, как кажется, она никогда не поднимает меня высоко, чтобы не доставить себе удовольствие в следующий момент увидеть, как я падаю. Кажется, она желает пользоваться абсолютной властью надо мной единственно для того, чтобы убедить меня, что она разумна, и что она владычица всего; чтобы доказать мне это, она использует поразительные способы, все направленные на то, чтобы заставить меня действовать в силу обстоятельств, и чтобы заставить меня понять, что моя воля, – и это далеко от того, чтобы считать меня свободным, – есть только инструмент, которым она пользуется, чтобы делать из меня то, что она хочет.
Я не могу польстить себе, что я чего-то достиг бы в Испании без помощи посла моей страны, а этот, робкий, ни на что бы не осмелился без письма, которое я ему представил; и это письмо не имело бы никакого продолжения, если бы не прибыло как раз в тот момент, когда произошел мой арест и возмещение, которое граф д’Аранда мне дал, сделав событием дня.
Это письмо заставило краснеть посла за то, что он ничего не сделал для меня до его прибытия; но он не потерял надежды внушить публике, что граф д’Аранда дал мне столь значительное возмещение лишь потому, что он его на это подвигнул. Его фаворит, граф Мануччи, пришел, со своей стороны, чтобы пригласить меня обедать, и, к счастью, я был приглашен вместе с Менгсом. Мануччи догадался пригласить Менгса от имени посла, что весьма польстило самолюбию этого человека, у которого я скрывался, хотя и безуспешно. Это приглашение явилось в его глазах знаком благодарности, которая избавила его от унижения, которое он испытывал за то, что позволил забрать меня от него. Приняв приглашение и узнав от того же Мануччи, что я тоже приглашен, он написал мне записку, чтобы известить, что заедет за мной в час в своей коляске.
Я направился к графу д’Аранда, который, заставив меня прождать четверть часа, вышел с бумагами в руке.
– Дело окончено, – сказал он мне со спокойным видом, – и я полагаю, что вы можете быть довольны. Вот письма, которые я даю вам, чтобы вы их прочли.
Я вижу мои три письма, к нему, к герцогу де Лосада и министру Милосердия и Юстиции.
– Почему я должен их прочесть, монсеньор? Они написаны в знак подчинения меня сеньору алькальду.
– Я знаю. Прочтите все это, и вы увидите, что, несмотря на всю вашу правоту, так писать нельзя.
– Я прошу у вас прощения. Человек решившийся убить себя, как я, должен писать именно так. Я полагал, что все это было сделано по приказу Вашего Превосходительства.
– Вы совершенно меня не знаете. Пойдите однако поблагодарить дона Эммануэля де Рода, который непременно хочет с вами познакомиться, и вы доставите мне удовольствие сходить разок, когда вам будет угодно, к алькальду, не для того, чтобы просить у него прощения, но чтобы загладить все те несправедливые обвинения, что вы высказали ему в своем письме. Если вы расскажете об этом деле принцессе Любомирской, скажите ей, что, как только я ее увижу, я постараюсь загладить свою вину.
Исполнив, таким образом, мой долг по отношению к графу д’Аранда, я нанес визит полковнику Рохас, который сказал мне ясно и откровенно, что я очень неправильно поступил, сказав графу д’Аранда, что я удовлетворен.
– На что я мог претендовать?
– На все. Потребовать смещения алькальда. Возмещения страданий, которые заставили вас вытерпеть в этом ужасном месте, в виде некоей суммы денег. Вы находитесь в стране, где вам не нужно молчать, разве что имея дело с Инквизицией.
Этот полковник Рохас, который сегодня генерал, – один из самых любезных людей, кого я знал в Испании.
Я вернулся к себе и Менгс заехал за мной. Посол высказал мне тысячу любезностей и рассыпался в похвалах художнику Менгсу за то, что, укрыв меня у себя, тот постарался защитить меня от несчастья, которое должно было со мной случиться. За столом я рассказал в деталях все то, что вытерпел в Буон Ретиро, и о беседе, которую я только что имел с графом д’Аранда, который вернул мне мои письма. Захотели их прочесть, и каждый высказал свое мнение. Среди приглашенных были консул Франции, аббат Бильярди, дон Родриго де Кампоманес, очень известный, и известный же дон Пабло д’Олавидес. Каждый высказал свое мнение о моих письмах, которые посол осудил, назвав их свирепыми; но Кампоманес признал, что мои письма, не содержащие никаких оскорблений, были именно то, что нужно, чтобы заставить читающего отнестись ко мне по справедливости, будь то даже король. Олавидес и Бильярди были того же мнения. Менгс присоединился к мнению посла и пригласил меня поселиться у него, чтобы перестать быть объектом клеветнических измышлений шпионов, которыми заполнен весь Мадрид. Я принял приглашение Менгса лишь после многих просьб и после слов посла о том, что я обязательно должен дать шевалье Менгсу эту сатисфакцию, потому что, помимо того, что это нужно для него, этим он окажет мне также большую честь.
Настоящее удовольствие от этого обеда я получил, благодаря знакомству с Кампоманесом и с Олавидесом. Эти два человека были склада ума, чрезвычайно редкого в Европе, так как, будучи учеными, они знакомы были со всеми предрассудками и злоупотреблениями в области религии, и не только осмеливались осуждать их публично, но и открыто старались их разрушить. Кампоманес был тот, кто дал графу д’Аранда весь материал против иезуитов, с которым тот изгнал их в один день из всей Испании. Этот Кампоманес был косоглазый, граф д’Аранда был косоглазый и генерал иезуитов был косоглазый; я посмеялся за столом над войной между тремя косыми, из которых один, естественно, был разбит двумя другими. Я спросил Кампоманеса, почему он возненавидел иезуитов, и он ответил, что он ненавидит их не более, чем другие религиозные ордена, и что если бы зависело только от него, он бы их все уничтожил. Он был автором всего того, что было опубликовано против сообществ « мертвых рук», был связан дружбой с послом Венеции, который сообщил ему все то, что Сенат сделал против монахов, – сообщение, в котором Кампоманес бы не нуждался, если бы прочел и выполнял все то, что наш Фра Паоло Сарпи так правильно написал по этой теме. Кампоманес, проницательный, смелый, активный, ведающий налогами в высшем Совете Кастилии, в котором д’Аранда был президентом, считался человеком, который действует не в своих частных интересов, а для блага государства. Государственные люди его уважали и ценили, но монахи, священники, ханжи и все канальи, способные предположить, что его действия не нравятся богу и святым, если направлены против временных интересов церковников и людей «мертвой руки», смертельно ненавидели Кампоманеса. Инквизиция поклялась его погубить, и все говорили, что Кампоманес либо должен был стать епископом, либо заключен в одну из тюрем инквизиции на всю жизнь. Это предсказание исполнилось только частично. Кампоманес был заключен в тюрьму Инквизиции четыре года спустя после этой эпохи, оставался там три года и вышел, только принеся публичное покаяние. Олавидес, его друг, был наказан более сурово; и сам граф д’Аранда не избавился бы от преследований этого ужасного монстра, если бы, будучи человеком глубокого ума, не попросил для себя посольства во Франции, которое король ему сразу поручил, радуясь тому, что избежал необходимости предать его проклятой ярости монахов.
Карл III, который умер безумным, как должны были бы умирать почти все короли, проделал вещи, немыслимые для тех, кто его знал, потому что он был слаб, материалистичен, упрям, предан до чрезвычайности религии и готов был скорее умереть сотню раз, чем осквернить свою душу самым малым из смертных грехов. Каждый знает, что такой человек должен быть полностью рабом своего исповедника. Эксцессы, совершенные иезуитами в Португалии, в Индиях и во Франции, сделали их ненавистными и дискредитировали их во всех четырех частях света; и преступление иезуита-исповедника короля дона Фердинанда VI, которое стало причиной падения Энсенады, научило Карла III, его наследника, что не следует брать в исповедники иезуита, поскольку интересы государства требовали устранения Лос Театинос. Так их называют сейчас в Испании, и называют Гаэтаностеатинцев.
Этот исповедник, который загладил все сомнения короля по поводу большой операции по сведению на нет этого религиозного ордена, был также вынужден уступить королю и позволить ему действовать, когда в то же время граф д’Аранда показал ему, что он должен поставить пределы слишком большой мощи Инквизиции, высшим достижением которой было держать христиан в невежестве, сохранять в силе злоупотребления, суеверие и pia mendacia [7] 7
благочестивые враки – Овидий, Метаморфозы
[Закрыть]; политикой исповедника было предоставить все течению времени. Он был уверен, что король впадет в пропасть суеверия, сам не желая этого, и он этого добился. Я, однако, так и не смог узнать, дали ли королю через два года после моего отъезда нового исповедника, потому что, к несчастью для бедного рода человеческого, известно, что король-богомолец делает только то, что позволяет ему делать его духовник, и очевидно, его главным интересом не может быть благо государства, потому что религия, такая, как она есть, этому прямо противится. Если мне говорят, что мудрый король ни за что не должен впутывать в свою исповедь дела государства, я с этим соглашусь; но я здесь не говорю о короле мудром, потому что, если он таков, будучи христианином, он должен ходить на исповедь только раз в году, и слушать только те слова своего духовника, которые тот произносит, отпуская ему грехи; если этот король нуждается в том, чтобы тот разрешал его сомнения, – он глуп; сомнения и угрызения суть одно и то же; тот, кто идет на исповедь, должен знать основы своей религии, прежде чем туда идти. Никаких сомнений, никаких совещаний с духовником. Людовик XIV был бы самым великим королем на земле, более великим, чем Фридрих II Прусский, как и Франция более велика, чем Пруссия, если бы не имел слабости болтать со своими духовниками.
В то время кабинет Испании был занят одной замечательной операцией. Была приглашена тысяча семей из разных кантонов Швейцарии, чтобы поселить их в прекрасной пустынной местности, называемой «Лас Сьеррас де Морена», имя, знаменитое в Европе и хорошо известное всем тем, кто читал шедевр Сервантеса, замечательный роман, описывающий историю дона Кихота. Этому месту природа дала все блага, чтобы оно было населенным, превосходный климат, плодородную землю, чистую воду, очень счастливое положение, потому что Лас Сьеррас, что означает горы, находятся между королевствами Андалузия и Гренада; и, несмотря на это, эта прекрасная страна, это пространство, обширное и прекрасное, была пустынна. Король Испании решил сделать подарок колонистам, чтобы эти земли стали плодоносными, он пригласил их, оплатив путешествие, они прибыли, они согласились, и правительство пошло на расходы, чтобы их поселить и поддержать в материальном и духовном смысле. Это предприятие было поддержано г-ном Олавидесом, человеком умным и начитанным. Он совещался с министрами в Мадриде, чтобы хорошо обустроить это население, дать ему судей, чтобы обеспечить доступное правосудие, священников, поскольку, разумеется, эти швейцарцы были все католики, губернатора, все необходимое, чтобы они могли построить дома, церкви, и даже театр или цирк для боя быков, спектакля, любимого в Испании, настолько прекрасного, настолько гуманного, настолько естественного и разумного, что мыслители этой страны не понимают, как могут быть в мире нации, которые обходятся без этого спектакля. Добрые эмигранты, стало быть, из Швейцарии нашли в Сьерра Морена обширный амфитеатр округлой формы, чтобы разыгрывать в определенные дни этот утонченный спектакль.
Дон Пабло д’Олавидес в мемуарах, которые он представил для наибольшего процветания этой прекрасной колонии, сказал, что следует исключить все учреждения монахов, и дал этому весьма разумные основания; но когда он даже показал их непогрешимость, с компасом в руке, ему все-таки не следовало делать этого, приобретя врагами всех монахов Испании, и особенно епископа, для которого Морена составляла часть диоцеза. Испанские священники говорили, что он прав, но монахи вопили о кощунстве, и сразу начались гонения; об этом говорилось за столом у посла.
Послушав все, что они говорят, я сдержанно заметил, что колония испарится в самое короткое время из-за нескольких причин, физических и моральных. Главная, что я привел, была та, что швейцарский человек – это создание, во многом отличное от других людей.
– Это растение, – сказал я им, – которое, будучи пересаженным из земли, где оно родилось, умрет. Швейцарцы подвержены болезни, которую называют Heimwèh, которая требует возвращения, которую греки называли «Ностальгия»; когда они оказываются вдали от своей родины на длительное время, эта болезнь ими овладевает, единственное от нее лекарство – это возвращение на родину; если они не делают этого, они умирают.
Я сказал, что можно было бы попробовать объединить их с другой колонией испанцев, чтобы произошло слияние посредством браков; я сказал, что, по крайней мере в начале, следует дать им священников и судей – швейцарцев, и при этом заявить их свободными от всякой инквизиции в их области, потому что настоящий швейцарец имеет обычаи и законы в любовных отношениях, которые неотделимы от их природы, и церемонии, которые испанская церковь не признает никогда, что приведет к тому, что болезнь тяги к возвращению овладеет ими в очень короткое время.
Мое рассуждение, которое вначале показалось дону Олавидесу не более чем забавой, заставило его в конце понять, что все, что я сказал, может быть правдой. Он просил меня изложить письменно мои мысли и сообщить только ему лично все разъяснения, которые могут быть у меня по этому вопросу. Я обещал дать ему прочесть все, что я думаю, и Менгс назначил день, когда он мог бы прийти к нему обедать. Это было на следующий день после того, как я перевез к Менгсу весь свой небольшой багаж и стал работать над вопросом о колониях, рассматривая его в физическом и в философском аспекте.
Я был представлен назавтра дону Эммануэлю де Уода, который, вещь весьма редкая в Испании, был литератором. Он любил латинскую поэзию, обладал вкусом к итальянской, отдавая ей предпочтение перед испанской. Он оказал мне очень почетный прием, он просил меня приходить повидаться и засвидетельствовал свое глубокое сожаление по поводу неприятности, которую мне доставило заключение в Буон Ретиро. Герцог де Лосада поздравил меня с тем, что посол Венеции хорошо говорил всем обо мне, и подбодрил в моих попытках найти здесь применение моим талантам, предложив мне кое-что, в чем я мог бы быть полезен правительству, и пообещав свою всяческую поддержку. Принц де ла Католика дал мне обед вместе с послом Венеции. За три недели, живя у Менгса и обедая часто у посла, я сделал множество прекрасных знакомств. Я думал о том, чтобы начать работать в Испании, потому что, не получая писем из Лиссабона, я не осмеливался ехать туда, полагаясь на случай. Португальская дама больше мне не писала, у меня не было никаких сведений о том, что с ней стало.
Мое привычное вечернее времяпрепровождение происходило у м-м Сабатини, у испанской дамы, собиравшей «тертулии», т. е. ассамблеи людей литературы, всех невысокого качества, и у герцога де Медина Сидония, Великого берейтора короля, литератора, человека умного и основательного, которому я был представлен доном Доминго Варнье, личным пажом короля, с которым меня познакомил Менгс. Я часто ходил к донне Игнасии, но, не имея возможности остаться с ней наедине, скучал. Когда я, улучив момент, говорил ей, что она должна подумать устроить какое-то развлечение со своими некрасивыми кузинами, потому что в этой компании я смогу выдать ей знаки постоянства своих чувств, она отвечала, что она этого хочет не меньше меня, но что в эти дни она должна отбросить от себя всякую идею такого рода, так как приближается святая неделя, Бог умер за нас, следует думать не о преступных удовольствиях, но о покаянии. После Пасхи мы сможем подумать о наших любовных делах. Таков характер почти всех набожных красавиц в Испании.
За две недели до Пасхи король Испании покинул Мадрид, чтобы направиться вместе со всем двором в Аранхуэс. Посол Венеции пригласил меня ехать туда, чтобы жить у него и иметь все возможности для представления. Накануне дня, когда мы должны были ехать, меня схватила лихорадка, когда я сидел в коляске рядом с Менгсом, и мы ехали с визитом к вдове художника Амигони… Эта лихорадка охватила меня вместе с ознобом, которому я не мог найти правильного объяснения, и причинила мне такую дрожь, что я должен был прислонить голову к империалу коляски. Мои зубы стучали, я не мог произнести ни слова. Менгс, испуганный, велел кучеру скорей вернуться домой, где быстро уложил меня, и где четыре или пять часов спустя обильный пот, в течение десяти-двенадцати часов подряд, заставил выйти из моего организма не менее двадцати пинт воды, которая растеклась по комнате, просочившись через два матраса и подстилку. Сорок восемь часов спустя лихорадка прекратилась, но слабость продержала меня в постели восемь дней. В святую субботу я сел в коляску и направился в Аранхуэс, где нашел очень хороший прием и очень хорошее жилье у посла; но небольшой бубон, который у меня был при отъезде из Мадрида в месте, где у меня была фистула, так растревожился во время путешествия из-за тряски коляски, что вечером, по прибытии в Аранхуэс, он мне стал сильно досаждать. Ночью этот бубон стал величиной с большую грушу, так что в день Пасхи я не смог встать, чтобы идти к мессе. В пять дней эта опухоль дала абсцесс величиной с дыню: были озабочены не только посол и Мануччи, но старый французский хирург короля, который клялся, что в жизни не видел ничего подобного. Один я, нимало не заботясь, так как мой абсцесс не причинял мне никакой боли и не был твердым, сказал хирургу его вскрыть. Я дал ему описание, в присутствии врача, особенностей лихорадки, которая случилась у меня в Мадриде, и убедил его, что мой абсцесс может происходить только от скопления лимфы, которая выделялась в этом месте и, как только ее удалят, вернет мне здоровье. Мое рассуждение было сочтено врачом вполне правильным, хирург взялся за свое ремесло: он сделал мне отверстие в шесть дюймов, подложив под меня большую подстилку в тридцать два слоя. Хотя мой абсцесс не мог содержать больше, чем пинту жидкости, тем не менее лимфа, которая выходила из моего тела в течение четырех дней, была столь же обильна, как и та, что выходила из меня в виде пота при лихорадке, которая была у меня у Менгса. По истечении этих четырех дней почти нельзя было найти следа того отверстия, что мне сделали. Я должен был еще оставаться в постели из-за слабости; однако я был весьма удивлен, когда получил в кровати письмо от Менгса, которое мне доставили нарочным. Я вскрываю его и вижу то, что, на плохом итальянском, стоит у меня перед глазами:
«Вчера кюре моего прихода вывесил на двери своей приходской церкви имена всех тех, кто живет в его приходе и кто, не веря в Бога, не отметили его Пасху. Между их именами я увидел ваше, и должен был вынести дурное замечание кюре, который с горечью души сказал мне, что поражен, видя, что я оказываю гостеприимство инаковерующим. Я не знал, что ему ответить, потому что вы действительно могли бы задержаться в Мадриде еще на день и исполнить долг христианина, даже если это делается из внимания по отношению ко мне. Мой долг королю, моему хозяину, забота о моей репутации и мое спокойствие в будущем обязывают меня, между тем, известить вас, что мой дом – более не ваш. По вашем возвращении в Мадрид вы поселитесь, где хотите, и мои слуги отвезут ваши вещи туда, куда скажете. Остаюсь, и т. д., Рафаэль Менгс».
Это письмо произвело на меня столь сильное впечатление, что Менгс не написал бы мне его, если бы не находился от меня на расстоянии в семь больших испанских лье. Я немедленно отослал нарочного. Он ответил, что у него приказ ждать моего ответа, на что я разорвал письмо и сказал ему, что это единственный ответ, какого заслуживает подобное письмо. Он ушел, весьма удивленный. Не теряя времени и пылая гневом, я оделся и отправился в портшезе в церковь Аранхуэса, где исповедался монаху-францисканцу, который на следующий день в шесть часов дал мне причастие. Этот монах имел любезность выписать мне сертификат, что я был прикован к постели с момента моего прибытия в al sitio( резиденцию), и что, несмотря на мою слабость, я исполнил пасхальные обряды в его церкви и причастился у него накануне. Затем он сказал мне имя кюре, который вывесил мое имя на двери церкви.
Дома я написал кюре, что чтение сертификата, что я ему направляю, даст ему понять причину, которая заставила меня отложить совершение пасхального обряда, и что, соответственно, я прошу его исключить мое имя из листа, которым он проявил несправедливость, меня опозорив. Я попросил его отнести это исключение шевалье Менгсу.
Я написал Менгсу, что я заслуживаю обиду, которую он мне нанес, выгнав из дома, потому что я имел глупость туда прийти; но, в качестве христианина, который только что отметил Пасху, я должен не только его простить, но и передать ему стих, известный всем благородным людям, исключая его, который гласит: « Turpius ejicitur quam non admitlitur hospes» [8] 8
Более стыдно выгнать гостя, чем его не принять. Из Овидия
[Закрыть].
Отправив это письмо, я рассказал послу всю эту историю, и он ответил мне только, что Менгса уважают только за его талант, потому что в остальном весь Мадрид его знает как человека странного. Этот человек поселил меня у себя только из тщеславия, в тот момент, когда весь Мадрид, граф д’Аранда и все министры должны были об этом узнать, и многие – подумать, что это сделано в его интересах – перевести меня в его дом. Он сказал мне даже, в своем высокомерии, что я должен был заставить алькальда Месса отвезти меня не в кафе, где я жил, но к нему, поскольку это от него меня увезли. Это был человек, жаждавший славы, великий труженик, жадный, и враг всех художников – своих современников, которые могли считаться равными ему, и он ошибался, потому что, хотя и большой художник в том, что касается колорита и рисунка, он не обладал тем самым первым, что делает художника великим – воображением.
– Это, – сказал я ему однажды, – как каждый большой поэт должен быть художником, а каждый художник – поэтом.
Он воспринял мою сентенцию недовольно, так как решил, к сожалению, что я ее произнес только для того, чтобы указать ему на его недостаток. Он был очень невежествен, а желал сойти за ученого; он был пьяница, похотлив, гневлив, ревнив и скуп, а хотел сойти за добропорядочного. Большой труженик, он вынужден был не обедать, потому что любил выпить до полной потери рассудка. Поэтому, будучи приглашен кем-то на обед, он пил только воду.
Этот человек говорил на четырех языках, и на всех плохо, но не хотел это признать. Он стал меня ненавидеть за несколько дней до моего отъезда из Мадрида, потому что случай раскрыл мне все его слабости, и потому что он был поставлен в необходимость согласиться со всеми моими замечаниями. Этот мужлан был возмущен тем, что должен быть мне в значительной степени обязан. Я помешал ему однажды отправить ко двору записку, которая должна была предстать перед глазами короля, в которой он написал el mas inclito [9] 9
самый знаменитый
[Закрыть], вместо того, чтобы сказать le plus humble [10] 10
самый невзыскательный…
[Закрыть]; я сказал, что над ним посмеются, потому что inclitoозначает не невзыскательный,но знаменитый; он разозлился, он сказал мне, что я не должен воображать себе, что знаю испанский лучше него, и был разочарован, когда кто-то, пришедший, сказал, что он должен меня благодарить, потому что эта слишком грубая ошибка будет сочтена безграмотной. Другой раз я помешал ему отправить критическое замечание против чьей-то диатрибы, в которой говорилось о том, что в мире нет допотопных монументов. Менгс решил изобличить автора, между прочим, в том, что известны остатки Вавилонской башни: двойная глупость, потому что никто не видел этих предполагаемых остатков, но что даже если бы их видели, создание этой странной башни – событие послепотопное. Когда он убедился в этом, он стер свое замечание, однако возненавидел меня от всего сердца, потому что уверился, что я должен понять всю глубину его невежества. У него была мания обсуждать метафизические материи; его коньком было рассуждать о красоте вообще и ее определении, и глупости, которые он при этом произносил, бывали чудовищны. Этот человек, желчный до чрезвычайности, в порыве гнева бил своих детей, с риском их покалечить. Я вырывал его старшего сына из его рук не один раз в моменты, когда думал, что тот лишится своих зубов. Он хвастался, что был воспитан своим отцом-богемцем, плохим художником, с палкой в руке, и, став благодаря этому хорошим художником, решил, что этим же средством должен заставить своих детей стать чем-то значительным. Он обижался, когда кто-то ему писал, и он не видел в адресе ни титула шевалье, ни своих крестильных имен. Я сказал ему однажды, что не считал обидным, когда он пренебрегал добавить к моему имени «шевалье» в адресе своих писем, что он писал мне во Флоренцию и Мадрид, и что я, однако, имею честь быть награжден тем же самым орденом. Он ничего не ответил. Что касается его крестильных имен, соображение, заставлявшее его ценить эти имена, было очень странным. Он говорил, что назван Антуаном Рафаэлем, и, будучи художником, считал, что те, кто лишает его этой номенклатуры, отказывают, согласно его странной идее, в соседстве с живописью Антуана да Корреджо и Рафаэля Урбино, которых он связывает с собой.
Я посмел сказать ему однажды, что рука главной фигуры на одной из его картин кажется мне неправильной, потому что четвертый палец там короче, чем указательный. Он сказал мне, что так должно быть, и показал мне свою руку; я стал смеяться, показывая ему свою и говоря, что я уверен, что моя рука создана, как у всех детей Адама.
– От кого же, предполагаете вы, происхожу я?
– Я этого не знаю; но это странно, что у вас это иначе, чем у меня.
– Это у вас иначе, чем у меня или у других людей, так как рука мужчины и женщины, в основном, устроена как у меня.
– Предлагаю пари на сто пистолей, что вы ошибаетесь.
Он вскакивает, швырнув на пол свою палитру и кисти, звонит, поднимаются слуги, он смотрит на их руки, и он в ярости, видя, что у них у всех четвертые пальцы более длинные, чем указательные. В этот момент, вещь очень редкая, он разражается смехом и кончает диспут удачным словцом:
– Я очарован тем, что могу похвастаться чем-то, в чем я уникален.
Он сказал мне однажды разумную вещь, которую я не забыл. Он рисовал Магдалину, которая, действительно, была красоты необычайной. На десятый или двенадцатый день он сказал мне то, что говорил каждое утро:
– Сегодня вечером эта картина будет закончена.
Он работал над ней до вечера, и назавтра я видел, что он работает над той же картиной. Однажды я спросил у него, не ошибся ли он накануне, когда сказал мне, что картина будет закончена.
– Нет, – сказал мне он, – потому что так может показаться для девяноста девяти из сотни знатоков, которые будут ее рассматривать; но больше их меня интересует мнение сотого, и я смотрю на нее его глазами. Знайте, что в мире нет картины, полностью оконченной. Эта Магдалина никогда не будет закончена, пока я не кончу над ней работать, но и тогда она не будет действительно законченной, потому что, очевидно, что если я поработаю над ней еще день, она станет более законченной. Знайте, что в самом вашем Петрарке нет ни одного сонета, который можно было бы назвать действительно законченным. В мире нет ничего совершенного, что исходит из рук или ума человека, за исключением арифметического расчета.
Я обнял моего дорогого Менгса, когда услышал от него такую речь; но я не стал обнимать его в другой день, когда он сказал, что хочет стать Рафаэлем д’Урбино. Это был его величайший художник.
– Как, – сказал я ему, – можете вы хотеть стать кем-то? Это желание противно природе, потому что, существуя, вы не будете существовать. Вы можете питать такое желание, только воображая себя в раю, и в этом случае я вас поздравляю.
– Отнюдь нет, я хотел бы быть Рафаэлем, и мне не нужно было бы быть сегодня ни реально, ни в душе.
– Это абсурд. Подумайте. У вас не может быть такого желания, если вы наделены способностью мыслить.
Он разгневался, он наговорил мне проклятий, которые заставили меня смеяться. Другой раз он сравнил работу поэта, слагающего трагедию, с работой художника, который делает картину, в которой вся трагедия состоит из одной сцены. Проанализировав множество различий, я заключил, что трагический поэт должен вкладывать все силы своей души в самые мелкие детали, в то время как художник может накладывать краски на поверхности объектов, рассуждая о множестве вещей со своими друзьями, стоящими вокруг него.








