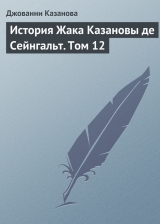
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 12"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Я вхожу в залу вместе с моими двумя преображенными особами, и первое увиденное лицо, которое меня поражает, – это маркиза д’Ау вместе со своим мужем и с аббатом. Приветствия с той и с другой стороны и обычные шутки относительно моих двух «друзей», которые, не имея никакого светского опыта, держатся как оглашенные; но что меня до смерти огорчает, это большая девица, которая, окончив менуэт, делает реверанс Армелине, приглашая ее танцевать с ней. Эта девица – флорентинец, которому взбрела фантазия одеться мадемуазелью. Получилась совершенная красотка. Армелина, решив не выглядеть дурочкой, говорит ему, что она его узнает, на что он разумно отвечает, что она, возможно, ошибается, потому что у «нее» есть брат, совершенно на нее похожий, как впрочем и у «него» есть сестра, имеющая то же лицо, с которой «ее» брат говорил в ложе театра Капраника. Этот разговор, ловко проведенный флорентинцем, вызвал смех у маркизы и, хотя и скрепя сердце, я принял в нем участие. Поскольку Армелина, уклонилась от танцев, маркиза усадила ее между собой и флорентинцем, и маркиз д’Ау завладел Схоластикой. Мне осталось только уделить внимание маркизе и даже не смотреть на Армелину, с которой флорентинец вел беседы, захватившие ее целиком. Ревнуя как тигр, и вынужденный это скрывать, – читатель может себе представить, как я страдал и как раскаивался, что пошел на этот бал! Но жестокость моего положения возросла, когда я увидел, четверть часа спустя, что Схоластика отошла от маркиза д’Ау и разговаривала, стоя в углу зала, с мужчиной, ни молодым, ни старым, который с благородным видом, кажется, ведет с ней интересную беседу.
Менуэты прервались, приготовились к контрдансу, и я был удивлен, увидев Армелину, приготовившуюся танцевать с флорентинцем, она – как мужчина, он – как дама. Я подошел к ним, чтобы похвалить, и самым ласковым тоном спросил у Армелины, уверена ли она, что может танцевать контрданс.
Месье мне сказал, – ответила мне она, – что я не смогу ошибиться, делая все как он.
Мне нечего было ответить. Я пошел к Схоластике, очень заинтересованный мужчиной, с которым она беседовала. Она представила его мне с застенчивым видом и сказала, что это ее племянник, тот самый, который мечтает составить ее счастье, получив разрешение жениться. Удивление мое было велико, но я его превосходно скрыл. Я высказал ему все, что мог сочувственного и благородного, сказав, что начальница предупредила меня и что я теперь думаю о том, чтобы получить благословение Святого Отца, так, чтобы разрешение на брак не стоило ни су ни ему, ни ей. Он поблагодарил меня, сказав, что он небогат, и я успокоился, увидев, что он ни в малейшей степени не ревнует.
Я оставил Схоластику с ним и смотрел с удивлением на Армелину, которая чувствовала себя очень хорошо, совершенно не меняясь в лице. Флорентинец, который вполне владел ситуацией, превосходно ее обучал; они выглядели как два счастливца; я чувствовал себя негодяем, что не сделал ни малейшего комплимента после контрдансов Армелине, но воздал похвалы флорентинцу, который превосходно изображал даму; он настолько хорошо оделся, что можно было подумать, что у него есть грудь. Так хорошо его нарядила м-м д’Ау. Не будучи достаточно уверен в себе, чтобы пренебречь наблюдением за тем, что делала Армелина, я не захотел танцевать, но постарался скрыть малейшие признаки досады. Схоластика, все время со своим женихом, занятая интересными для них обоих разговорами, меня не беспокоила. Она беседовала с ним непрерывно все три часа, вплоть до того момента, когда я подошел к ним спросить, не желает ли она уходить. Это было около полуночи, момента, который, мне не терпелось, чтобы наступил, потому что переживания, которые меня мучили, заставляли меня тысячу раз проклясть этот бал и удовольствие, которое я вздумал доставить этим девушкам.
Но затруднение мое стало велико в половине двенадцатого. Это была суббота, и все собрание ожидало полуночи, чтобы отправиться ужинать и пойти есть скоромное, либо в харчевни, либо туда, куда они намеревались идти. Маркиза д’Ау, которую наивности Армелины очаровали, сказала мне непринужденно и в то же время повелительно идти ужинать к ней, вместе с моими двумя компаньонками.
– Мадам, я не могу принять эту честь, и мои две компаньонки знают тому причину.
– Эта (Армелина) сказала мне только что, что это зависит только от вас.
– Это не так, поверьте мне.
Я повернулся к Армелине и, смеясь, и со всей возможной нежностью, которую мог изобразить, сказал ей, что она хорошо знает, что должна быть у себя не позднее половины первого, и она ответила искренне, что это правда, но, несмотря на это, все зависит от меня. Я ответил ей немного грустно, что не считаю для себя возможным нарушать данное слово, но тем не менее она может заставить меня его нарушить. Тогда маркиза, маркиз и флорентинец стали уговаривать Армелину использовать свою власть и заставить меня нарушить мое предполагаемое слово, и Армелина осмелилась обратиться ко мне с настоятельной просьбой. Я взбесился, но решился пойти на все, но не дать заподозрить во мне ревности. Я сказал Армелине самым естественным тоном, что и сам этого хочу, если согласится ее подруга, и она ответила с довольным видом, который рассек мне сердце, чтобы я пошел и попросил ее доставить ей это удовольствие.
После этого я пошел, уверенный в своем выигрыше, на другой конец залы и рассказал Схоластике, в присутствии ее жениха, обо всем происходящем, попросив в то же время не соглашаться на это, но так, чтобы меня не скомпрометировать. Ее родственник одобрил мою осмотрительность, но Схоластике и не нужно было, чтобы я просил ее сыграть роль этого персонажа, она ясно мне сказала, что ни за что не согласится идти ужинать с кем бы то ни было. Она пошла со мной, и дорогой я подсказал ей, что она должна поговорить с Армелиной наедине. Я подвел ее к маркизе, пожаловавшись, что у меня ничего не вышло. Схоластика попросила извинения и сказала Армелине отойти с ней в сторонку и выслушать, что она хочет ей сказать. Они поговорили, затем вернулись грустные, и Армелина сказала, что, к ее сожалению это совершенно невозможно. Маркиза более не настаивала, и к полуночи мы ушли. Я посоветовал возлюбленному Схоластики пока молчать, предложив прийти пообедать со мной на второй день поста. Это был человек сорока лет, скромный, приятный и вполне расположивший меня в свою пользу.
Ночь была очень темная, как и должно быть к концу карнавала, я вышел из дома с двумя девушками, уверенный, что за нами не следят, и пошел за коляской туда, где, как я знал, она должна быть. Выйдя из ада, где я страдал на протяжении четырех часов как проклятый, я прибыл в харчевню, не говоря ни слова ни одной ни другой и не отвечая на разумные вопросы, что, вполне естественно, задавала мне Армелина. Схоластика мстила за меня, упрекая ее за то, что вынуждена была заставлять меня либо показаться невежливым, либо ревнивым, либо пренебречь своим долгом. Когда мы вошли в нашу комнату, Армелина вдруг изменила мое состояние ревнивой ярости, превратив его в сочувствие, я увидел ее прекрасные глаза, с явными следами слез, которые справедливые упреки Схоластики заставили ее пролить в коляске. Ужин был уже сервирован, они успели только снять свои башмаки. Я был грустен, и с полным на то основанием, но печаль Армелины меня огорчала, я не мог отнести ее только на мой счет; я должен был ее развеять, хотя ее источник должен был ввергать меня в отчаяние, потому что я мог его отнести только к предпочтению, которое ей оказывал флорентинец. Наш ужин был великолепен, Схоластика оказывала ему честь, но Армелина, против обыкновения, ничего не ела. Схоластика излучала веселье, она обнимала подругу и приглашала ее участвовать в ее радости, потому что, поскольку ее возлюбленный стал моим другом, она исполнилась уверенности, что я помогу ей и ему, как помог Эмилии. Она благословляла этот бал и случай, который ее туда привел. Она доказывала Армелине, что у той нет никакого резона грустить, потому что была уверена, что я люблю единственно ее.
Но Схоластика ошибалась, и Армелина не осмеливалась ее разубеждать, высказав истинную причину своей печали. С моей стороны, самолюбие мешало мне ее сказать, потому что я знал, что был неправ. Армелина думала о том, чтобы выйти замуж, я был не создан для нее, а прекрасный флорентинец ей подходил. Наш ужин окончился, а Армелина так и не восстановила хорошего настроения. Она выпила только один стакан пунша и ничего не ела, я не настаивал, чтобы она выпила больше, из страха, что ей будет плохо. Схоластике, наоборот, понравился этот приятный напиток, который она пила в первый раз, и она предалась ему без удержу, наслаждаясь, что, вместо того, чтобы оседать в желудке, он ударяет в мозг. В своем веселом состоянии она сочла своей обязанностью восстановить наш мир и уверить нас, что не будет лишней, присутствуя при всех демонстрациях нежности, которыми мы будем обмениваться.
Она поднялась из-за стола и, нетвердо держась на ногах, перетащила свою подругу на софу и прижала к себе, осыпав ее сотней поцелуев, которые заставили грустную Армелину рассмеяться. Она подозвала меня, заставила сесть рядом с собой и передала ее в мои руки. Я дарил ей любовные ласки, которые Армелина не отвергала, но и не возвращала обратно, что надеялась увидеть Схоластика, а я не надеялся, потому что она никогда бы не выказала их в присутствии Схоластики и что она выдавала мне три часа подряд, лишь когда Эмилия глубоко спала. Схоластика, не желая быть уличенной в посредничестве, обратилась ко мне: она упрекнула меня в холодности, от которой я был далек. Я предложил им снять с себя мужские одежды и переодеться обратно в женские. Говоря так, я помог Схоластике снять свои одежды, и Армелина сделала то же самое. Я принес им их рубашки, и Армелина предложила мне отойти к огню; но две минуты спустя звук поцелуев привлек мое внимание. Схоластика, разгоряченная пуншем, покрыла поцелуями грудь Армелины, которая, наконец, развеселилась, и стала делать то же самое, передо мной, по отношению к своей пылающей подруге. В этом состоянии Схоластика не сочла дурным, что я отдал справедливость красоте ее грудей, став как бы ребенком у ее сосков. Армелина, впрочем, постыдилась демонстрировать передо мной такую же страсть, как ее подруга, и Схоластика торжествовала, видя в первый раз применение, которое я нашел рукам Армелины, которая, ревнуя, к ее победе, заставила Схоластику делать мне то же. Та все сделала, и удивление этой девушки, новичка в этом деле, несмотря на ее двадцать лет, мне понравилось.
После извержения я передал им их рубашки и, со всем приличием, освободил их от их штанов. После этого они, обнявшись, удалились в кабинет и, возвратившись, уселись у меня на коленях. Схоластика, отнюдь не раздосадованная предпочтением, которое я сначала отдал секретным красотам Армелины, казалось, была этим очарована; она наблюдала за моими действиями и манерой, с которой Армелина встречала мои предприятия, с самым большим вниманием, надеясь увидеть то, что я сам хотел бы ей показать, но что Армелина не хотела мне предоставить. Не имея возможности кончить там, где мне бы хотелось, я остановился, подумав, что у меня есть долги и перед Схоластикой, у которой я также хотел раскрыть перед моими глазами все красоты, которые прикрывала длинная рубашка. Любезная подруга не оказала мне никакого сопротивления. Она была слишком уверена в том, что вопрос назрел. Было слишком трудно решить, какая из двух прекраснее, но у Армелины было преимуществом то, что она была любима; красота лица Схоластики была иная. Я нашел ее столь же нетронутой, как и Армелина, и по манере, с которой она держалась, я ясно понял, что она позволит мне все; но я боялся злоупотребить моментом. Это был слишком прекрасный триумф, чтобы быть ему обязанным опьянению. Я кончил, сделав однако все, что может проделать знаток, чтобы доставить очаровательному объекту, который лишают удовольствия, все возможное удовлетворение. Схоластика пала, погрузившись в сладострастие, убежденная, что я ускользнул от ее устремлений только из чувства уважения и деликатности.
Армелина, смеющаяся и наивная, поздравила нас обоих. Я был этим польщен, Схоластика просила у нее прощения. Я отвез их в их монастырь, заверив, что назавтра заеду за ними, чтобы отвезти в оперу, и отправился спать, не зная, проиграл или выиграл я в той партии, которую вел. Я был в состоянии это решить только назавтра, при пробуждении.
Извлечение из глав IV и V [7] 7
Как было указано в Предисловии издателя, извлечение из глав 4 и 5, отсутствующих в оригинальной рукописи, выделено курсивом. Эти главы были найдены в замке Дукс, позднее, чем основной текст манускрипта. Слова, напечатанные обычным шрифтом, были подчеркнуты самим Казановой.
[Закрыть]
После оперы в Масленичное воскресенье Армелина, побуждаемая примером Схоластики, отдалась мне, и я наслаждался их обществом в последний раз, в последний день карнавала, восседая на лошади в костюме Пьеро, полагая не быть никем узнанным. Но вот что случилось. Я остановился около Триумфальной колесницы и был удивлен при виде маски-воина, в костюме древних римлян, положившего левую руку на узду моей лошади и подающего правой рукой перо и бумагу женской маске в костюме королевы, стоящей рядом с ним. Королева что-то пишет, передает бумагу воину, который подает мне ее, отпуская в то же время повод моей лошади. В тот же момент раздается музыкальное вступление, и все маски около колесницы мечут в меня горстями драже. После чего следует в такт марш. Я читаю записку, не ожидая ничего, кроме обычного памфлета, но удивлен, прочтя следующее:
– Дерзкий Пьеро, трепещи: это твоя судьба, я спасла тебя в Мурано в Венеции, но этой ночью я приговариваю тебя к смерти, ты отдашь богу душу, сменяя рубашку.
Я тотчас догадываюсь, что воин не может быть никем иным как кардиналом де Бернис, а королева – его прекрасной принцессой. Только он может напомнить мне то, что случилось семнадцать лет назад. Экспромт может быть только его. Я отхожу от колесницы, иду в дверь кафе и пишу эти четыре стиха, затем возвращаюсь к колеснице и подаю их королеве.
– Я подчиняюсь твоему приговору, очаровательная богиня; но, относительно моей смерти, позволь мне самому ее выбрать. В моем преступлении я, как добрый христианин, исповедуюсь воину. Я искуплю вину, довольный, полагаясь на святой крест.
На второй день поста я получил от начальницы все бумаги, необходимые для женитьбы Схоластики, и принцесса и кардинал сделали все так хорошо, что она покинула монастырь после Пасхи и вышла замуж.
В первое воскресенье поста маркиза д’Ау дала мне обед, вместе с флорентинцем ХХХ, который, объявив мне свои добрые намерения относительно Армелины, не встретил с моей стороны никаких препятствий к тому, чтобы сделать меня главным действующим лицом, которое в этом деле послужит ей вместо отца. Я все проделал в неделю. Он передал ей приданое в 10 000 экю, которое депонировал в банке Святого Духа, и после Пасхи женился на ней, затем увез ее во Флоренцию, а оттуда – в Англию, где она живет сейчас счастливо.
По этому случаю я был представлен кардиналу Орсини, который, будучи президентом Академии Бесплодных [8] 8
литературно-религиозное сообщество – прим. перев.
[Закрыть], оказал мне честь сделать ее членом. Он предложил мне прочесть оду в честь Страстей нашего Господа И.Хр. на первой ассамблее, которая должна была состояться в Страстную Пятницу. Чтобы написать эту оду, я решил провести несколько дней за городом и выбрал Фраскати, где полагал, что смогу жить в одиночестве. Я дал слово Мариучче нанести ей визит. Она заверила, что мне будет приятно познакомиться с ее семейством, и мне это было любопытно.
Я выехал за три недели до Пасхи; я прибыл во Фраскати к вечеру, и на другой день, послав за парикмахером, увидел у себя мужа Мариуччи, который сразу меня узнал.
Сказав, что он торгует зерном, что он весьма удачен в делах и что занимается парикмахерским делом только для собственного удовольствия, он предложил мне комнату, и очень за скромную цену, и пригласил меня обедать. Мое удивление было велико, когда он сказал, что представит мне мою дочь, которую он при крещении назвал Жакоминой. Я счел, что не должен это признавать, я посмеялся, я сказал ему, что это невозможно, и он хладнокровно мне ответил, что я это признаю, когда ее увижу. Мне стало очень любопытно: вот еще одна интрига, что может иметь некие последствия; но эта девочка в любом случае может быть лишь ребенком девяти-десяти лет, и мое отцовство может быть поставлено под очень большое сомнение, потому что парикмахер женился на Мариучче через четыре недели после первого нежного предприятия, что я имел с ней.
Но в полдень физиономия девочки меня поразила. У нее были все мои черты, в улучшенном виде, и она была намного более красива, чем Софи, которую я имел от Терезы Помпеати и которую оставил в Лондоне.
Жакомина была очень крупная для своего возраста, и очень хорошо сложена. Я смотрел на нее очень немного, но увидел, что она внимательно меня изучает, погрузившись в молчание. Я воспользовался первым же моментом, чтобы спросить у Мариуччи, на основании чего ее муж смог мне сказать, что Жакомина моя дочь, и она ответила, как ни в чем не бывало, что он в этом уверен, так же как и она, и что это не мешает ему любить ее более других своих детей.
– Но малышка не знает, что она не дочь твоего мужа.
– Нет, конечно. Такие секреты не доверяют детям.
Я нашел дом Мариуччи очень простым, и комната, которую предложил мне ее муж Клемент, мне понравилась, и я сказал, чтобы перенесли из гостиницы мои вещи.
Мариучча предупредила меня с глазу на глаз, что я буду обедать с женщиной, еще девушкой, которую зовут синьора Вероника, которая держит школу рисования, где учится Жакомина, делая при этом удивительные успехи.
– Эта женщина придет, – сказала мне она, – со своей, наверное, племянницей, красивой и очень искусной, большой подругой Жакомины. Ей тринадцать лет. Ее тетя тебя знает; но гораздо лучше она знает твоего брата Дзанетто. Мы много о тебе говорили, и она будет приятно удивлена, когда тебя увидит.
Действительно, так и было, когда она меня увидела, но не более, чем я, когда увидел ее племянницу, которая оказалась похожа на моего брата более, чем можно себе представить. Я все понял. М-м Вероника, сидя за столом рядом со мной, сказала мне, что юная девушка – дочь ее сестры, которая умерла; за десертом она мне сказала, что я буду ей шурином, если мой брат был порядочный человек. Она не могла сказать мне больше, чтобы я мог догадаться, что ее так называемая племянница на самом деле ее дочь, и что я – ее дядя. При этой новости я понял, что буду любить эту племянницу, и что было забавно и необычно, – я склонился к этой любви из соображений мести. Я оставляю для ученых, более знающих, чем я, объяснение феноменов этого рода. Мою красивую племянницу звали Гильельмина, и в продолжение время обеда я все время убеждался в том, что она очаровательна. Жакомина говорила очень мало, но, как мне показалось, много думала. После обеда я пошел прогуляться на виллу Лодовичи.
Какие размышления владели мной, когда я очутился в местах, где двадцать семь лет назад был с донной Лукрецией. Я осматривал места и находил их более прекрасными, при том, что не только я сам не был уже тем же, но хуже по всем своим способностям, за исключением опыта, которым я злоупотреблял и который не возмещал мне утерянного, если не считать способности рассуждать. Несчастное преимущество! Размышление вогнало меня в тоску, безжалостную мать мысли о смерти, которую у меня не было силы рассматривать как стоику. Это всегда было превыше моих сил, я не мог этого постичь и никогда не постигну. Эта слабость никогда не делала меня трусом, но, ненавидя тем не менее ее причину, я никогда не мог понять, как человек мыслящий может быть к ней равнодушным.
Я отстранил, как всегда, от себя эти мрачные мысли, подумав о том, что, за исключением Кортичелли, я составил счастье всех девушек, которых любил. Люсия из Пасеан кончила дни в жалком состоянии лишь потому, что, из чувства порядочности, я ее уважал. Она стала добычей подлого курьера, который мог привести ее лишь к гибели.
К вечеру я вернулся к себе и оставался у себя в комнате до времени ужина. Я провел впустую четыре часа, работая над началом оды на тему об Искуплении, которую я обещал кардиналу Орсини. Ода – это композиция, которая не зависит от желания поэта. Она не может выйти ни из его головы, ни из-под его пера, если ее не направит сам Аполлон. Однако Аполлон насмехался надо мной, потому что, призывая его, я думал о Гильельмине, которая этому богу была безразлична. Я ужинал с Клементом и его женой, которая была беременна; он надеялся на мальчика. Я мог этого ему только пожелать.
Он оставил меня наедине со своей женой, и это был очень вежливый поступок; но в тот момент я нашел ее слишком буржуазной. Я провел очень приятный час, но только за болтовней. Мариучча была переполнена своим счастьем, и, полагая, что обязана им мне, не могла помешать себе любить его автора, но не обожать его. Это были естественные чувства, которые ничего не стоили; в этом плюсе были свои минусы. Я видел, что Мариучча – в моем распоряжении, но я хотел только Гильельмину. Она сказала мне, что ее тетя оставила ее вместе с Жакоминой.
– Они наверху, – сказала она, – лежат в одной кровати. Я уверена, они глубоко спят; не хотите ли пойти на них взглянуть?
Мы пошли туда на цыпочках. Я увидел две кровати; в одной спали ее две младшие дочки, в другой я увидел Гильельмину и мою дочь, обе спящие на спине, обе красивые и украшенные розами, которые часто цветут на щеках у девочки или мальчика, когда они спят. Покрывало позволяло видеть нежные груди обеих. У моей дочери она была еще не выраженная, но у другой – напоминала припухлости, имеющиеся на голове теленка перед тем, как вырасти рогам. Не было видно ни их рук, ни предплечий. Какой вид! Какое очарование! Мариучча смеется над моим восхищением, но хочет его увеличить. Она тянет медленно на себя покрывало и выставляет перед моим вожделеющим взором, двумя очаровательными образами, картину, которая тем более для меня нова, что явилась неожиданной. Я вижу два символа невинности, которые, каждый протянув ладонь к своему животу, держит слегка изогнутую руку у признаков своего созревания, лишь пускающихся в рост. Их более изогнутые средние пальцы покоятся неподвижно на маленьком участке плоти, почти незаметном. Это был единственный момент в моей жизни, когда я с очевидностью понял настоящее устремление моей души, и был этим вполне удовлетворен. Я ощутил восхитительный ужас. Это новое чувство заставило меня своей рукой прикрыть двух голышек; руки мои дрожали. Какое предательство! Этот случай был для меня столь же нов, как и жесток. Мариучча не обладала достаточным умом, чтобы понять его величие. Она простодушно выдала наибольший секрет двух невинных душ в момент их наибольшей беспечности. Они могли бы умереть от страдания, если бы их разбудили в тот момент, когда я наблюдал их прекрасную позу. Лишь их абсолютная неосведомленность могла бы спасти их от смерти, и я не мог предположить ее у них.
Я немедленно вышел из комнаты, и Мариучча вышла вслед за мной, провожая меня в мою комнату, и там произошло то, что, разумеется, не произошло бы, если бы не картина, которая меня поразила; однако Мариучча, вместо того, чтобы принять факт за наказание, сочла его вознаграждением за удовольствие, которое она, как она думала, мне доставила. Я оставил ее думать, что она хочет, и она пошла спать со своим мужем. Увы! Случай не был умышленным. Если бы она меня не успокоила, я не мог бы заснуть.
Я проснулся на рассвете и посмеялся, раздумывая о моей оде. Я ощутил себя рабом Гильельмины. Я мог писать стихи только о ней. Купидон противостоял стрелам грустного Аполлона, который мог бы только опустить свой лук с скорбной темой смерти создателя. В момент, когда Клемент меня причесывал, вошли две прелестные подружки. Жакомина несла мне на блюдце мой шоколад, другая держала в руках свиток. Это были рисунки. У обеих на лицах были запечатлены черты веселости, оживленной невинностью, душевной чистотой и доверчивостью. Если бы они знали о том, что случилось ночью, они бы не смогли явиться передо мной. Гильельмина не пережила бы, если бы ей сказали, что вследствие того, что я увидел, я до безумия влюбился в нее.
Первым чувством девушки, обладающей действительными зачатками ума, бывает чувство кокетства; это единственное, что она ценит, потому что это единственное, что убеждает ее в возможности привязать к себе любовника. Гильельмина, в своем возрасте, возненавидела бы меня, если бы поняла, что, вследствие того, что увидели мои глаза, я, независимо от нее, стал ее повелителем. Что касается моей дочери, девятилетней, у нее не могло быть столь зрелых мыслей. Я попросил их показать мне произведения их карандаша.
Проявив некоторое смущение, они раскрыли мне тетрадь. Почти все фигуры были обнаженные, мужчины, женщины, статуи, группы детей, все было красиво, все скопировано с превосходных образцов. Аполлон Бельведерский, Антиной, Геркулес, и Венера Тициана, которая лежала, держа руку там же, где я видел у этих добрых девушек. Движение души, которое я наблюдал в этот момент и которое доставило мне наибольшое удовольствие, был диспут, возникший между моей дочерью и Гильельминой.
Моя дочь не хотела позволить, чтобы я остановился рассмотреть эту Венеру, и Гильельмина посмеялась над ней. Она предположила, что я не должен останавливать свое внимание ни на Антиное, ни на Аполлоне, потому что, будучи мужчиной, я не смогу найти ничего для себя нового в этих рисунках, и к тому же, они не должны показывать, что сами осмелились на эти рисунки. Удовольствие, что я получил от этого диспута, освежило мне душу, но я был в затруднении, когда они избрали меня арбитром в их споре.
– Я не знаю, – сказал я им наконец, – кто из вас двоих прав; но если учитывать удовольствие, которое доставляют мне ваши рисунки, скажу вам, что Венера меня интересует более, чем Антиной.
Забавно было то, что они обе сочли, что одержали победу, и Гильельмина не захотела слушать более подробного объяснения. Всю свою жизнь я придавал очень большое значение этим пустякам, потому что они помогали мне проложить дорогу к сердцу объектов, к завоеванию которых я стремился.
Они пошли в школу, и, когда я оделся, я направился с визитом к синьоре Веронике. Я увидел там семь-восемь девушек, все очень молодые. Ни одна не могла меня отвлечь от Гильельмины. Чтобы иметь предлог часто заходить в эту школу, я попросил хозяйку сделать мой портрет в миниатюре; будучи небогатой, она должна была быть обрадована возможностью заработать семь цехинов, и на следующий день я предложил другие шесть цехинов Гильельмине за мой карандашный портрет, в домашнем платье и ночном колпаке. Для этого она должна была приходить ко мне очень рано. На следующий день, чтобы ей не пришлось терять много времени, Жакомина сказала, что та должна оставаться спать вместе с ней, ее мать Мариучча согласилась, и тетя Гильельмины также легко согласилась. Все случилось, как я и ожидал. На четвертый день моего пребывания во Фраскати Гильельмина пришла одна ужинать с нами и, чтобы удалить из головы моей дорогой Жакомины всякую мысль о ревности, я купил у ее отца золотые часы с аграфом и подарил их ей после ужина. Малышка сошла с ума от радости; под предлогом благодарности она принялась осыпать меня сотней ласк, которые я принимал с некоторой осторожностью, сохраняя осанку отца. Весь городок переговаривался на ушко, что наверняка я ее отец, и Мариучче и ее мужу это не было неприятно. Жакомина в этом сомневалась, но не знала, какое направление дать мыслям, которые крутились в ее юной голове. Она начала, бросая мне вызов, приходить в мою кровать после того, как я уже лег, и насмехаться над здравомыслящей Гильельминой, которая не осмеливалась поступать так же. Я награждал мою дочь только нежными поцелуями в ее красивые глаза и рот, в присутствии Гильельмины, которая смеялась над этим баловством. Я говорил ей небрежно, что четыре года разницы ничего не значат, и что я относился бы к ней также как к ребенку, если бы она оказалась на месте Жакомины. Такое пренебрежение возымело, наконец, на протяжении трех или четырех дней должный эффект. Я дал ей шесть цехинов за ее рисунок, который ее тетя отретушировала, и в тот же вечер она легла рядом со мной, в то время как моя дочь – по другую сторону, и была обрадована тем, что я оказываю ей такие же ласки: поцелуи в изобилии и ничего больше. Когда им надоедало, они шли спать в свою комнату, но я был уверен, что Гильельмина чувствовала, получая от меня поцелуи, что я имею намерения более основательные, чем показываю. Утром, перед тем, как идти в школу, они рассказывали в моем присутствии Мариучче, каким образом они мне досаждают в моей постели, прежде чем идти спать. Добрая женщина смеялась, уже зная, чем дело кончится.
Три или четыре дня спустя Жакомина заснула, или сделала вид, что заснула, и Гильельмина несколько минут спустя сделала то же самое и предоставила мне делать, что я хочу, вплоть до некоторой точки, когда она решила, что должна проснуться. Состояние, в котором она меня увидела, показалось ей настолько спокойным, что она сочла в своих интересах ни на что не жаловаться. Она захотела оставить меня в уверенности, что, пребывая во сне, она ничего не заметила, и, разбудив Жакомину, ушла с ней вместе, но на следующее утро я сделал ей подарок – хорошенькое колечко, которое стоило по меньшей мере пятьдесят экю и которое вызвало благодарности со стороны ее тети вечером за ужином. Рисунок был окончен, она предложила отвести Гильельмину домой, и я очень испугался. Моя дочь воспротивилась этому, проливая слезы, и синьора Вероника, смеясь, согласилась. Она сказала, что я имею все основания любить ее племянницу, так же как и Жакомина. Она сочла, что высказала этим невыразимую тайну.
После ее ухода юные девушки, оставшись со мной одни, сговорились закрутить со мной интригу и, увидев меня в постели, явились меня бесить, как они мне сказали; но как только моя дочь благополучно заснула, я не прибег к низости позволить моей дорогой Гильельмине во второй раз воспользоваться той же самой стратагемой. Я ясно видел, что могу рассчитывать на ее нежность, и я не ошибся. Я обратился к ней на языке любви в самых экспрессивных выражениях, не ожидая ее ответов и пришел к великому свершению, лишь когда услышал ее стоны. Она отдалась мне, не заботясь о том, что Жакомина, сидя, с удивлением и внимательно смотрит на то, что мы делаем. С окончанием сладкой битвы Жакомина стала объектом наших ласк, и мы нисколько не сомневались в ее будущем молчании, но она хотела, чтобы мы ей все объяснили, и хотела увидеть очень подробно, как все происходит. Мы должны были в последующие дни удовлетворить ее любопытство. Я напрасно пытался убедить ее, что невозможно, в силу ее возраста, доставить ей такой же опыт; она призывала меня попробовать, она взывала к моей жалости, Гильельмина, наконец, сочла себя обязанной сказать ей, что вероятно она моя дочь, и что я не должен подвергаться риску совершить злодейство, которое сделает нас обоих несчастными на всю жизнь. Она ужаснулась, после чего стала рассудительней, погасив по возможности свой пламень. То, что породила в ней природа, только увеличило мое сладострастие, и Гильельмина не могла счесть дурными те шалости, лучшей участницей которых сама стала. Но случилось счастливое событие, подобное многим другим, которые сделали меня суеверным.








