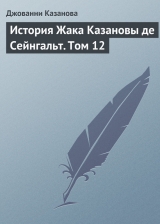
Текст книги "История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 10"
Автор книги: Джакомо Казанова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
На следующий день я отнес письмо Петру Ивановичу Мелиссино, тогда полковнику, теперь – генералу от артиллерии. Это письмо было от м-м да л’Ольо, которой он был любовником. Он меня очень хорошо принял, представил своей очень обаятельной жене и пригласил ужинать каждый день. Его дом содержался по-французски, там играли и затем ужинали попросту. Я познакомился у него с его старшим братом, который был прокурор Синода, имея женой княгиню Долгорукову; там играли в фараон; компания состояла из людей серьезных, которые не склонны были ни сожалеть о своих проигрышах, ни радоваться выигрышам; также было понятно, что правительство не озаботится знать, что нарушается закон, запрещающий игру. Тот, что держал банк, был барон Лефорт, сын знаменитого Лефорта. Тот, которого я видел там, попал затем в немилость из-за лотереи, которую устроил в Москве на коронации императрицы, и на которую она сама выделила средства, для увеселения двора. Эта лотерея была устроена с нарушением правил, клевета приписала ее провал барону, и его признали виновным. Я сыграл по-малой и выиграл несколько рублей. Сидя за ужином возле него, я завязал знакомство, и, видя меня в дальнейшем у себя, он рассказывал мне о своих превратностях. Говоря об игре, я похвалил благородную сдержанность, с которой князь ХХХ проиграл ему тысячу рублей. Он стал смеяться и сказал мне, что прекрасный игрок, благородным безразличием которого я восхищаюсь, не платит.
– Но честь?
– Здесь честь от этого не теряют. Существует молчаливое соглашение, что тот, кто проигрывает на слово, платит, если хочет, а если не хочет – может не платить. Будет сочтено странным, если тот, кто выиграл, попросит у него заплатить.
– Это способ, который дает право банкёру отказываться играть на слово с кем бы то ни было.
– В этом случае и игрок не обижается. Игрок отходит или выкладывает деньги прямо в игре. Есть молодые люди из первейшей знати, которые научились плутовать и хвалятся этим; Матюшкин вызывает всех иностранных мошенников на состязание. Он сейчас получил разрешение путешествовать на три года; Он говорит, что уверен, что вернется в Россию очень богатым.
Я познакомился у Мелиссино с молодым гвардейским офицером по имени Зиновьев, родственником Орловых, который познакомил меня с послом Англии Маккартни, молодым красивым человеком, полным ума, который имел слабость влюбиться в м-ль Хитрово, одну из фрейлин императрицы, и смелость сделать ей ребенка. Императрица сочла эту английскую вольность недопустимой, простила девицу, которая очень хорошо танцевала в имперском театре, и заставила отозвать посла. Я знал брата этой фрейлины, который был уже офицером, красивый мальчик, который много обещал. В знатном спектакле при дворе, где я видел танцующую м-ль Хитрово, я увидел также танцующую м-ль Сиверс, сегодня княгиню NN, которую видел четыре года назад в Дрездене вместе с дочерью, очень воспитанной и одетой как картинка. М-ль Сиверс меня очаровала. Я влюбился в нее, не имея никакой возможности сказать ей об этом, потому что никогда не был ей представлен. Она танцевала совершенно прекрасно. Кастрат Путини пользовался ее благосклонностью, которой несомненно заслуживал и своим талантом и своим умом. Он сам жил у графа Сиверс. Этот кастрат Путини был тот, что убедил приехать в Петербург маэстро капеллы венецианца Галуппи, по прозванию Буранелло, который прибыл туда в следующем году, когда я уже уехал.
Деметрио Папанелопуло познакомил меня с министром кабинета Алсувиов (Олсуфьевым), большим и толстым, полным ума и единственным просвещенным человеком, с которым я познакомился в России, потому что он стал образованным не только читая Вольтера, но и учившись в юности в Упсале. Этот редкий человек, который любил женщин, вино и вкусную еду, пригласил меня обедать у Локателли в Катеринов (Екатерингоф), императорский дом, который Екатерина отдала пожизненно этому старому театральному антрепренеру. Он был удивлен, когда увидел меня; но я еще больше, чем он, когда увидел его трактирщиком, потому что именно этим он занимался в Катеринове, где за рубль с головы, без вина, он подавал превосходную еду всем тем, кто туда приходил. Г-н Алсуфьев познакомил меня с другим секретарем кабинета, Тепловым, который любил красивых мальчиков, и чья заслуга состояла в том, что он задушил Петра III, которого из-за лимонада не удалось убить мышьяком. Лицо, которое представило меня третьему секретарю кабинета, Елагину, что провел двадцать лет в Сибири, была танцовщица Мекур, его любовница, которой я принес письмо от Сантины, с которой я познакомился при ее проезде через Берлин. Письмо от да л’Ольо, которое я принес Люини, музыканту кастрату, очень искусному в своем ремесле, красивому и любезному, обеспечило мне самый прекрасный прием в его доме, где меня отменно кормили. Ла Колонна, первая певица, была его любовницей. Они жили вместе, мучая себя. Я ни разу не видел их в согласии. Именно в его доме я познакомился с другим кастратом, искусным и любезным, которого звали Миллико, который, приходя ежедневно к обер-егермейстеру Нарышкину, столько говорил обо мне, что этот сеньор, весьма любезный и обладающий знанием литературы, захотел со мной познакомиться. Это был муж знаменитой Марии Павловны (одной из приближенных дам императрицы.). Именно там, за превосходным столом обер-егермейстера я познакомился с преподобным Платоном, теперь архиепископом Новгородским, а тогда – проповедником императрицы. Этот русский монах понимал по-гречески, говорил на латыни и французском, был умен, красив; было вполне понятно, что он должен был сделать карьеру в стране, где знать никогда не опускалась до того, чтобы добиваться церковного сана.
Я отнес письмо да л’Ольо княгине Дашковой, которая жила в трех верстах от Петербурга, удаленная от двора, после того, как помогла императрице подняться на трон и ожидала, что будет соучаствовать в правлении. Екатерина уничтожила ее амбиции. Я застал ее облаченной в траур по случаю смерти князя, своего супруга, произошедшей в Варшаве. Она говорила обо мне г-ну Панину, и написала мне три дня спустя записку, в которой говорила, что я могу прийти к нему, когда хочу. Я нашел это замечательным в манере императрицы: она изъявила немилость княгине Дашковой, но не мешала своему первому министру заходить к той каждый вечер с визитом. Я слышал от людей, достойных доверия, что граф Панин не был любовником м-м Паниной, но ее отцом. Эта принцесса сейчас – президент Академии наук. Ученые краснеют, имея во главе себя женщину, если они не знакомы с Минервой. Чего нужно пожелать еще России – это увидеть какую-то замечательную женщину командующей армией.
Одна вещь, которую я видел вместе с Мелисино, и которая меня поразила, – было освящение вод в день Богоявления, происходившее на Неве, покрытой пятью футами льда. Крестили младенцев, погружая их в реку через дыру, проделанную во льду. В такой день случилось, что поп, который окунал ребенка, упустил его из своих рук:
– Другого (Sic!), – сказал он.
Это значит: – дайте мне другого; но что я счел замечательным, была радость отца и матери утопленного, который, разумеется, должен был отправиться только в рай, умерев в этот счастливый момент.
Я отнес письмо флорентийки, м-м Бригонци, которое она мне дала за ужином в Мемеле к своей подруге, которая, как она меня заверила, будет мне полезна. Эта подруга была венецианка, которую звали м-м Рокколини; она прибыла из Венеции, чтобы петь в театре Петербурга, не зная музыки и не учившись никогда этой профессии… Императрица, посмеявшись над этой безумной, велела сказать, что для нее нет места; но что делает синьора Виченца? Она сводит очень тесное знакомство с одной француженкой, женой сьёра Протэ, французского торговца, который живет у обер-егермейстера. Эта женщина, которая владеет сердцем этого сеньора, является в то же время конфиденткой его жены Марии Павловны, которая, не любя своего мужа, обрадована, что эта француженка избавляла ее от обязанности исполнять супружеские обязанности, если ей приходил каприз от них уклониться. Но эта Протэ была первая красотка Петербурга. В цвете лет, она соединяла знание галантного обхождения с самым утонченным вкусом к украшениям. Ни одна женщина не могла соперничать с ней; веселая в компании, она вызывала всеобщее одобрение; когда в Петербурге упоминали Протэ, все завидовали обер-егермейстеру, который владел ею. Такова была женщина, близкой подругой которой стала эта синьора Виченца. Она приводила к ней тех, кто был в нее влюблен, и кто был достоин того, чтобы быть ей представленным, и Протэ им не отказывала. Синьора Виченца принимала без щепетильности подарки, которые приносила ей благодарность с той или другой стороны.
Когда я увидел синьору Виченцу, я узнал ее; но поскольку прошло по меньшей мере двадцать лет с того времени, как между нею и мной произошло то, что произошло, она не удивилась, что я мог и потерять память об этом, и не старалась мне это напомнить. Ее брат, которого звали Монтеллато, был тот, кто, выйдя ночью из Ридотто, пошел, чтобы меня убить, на площадь Сан-Марко, и как раз у нее собрался заговор, который стоил бы мне жизни, если бы я не решился выпрыгнуть на улицу через окно. Она оказала мне такой прием, который оказывают дорогому соотечественнику, старому другу, которого встретили вдали от родины; она рассказала мне подробно о своих несчастьях, и одновременно убедила меня в своей храбрости. Она не нуждается, – сказала мне она, – ни в ком, и живет весело с самыми очаровательными женщинами Петербурга.
– Я удивлена, – сказала она мне, – что, являясь часто обедать к обер-егермейстеру Нарышкину, вы не познакомились с прекрасной м-м Протэ, это душа обер-егермейстера; приходите завтра выпить у меня кофе и вы увидите чудо.
Я прихожу туда, и нахожу ее выше всех похвал. Не будучи более богатым, я использую ум, чтобы ей понравиться, я спрашиваю, как ее имя, и она отвечает, что ее зовут Протэ, я отвечаю, что отныне она «Про-мэ» [9] 9
игра слов: про тэ – для тебя, про-мэ – для меня – прим. перев.
[Закрыть]; я объясняю ей смысл этой игры слов, я шучу, плету ей басни, даю ей понять, какой огонь она зажгла в моей душе, не теряю надежды быть осчастливленным ею со временем, и вот – знакомство состоялось. Я отныне не прихожу к обер-егермейстеру без того, чтобы не зайти, до или после обеда, в ее комнату.
В это время посол Польши вернулся в Варшаву, и я должен был временно прекратить мои амуры с л’Англад, которая согласилась с выгодным предложением, которое сделал ей граф де Брюс. Я прекратил посещать ее дом. Эта очаровательная женщина умерла шесть месяцев спустя от ветрянки. Я хотел завязаться с Протэ. С этой целью я пригласил обедать в Катеринов к Локателли Луини с Колонна, гвардейского офицера по имени Зиновьев, Протэ и синьору Винченцу вместе с скрипачом, который был ее любовником.
В веселье этого обеда страсти сотрапезников разгорелись, после кофе каждый постарался скрыться со своей подругой, воспользовавшись чем я приступил к попыткам овладеть красоткой, не переходя, однако, к полному завершению из-за разных помех. Мы вышли все вместе, чтобы посмотреть на то, как Люини проводит здесь охоту. Для этой цели он принес с собой свои ружья и своих собак. Отойдя от императорского дома на несколько шагов вместе с Зиновьевым, я указал ему на крестьянку, чья красота меня поразила; он ее видит и соглашается со мной, мы направляемся к ней, и она убегает от нас до хижины, в которую заходит; мы заходим туда тоже, видим там ее отца, ее мать и всю их семью, и ее, забившуюся в угол комнаты, как кролик, испугавшийся собак, которые вот-вот его сожрут.
Зиновьев, который, между прочим, провел двадцать лет в Мадриде в качестве посла императрицы, долго разговаривает по-русски с отцом; я понимаю, что речь идет о девушке, потому что отец ее подзывает, и я вижу, как она подходит, послушная и покорная, и останавливается перед ними. Четверть часа спустя он выходит, и я следую за ним, дав рубль этому доброму человеку. Зиновьев отчитывается передо мной, что он спросил у отца, не хочет ли тот отдать ее ему в качестве служанки, и что отец ему ответил, что согласится, но хочет сто рублей, потому что она еще девственная.
– Вы видите, что тут нечего делать.
– Как нечего делать? А если я соглашусь дать сотню рублей?
– Вы ее получите себе в служанки и сможете с ней спать.
– А если она не захочет?
– Ох! Такого никогда не будет. Вы сможете ее побить.
– Допустим, она согласится. Я спрашиваю у вас, если, поиграв с ней и сочтя ее в моем вкусе, я смогу сохранить ее и дальше?
– Вы станете ее хозяином, именно вы, говорю я вам, и вы сможете приказать ее арестовать, если она убежит, по крайней мере если она не отдаст вам сто рублей, которые вы за нее заплатили.
– И держа ее у себя, сколько я должен платить ей в месяц?
– Ни копейки. Только кормить и поить, направлять в баню по субботам и чтобы она могла ходить в воскресенье в церковь.
– И когда я уеду из Петербурга, могу я заставить ее ехать со мной?
– Нет, по крайней мере если вы не получите разрешения, оставив залог. Эта девушка, став вашей рабыней, не перестает быть в первую очередь рабыней императрицы.
– Очень хорошо. Сделайте мне это. Я заплачу сотню рублей и возьму ее с собой, и обещаю, что не буду держать ее как рабыню; но я полагаюсь на вас, так как не хотел бы, чтобы меня обманули.
– Я договорюсь сам, и заверяю вас, что меня не обманут. Хотите ли сделать это сразу?
– Нет. Завтра, так как не хочу, чтобы наша компания знала об этом. Завтра утром, я подойду к вам в девять часов.
Мы вернулись в Петербург в фаэтоне, и назавтра, в назначенный час, я был у Зиновьева, который был рад оказать мне эту маленькую услугу. Дорогой он мне сказал, что, если я хочу, он составит мне за несколько дней сераль из такого количества девушек, какое захочу. Я дал ему сто рублей. Мы прибыли к крестьянину, девушка была там. Зиновьев рассказал ему о деле, крестьянин возблагодарил Св. Николая за счастливый случай, что с ним произошел, поговорил со своей дочерью, я увидел, что она на меня посмотрела и услышал, что она сказала ему «Да». Зиновьев сказал мне, что я должен убедиться, что она девственна, потому что я должен расписаться, что взял ее себе в услужение таковой. В силу своего воспитания я постыдился того, что должен унизить ее, подвергнув осмотру, но Зиновьев меня ободрил, сказав, что ему доставит удовольствие быть свидетелем этого события перед ее родственниками. Итак, я присел и, зажав между своих бедер, ощупал ее рукой и нашел нетронутой; но, по правде говоря, я бы не опроверг этого, даже если бы нашел ее порченной. Зиновьев отсчитал сто рублей отцу, который дал их дочери, а она передала в руки матери, и мои слуга и кучер зашли, чтобы стать свидетелями того, о чем они не знали заранее. Эта девушка, которую я сразу назвал Заирой [10] 10
имя героини трагедии Вольтера – прим. перев.
[Закрыть], села в коляску и поехала с нами в Петербург, одетая, как и была, в грубое полотно, без рубашки. Поблагодарив Зиновьева, я оставался далее у себя четыре дня, не покидая ее, и только переодев ее на французский манер, без шика, но очень просто. То, что я не знал русского, причиняло мне мучения, но она менее чем в три месяца сама выучила итальянский, очень плохо, но достаточно, чтобы сказать мне, чего она хочет. Она начала меня любить, затем ревновать; один раз хотела меня убить, как это увидит читатель в следующей главе.
Глава VI
Кревкёр. Бомбак. Путешествие в Москву. Продолжение приключений, что случились со мной в Петербурге.
В тот же день, что я привел к себе Заиру, я отослал Ламберта. Он напивался каждый день, я более не знал, что с ним делать. Его брали только в солдаты. Я сделал ему паспорт и дал денег, необходимых, чтобы вернуться в Берлин. Семь лет спустя я узнал в Гориче, что он поступил на службу в Австрии.
Заира в мае стала так красива, что, желая ехать в Москву, я, не имея смелости оставить ее в Петербурге, взял с собой вместо служанки. Удовольствие, которое я испытывал, слушая, как она говорит со мной по-венециански, было несравненно. В субботу я ходил в русскую баню, мыться вместе с нею, в компании тридцати-сорока других, мужчин и женщин, – все голые, которые, не глядя друг на друга, предполагали, что и никто на них не смотрит. Это отсутствие стыда происходило от невинности отношений. Я удивлялся, что никто не смотрит на Заиру, которая казалась мне оригиналом статуи Психеи, которую я видел на вилле Боргезе. Ее груди еще не оформились, ей шел тринадцатый год; у нее еще не было признаков зрелости. Белая как снег, и ее черные волосы делали ее белизну еще ярче. Если бы не ее проклятая ревность, которой она изводила меня каждый день, и не слепая вера в то, что говорили ей карты, с которыми она советовалась все время, я бы ее никогда не покинул.
Молодой человек, француз, с красивым лицом, по имени Кревкёр, показывавший воспитание, равное своему происхождению, прибыл в Петербург в компании девушки-парижанки, которую он называл ла Ривьер, молодой и отнюдь не уродливой, которая однако не имела никаких талантов, ни прочего образования, кроме того, которое получают в Париже все девушки, которые, чтобы жить, пользуются своим очарованием. Этот молодой человек пришел ко мне занести письмо принца Карла Курляндского, в котором тот говорил, что я доставлю ему удовольствие, если смогу оказаться в чем-то полезен этой паре. Он принес мне это письмо, в сопровождении своей красотки, в девять часов утра, когда я завтракал с Заирой.
– Вы сами скажите мне, – говорю я, чем я могу быть вам полезен.
– Предоставив нам ваше общество и ваши знакомства.
– Что касается моего общества, – я иностранец, это мало чего стоит, я буду заходить к вам, вы приходите ко мне, когда хотите, и доставите мне этим удовольствие; но я никогда не ем у себя. Что касается моих знакомств, вы понимаете, что, будучи иностранцем, я нарушу правила, представляя вас вместе с мадам. Она ваша жена? Меня спросят, кто вы и что вы собираетесь делать в Петербурге. Что я должен говорить? Я удивлен, что принц Карл не адресовал вас к другим.
Я лотарингский дворянин, я приехал сюда для собственного развлечения; м-ль ла Ривьер, что вы видите – моя любовница.
Я не знаю, кому вас представлять с такими данными, а впрочем, я полагаю, что вы можете видеть нравы страны и развлекаться, и не имея ни в ком нужды. Спектакли, променады, даже развлечения двора открыты для всех. Я полагаю, что деньги вам не нужны.
– У меня совершенно нет денег, и я ни от кого их не жду.
– У меня их тоже не слишком много; вы меня удивляете. Как вы могли совершить такую глупость приехать сюда без денег?
– Это она сказала, что они нужны нам лишь со дня на день. Она заставила меня выехать из Парижа без единого су, и до настоящего времени мне кажется, что она права. Мы жили повсюду.
– Значит, кошелек находится у нее.
– Мой кошелек, – говорит она, – в кармане моих друзей.
– Я услышал, и я вижу, что у вас друзья должны быть по всей обитаемой земле; если бы у меня был кошелек, то для дружбы такого рода я бы вам его тоже открыл; но я не богат.
Бомбак, гамбуржец, с которым я познакомился в Англии, откуда он удрал из-за долгов, приехал в Петербург, где имел счастье поступить на военную службу; сын богатого негоцианта, он держал дом, слуг и экипаж, он любил девушек, вкусную еду и игру, он в открытую делал долги. Он был некрасивый, живой и изворотливый. Он пришел ко мне как раз, чтобы прервать разговор, который я начал со странной путешественницей, которая держала свой кошелек в карманах своих друзей. Я представил ему месье и мадам, рассказав ему все, за исключением главы относительно кошелька. Бомбак, в восторге от авантюры, стал делать авансы ла Ривьер, которая их восприняла в тоне своей профессии, и в четверть часа я со смехом убедился, что она была права. Бомбак пригласил их к себе обедать на завтра, а сегодня уговорил ехать с ним в кабак Красный, чтобы там пообедать попросту; он попросил меня ехать тоже, и я согласился. Заира спросила меня, о чем речь, поскольку не понимала по-французски, и я ей все рассказал. Она сказала, что если речь о том, чтобы пойти в Красный, она тоже хочет, и я согласился, поскольку это была чистая ревность, и я опасался последствий, которые выражались в дурном настроении, в слезах, в отчаянии, которое несколько раз вынуждало меня ее поколачивать; это было главное средство убедить ее, что я ее люблю. После колотушки она постепенно становилась нежной, и воцарялся мир и праздник любви.
Бомбак, весьма довольный, ушел, чтобы закончить свои дела, обещав вернуться в одиннадцать часов, и пока Заира одевалась, Ла Ривьер повела со мной беседу, имеющую целью убедить меня, что в области наук о человеке я самый невежественный из людей. Меня удивляло, что ее любовник совершенно не стыдился той роли, которую играл. Единственное извинение, которое он мог бы мне предложить, было то, что он влюблен в эту шлюху, но оно не проходило.
Наша прогулка была веселой. Бомбак болтал только с авантюристкой, Заира почти все время сидела у меня на коленях. Кревкёр ел, смеялся кстати и некстати и прогуливался; красотка спровоцировала Бомбака сыграть в «пятнадцать» на двадцать пять рублей, которые он проиграл очень галантно и которые ей выплатил, не требуя другой компенсации, кроме поцелуя. Заира, очень довольная этой прогулкой, в которой, она была уверена, я не проявлю неверности по отношению к ней, говорила мне тысячу забавностей по поводу влюбленных по-французски, которые не проявляют ревности. Она не могла понять, как это он может чувствовать себя столь уверенным в ней.
– Но я ведь уверен в тебе, и однако ты меня любишь.
– Если бы я тебя не любила, это дало бы повод считать меня шлюхой.
Назавтра я пошел к Бомбаку в одиночку, будучи уверен, что увижу там молодых русских офицеров, которые досаждали мне, соблазняя Заиру на своем языке. Я встретил у Бомбака парочку путешественников и двух братьев Луниных, тогда лейтенантов, а ныне – генералов. Младший из братьев был блондин, красивый, как девушка. Он был любимчиком секретаря кабинета Теплова, и, как мальчик умный, не только бравировал пренебрежением к предрассудкам, но и взял за привычку пленять ласками, нежностями и уважительным отношением всех людей комильфо, с которыми общался. Предположив в гамбуржце Бомбаке наличие того же вкуса, что и в г-не Теплове, и не ошибаясь в этом, он счел, что обижает меня тем, что не относит к этой категории. С этой мыслью он сел за стол рядом со мной и столько кокетничал со мной за обедом, что, честное слово, я решил, что это девушка, одетая мальчиком.
После обеда, сев у огня между ним и французской путешественницей, я заявил ему о моем предположении, но Лунин, относясь ревностно к превосходству своего пола, немедленно выставил его на показ и, пожелав узнать, могу ли я остаться безразличным к его красоте, завладел мной и, будучи уверен, что он мне нравится, занял позицию, чтобы осчастливить меня и себя. И это бы произошло, если бы ла Ривьер, недовольная тем, что мальчик в ее присутствии смеет посягать на ее права, не смутила его и не заставила отложить его попытку на другое более подходящее время.
Это сражение меня позабавило; но, не оставшись равнодушным, я не счел нужным в этом притворяться. Я сказал девушке, что у нее нет никакого права вмешиваться в наши дела, что послужило для Лунина декларацией с моей стороны в пользу его прав. Лунин выставил на парад все свои богатства, и даже свою белую грудь, и заставил девицу сделать то же, от чего она отказалась, назвав нас пидорами; на это мы ответили, назвав ее шлюхой, и она нас покинула. Мы одарили друг друга, молодой русский и я, знаками самой нежной дружбы и поклялись в ее вечной неизменности.
Лунин старший, Кревкёр и Бомбак пошли прогуляться, вернулись с наступлением ночи вместе с двумя или тремя друзьями, которые легко присоединились, на французский манер, к нашей дурной компании.
Бомбак организовал банк фараон, который кончился только в одиннадцать часов, когда у него не осталось больше денег, и мы поужинали. После ужина началась великая оргия. Ла Ривьер кружила голову Бомбаку, Лунину старшему и двум молодым офицерам, его друзьям, Кревкёр пошел спать. Я с моим новым другом, мы единственные сохраняли разумный вид, будучи спокойными наблюдателями дебатов, которые быстро развернулись, все время меняясь, в которых любовница бедного Кревкёра держалась стойко. Задетая тем, что интересует нас только как зрителей, она осыпала нас самыми суровыми сарказмами, но мы не обращали внимания. Наше поведение напоминало добропорядочность двух добрых стариков, снисходительно относящихся к экстравагантностям неистовой молодежи. Мы расстались за час до рассвета.
Я вернулся к себе, вошел в свою комнату и чисто случайно уклонился от бутылки, которую Заира запустила мне в голову и убила бы, если бы попала мне в висок. Она расцарапала мне физиономию. Я увидел, как она в ярости бросилась на землю и стала биться об нее головой; я бросился к ней, схватил ее с силой, спросил, что с ней, и, решив, что она сошла с ума, хотел позвать народ. Она утихомирилась, просто утопая в слезах и называя меня предателем и убийцей. Чтобы доказать мою вину, она показала мне квадрат из двадцати пяти карт, где изложила по картам весь мой дебош, которым я занимался всю ночь. Она указала мне на стерву, на постель, сражения и даже на мои преступления против природы. Я ничего этого не видел, но она воображала, что видит все.
Оставив ей выговориться обо всем, что было ей необходимо, чтобы утихомирить свою яростную ревность, я швырнул в огонь всю ее проклятую тарабарщину и, глядя на нее глазами, в которых она могла видеть мой гнев и в то же время жалость, которую она мне внушала, давая в то же время понять, что она чуть меня не убила, я заявил, что мы должны расстаться навсегда не позднее, чем завтра. Я сказал, что это правда, что я провел ночь у Бомбака, где была девушка, но я не занимался с ней, естественно, никакими крайностями, которые она мне приписывала. После этого, желая спать, я разделся, лег и заснул, несмотря на все то, что она проделывала, улегшись возле меня, чтобы заслужить прощение и уверить меня в своем раскаянии. Через пять-шесть часов я проснулся и, видя ее спящей, оделся, думая о том, как бы избавиться от этой девушки, которая однажды в своем припадке ревнивой ярости вполне могла меня убить. Но как бы смог я выполнить мое намерение, видя ее передо мной на коленях, в отчаянии и раскаянии, выпрашивающей моего прощения, моей жалости и заверяющей, что в будущем я увижу ее нежной как ягненок? Соглашение было заключено, когда, приняв ее в свои объятия и выдав ей явные знаки возвращения моей нежности, я потребовал, а она клятвенно пообещала, что не будет раскладывать больше карт, пока живет со мной. Я решил ехать в Москву через три дня после этих событий, и она преисполнилась радости, убедившись, что я беру ее с собой. Три основные причины привели к тому, что эта девочка в меня влюбилась. Одна – что я возил ее часто в Катеринов повидаться с ее семьей, где всегда оставлял рубль; другая – что оставлял ее обедать со мной, когда приглашал гостей, и третья – что я бил ее три или четыре раза, когда она хотела помешать мне уйти.
Странная необходимость в России мужчине, когда он прав, бить своего слугу! Слова не имеют никакой силы; силу имеет только порка. Слуга, у которого душа раба, размышляет, получив удары: «Мой хозяин меня не прогнал, он не бил бы меня, если бы не любил, я должен быть ему привязан».
Папанелопуло смеялся надо мной, когда я сказал ему в начале моего пребывания в Петербурге, что, любя моего «козака», говорящего по-французски, я хочу привязать его к себе лаской, поправляя только словами, потому что он лишится разума от зуботычин.
– Если вы его не бьете, – говорил он мне, – настанет день, когда он побьет вас.
И это время наступило. Однажды, когда я счел его настолько испортившимся от напитков, что он не мог мне служить, я решил отругать его грубыми словами, пригрозив только тростью. Как только он увидел ее в воздухе, он подбежал ко мне и схватил ее; и если бы я его не опрокинул, наверняка он бы меня побил. Я тут же выгнал его за дверь. Нет на свете слуги лучше, чем русский, неутомимый в работе, спящий на пороге двери, где спит его хозяин, чтобы быть готовым бежать к нему, как только он позовет, всегда послушный, ничего не отвечающий, когда его вина очевидна и ее невозможно скрыть; но он становится монстром или идиотом, когда выпьет стакан крепкого напитка, и это грех всего народа. Кучер, высиживающий на самом сильном морозе, часто всю ночь, при дверях дома, чтобы охранять своих лошадей, не знает другого средства держать себя в состоянии сопротивляться ему, как пить водку. Ему случается, если он выпьет пару стаканов, заснуть на снегу, где иногда он больше не просыпается. Он замерзает до смерти. Часто случается несчастье потерять ухо, нос до кости, кусок щеки, губу, если не поберечься. Однажды русский заметил, что я могу потерять ухо, когда я прибыл в Петров (Петергоф) на санях, при жгучем морозе. Он стал быстро тереть меня горстью снега, пока весь хрящевой участок, который я мог потерять, не восстановился. Спрошенный, как он догадался, что я в опасности, он ответил, что это заметить легко, потому что часть, отмирающая от холода, становится совершенно белой. Что меня удивляло и что до сих пор кажется мне необъяснимым, это, что потерянная часть тела несколько раз восстанавливалась. Принц Карл Курляндский уверил меня, что он потерял однажды в Сибири свой нос, который, однако, восстановился летом. Некоторые «музик» (мужики) заверяли меня в подобном феномене.
В это время императрица затеяла строить обширный амфитеатр из дерева, такой же большой, как вся площадь перед ее дворцом, сотворенным архитектором-флорентинцем Растрелли. Этот амфитеатр, устроенный на сто тысяч зрителей, был творением архитектора Ринальди, который жил в Петербурге на протяжении пятидесяти лет и никогда не пытался вернуться в Рим, на свою родину. Внутри этого сооружения Екатерина хотела устроить карусель из всех знатных кавалеров своей империи. Кадрилей должно было проходить четыре, с сотней храбрецов каждая, одетых очень богато в национальные костюмы народов, которые они представляли, и они должны были сражаться в конных поединках друг с другом, за приз большой стоимости. Вся империя была извещена об этом великолепном празднике, который должен был проходить на средства суверена; и принцы, графы, бароны начали прибывать из самых удаленных городов со своими прекрасными лошадьми. Принц Карл Курляндский написал мне, что он тоже прибудет. Было решено, что день, когда состоится прекрасный праздник, будет первый, когда установится хорошая погода; и ничто не было разумней этого, ибо прекрасный день, без дождя, ветра и угрозы снега, в Петербурге явление весьма редкое. Мы рассчитываем в Италии на хорошую погоду; в России – на плохую. Я смеюсь, когда русские, путешествующие в Европе, говорят о своем прекрасном климате. Это факт, что в течение всего 1765 года не было в России ни одного прекрасного дня; несомненным доказательством этому является то, что устроить карусель не смогли. Устроили крытое отопление амфитеатра и организовали карусель в следующем году. Кавалеры провели зиму в Петербурге; те, у кого не хватило денежных средств, чтобы оставаться, вернулись в свои страны. Одним из этих последних был принц Карл Курляндский.








