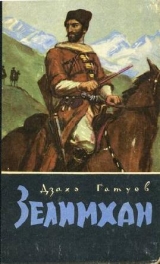
Текст книги "Зелимхан"
Автор книги: Дзахо Гатуев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Дзахо (Константин) Гатуев
Составитель С. К. Гатуев
Художники: В. Я. Глушкови М. В. Джанаев
В ноябре 1910 года в редакцию владикавказской газеты «Терек» пришел худощавый юноша-осетин с умными черными глазами. Он принес стихи на. смерть Л. Н. Толстого. Журналист Солодов прочитал стихи и обратился к Миронову-Кирову.
– Посмотри, Сергей.
Сергей Миронович углубился в чтение.
– Настоящие стихи, Саша!
– Да, но не пойдут они у нас!..
– Это не важно. – Повернувшись к посетителю Мироныч сказал: – А вы напишите еще. Помягче только. За эти нас в лучшем случае прикроют…
С этого дня юный гимназист Костя Гатуев каждую неделю заходил в «Терек». После верстки газеты провожал Кирова до Грозненской. Осенний ветер хватал Мироныча за полы пальто.
«Были годы Шварца и Кассо, громивших университеты, годы реакции, – вспоминал Константин Алексеевич Гатуев. – Миронов сутулился, сопротивляясь ветру. Оба скупые на речи, мы шли, коротко оценивая последние новости.
– А революция все-таки будет, потому что есть пролетариат, – почти прокричал Миронов».
Часто Сергей Миронович приглашал Константина к себе в гости, в домик на узком Лебедевском переулке. Иногда приходил студент Яков Львович Маркус.
Здесь в беседах, которые длились допоздна, Костя Гатуев получил первые уроки политической грамоты; они во многом определили мировоззрение будущего талантливого писателя.
В Московском университете Гатуев вступает в марксистский кружок. Находясь в летние месяцы во Владикавказе, он по заданию С. М. Кирова распространяет нелегальную большевистскую литературу в железнодорожных мастерских и среди рабочих цинкового завода. В октябре 1917 года участвует в вооруженном восстании московского пролетариата.
Многие годы спустя, проходя по Никитской площади с сыном. Константин Алексеевич остановился около кинотеатра «Унион» и погладил угол дома. Видя недоумение сына, пояснил: «Я отсюда в белых стрелял».
В годы становления Советской власти К. А. Гатуев вновь сотрудничает с С. М. Кировым во Владикавказе, выполняет его поручения как журналист, используя страницы газеты «Горская жизнь» для объективного освещения политических событий на Тереке и пропаганды идей пролетарской революции.
Сергей Миронович с первых встреч заметил благородную искру в сердце юного осетина, страстно любящего свой народ, и сделал все для-того, чтобы пробудить в нем творческие силы литератора – бойца революции.
Дзахо (Константин) Гатуев не расставался с журналистским блокнотом и фотоаппаратом, «вдоль и поперек» изъездил горы Северного Кавказа, воспел первые ростки нового, социалистического мира на родной земле.
Дзахо полным голосом заявил о себе как писатель удивительно яркого, самобытного таланта. Его произведения были восторженно встречены народом, ими заинтересовался великий Горький.
* * *
Исторические судьбы горцев Кавказа с детских лет волновали воображение Дзахо Гатуева. В годы «затишья» после первой русской революции, обращая свой юный взор к далеким дням шамилевских битв и к романтическим образам абречества, Дзахо писал с грустью:
Мой кинжал, для злой мести кованный,
И стальная кремневка деда
Не блеснули хоть раз очарованно
Ни над кем, предвещая беды…
Эти школьные стихи подобны первым, робким шагам младенца, который крепко держится за домотканую юбку матери. А через десять лет К. А. Гатуев создает поэму «Азия» – темпераментную оду идеям объединения угнетенных народов южных окраин России. Он обращается к горцам Дагестана, Чечни, Ингушетии, к кабардинцам, осетинам, черкесам, к декханам Средней Азии и кочевникам Калмыкии:
Все, все лишенные хлеба, – слетайтесь.
В поэме ярко выражено чувство непримиримости к угнетателям, четко определены понятия «Европа» и «Азия», но молодой певец грядущей свободы «изолировал» Азию от борьбы русского пролетариата – движущей силы революции. Сергей Миронович и не предъявлял к своему юному другу требований как к зрелому марксисту; Киров опубликовал «Азию» в газете «Терек». В этот период Ной Буачидзе, С. М. Киров и другие верные ленинцы стремились к объединению всех революционно-демократических сил против, бушующей на Кавказе контрреволюции.
Кстати сказать, в эти дни К. А. Гатуев меньше всего интересовался тем, какое впечатление произвела на его друзей и всех читателей поэма; он был занят другим делом. Контрреволюционно настроенные офицеры и черносотенцы разгромили большевистский Совет. Ноя Буачидзе и Мамия Орахелашвили арестовали. С. М. Киров находился в опасности. Костя Гатуев. предложил Миронычу покинуть свою квартиру и пригласил его вместе с Марией Львовной Маркус к себе. Сжимая рукоятку браунинга, Гатуев сопровождал их до своего дома на Тарской.
Когда миновала опасность, можно было побеседовать и о новой поэме.
В воспоминаниях о Кирове Дзахо Гатуев с присущей ему скромностью объективно рассказывает: «Будучи в 20-м году в Москве, я показывал эту поэму Маяковскому. Маяковскому она не понравилась. Но в декабре 17-го года во Владикавказе, окруженном «азиатами», она прозвучала сильно».
Первыми, наиболее значительными произведениями Дзахо явились документальные повести «Зелимхан» и «Ингуши», написанные почти одновременно – в двадцатые годы. Писатель кропотливо изучал сотни архивных документов в Ленинграде, Москве, Владикавказе, Грозном, ездил в горы Чечни и Ингушетии, подолгу беседовал с близкими Зелимхана на их родном языке (К. А. Гатуев владел многими языками народов Северного Кавказа), с людьми, знавшими друзей и врагов Зелимхана.
В истоках национально-освободительных движений на Кавказе Дзахо Гатуев находил ответы на многие вопросы, вытекающие из сложной обстановки последующих революционных битв в многонациональном крае. Еще слышны были отголоски теорий идеологов антинародных партий, буржуазных демократов из различных «национальных союзов», еще не утихли в ущельях нирваны мракобеса Кунта-Хаджи, апостола «зикры» – учения халифатских дервишей. Кунта-Хаджи давно в могиле, но его мюриды пересчитывают нескончаемые зерна янтарных четок, возводят абреков в ранг святых, утверждают, что только гибель в борьбе с кафурами (нечистыми) во имя аллаха и пророка его ведет в тенистые райские сады.
И писатель-революционер создает мастерски сотканное художественно-историческое полотно, живописует самого знаменитого абрека и говорит народу: «Вот правда о Зелимхане. Не верьте мюридам мистической «зикры» и легендам националистов! Зелимхан не был «святым» и врагом русских. Он – народный мститель, он – друг и брат русскому бедняку, обездоленному и униженному угнетателями. Вот правда о Зелимхане!..»
Документальная повесть «Зелимхан», являет собой важное звено в цепи творческих замыслов Дзахо Гатуева. Приступая к работе над этим произведением, писатель ставил большую цель – создать цикл повестей, раскрывающих в колоритных образах взаимосвязь событий в период от первой русской революции до великого Октября и гражданской войны, их закономерность, обусловленную экономическими, социальными, этнографическими, религиозными и другими особенностями жизни народов Кавказа.
Пунктир этой линии в планах писателя прослеживается по названиям повестей – «Зелимхан», «Ингуши», «Дикало-Замана», «Серго» (к сожалению, повесть о Серго Орджоникидзе не дошла до нас, она бесследно пропала после смерти писателя) и «Гага-аул» – о днях становления Советской власти в высокогорном селении.
Есть основание полагать, что Дзахо Гатуев, создавая цикл исторически связанных между собой произведений, намеревался вернуться к работе над «Зелимханом»; некоторые главы повести выпадали из ее композиционного и стилевого строя, к тому же они были преходящими и уже к началу сороковых годов утратили свою свежесть. Не случайно К. А. Гатуев не переиздал «Зелимхана».
В настоящей книге повесть «Зелимхан» публикуется с сокращениями – исключено введение и ряд документальных материалов. Однако отдельные места из введения («К истории национально-освободительных движений на Северном Кавказе») представляют несомненный интерес для читателя. Например, говоря с зарождении абречества в Чечне, автор приводит такие данные: «Началу абречества в Чечне положил харачоевский (такова уж судьба этого аула!) Атабай – мюрид Шамиля. Атабай пережил со своим имамом всю радость войны и после сдачи Шамиля ушел в партизанщину. Счастье не долго сопровождало деятельность Атабая: он был схвачен. Но у него оказались последователи – Эски, Мехки, Осман, Аюб, Зелимхан гельдигенский, Саламбек, Солтамурад, Гушмазуко и, наконец. Зелимхан харачоевский, как самый яркий выразитель абреческой славы, озарившей закат старого века».
Дзахо Гатуев рассматривает абречество как протест индивидуума, выражающего настроение трудовых масс, – протест против нищеты, бесправия горцев и произвола царских властей. «…Война считалась продолжающейся. Неписанная история горцев разделила ее, как и войну настоящую, на эпохи, названные именами начальников областей. Смекаловщина, каханов-щина, толстовщина, колюбакинщина, михеевщина – яркие моменты этой истории. Смекалов бил розгами «изобличенных и неизобличенных преступников». Ка-ханов ссылал их на остров Чечень (в числе сосланных оказался и великий осетинский поэт Коста Хетагуров). Толстов отдал население произволу начальников округов. Колюбакин пулями усмирял горцев после 1905 года. Михеев установил систему прочных семейных ссылок и экзекуции в аулах. Все вместе они создали в области обстановку непрекращающихся насилий, породивших зелимхановщину.
Нужны были грандиозные сдвиги Октября, – заключает К– А. Гатуев, – чтобы эту обстановку уничтожить».
Писатель ставит на первый план социальные корни зелимхановщипы, а «дань всевышнему аллаху» трактует как завуалированный политический лозунг.
Зелимхан харачоевский – сложная натура. Его отвага, неуловимость, удаль, жестокость («стойкость в злости») создали ему ореол героя. Но он не только мстил. Скрываясь в горах, он должен был чем-то жить – питаться, одеваться, покупать патроны. Поэтому – грабил. Вину свою сознавал.
Он много писал, хотя не был грамотен по-русски; диктовал письма толмачам (переводчикам). Прежде чем дело довести до убийства, Зелимхан старался отыскать возможности предупредить зло, отвратить. Вот строки его письма полковнику Галаеву: «Я думаю, что из головы твоей утекло масло, раз ты думаешь, что царский закон может делать все, что угодно. Не стыдно тебе обвинять совершенно невинных? На каком основании наказываешь ты этих детей?
…Вы не можете подняться на крыльях, к небу и не можете также влезть в землю. Или же вы постоянно будете находиться в крепости, решая дела так неправильно?..
Куда вы денетесь? Вы никуда не денетесь, пока я жив.
…Эй, начальствующие! Я вас считаю очень низкими. Смотрите на меня: я нашел казаков и женщин, когда они ходили в горы, – и я их не тронул…» Далее Зелимхан называет имена своих сотоварищей, чтобы пристав не трогал невинных людей, и предупреждает: «Хотя вы теперь радуетесь, но после будете плакать несомненно».
Во втором письме Галаеву абрек Зелимхан дает последнее предупреждение: «Ты, кажется, знаешь, что я сделал с Добронольским, таким же полковником, как и ты… Я тебе говорю, чтобы ты освободил всех заключенных, о вине которых ты не слыхал и не видел ничего правдивого.
…Если же не послушаешь, то будь уверен, что жизнь твою покончу или увезу в живых казнить тебя. Зелимхан Гушмазукаев».
И он сдержал слово: летом 1908 года убил полковника Галаева, о чем доложил в своей «исповеди» Государственной думе.
– Я не родился абреком!.. – Эти слова Зелимхана звучат как грозное обличение царского самодержавия.
Дзахо Гатуев рассказывает о Зелимхане правдиво, объективно. Как художник незаурядного таланта, Дзахо порой освещает то или иное событие с неожиданной стороны, чтобы проще донести до читателя природу явлении и причины, породившие их. Идя па следам необычайных, удивительных поступков абрека, читатель видит отношение к ним автора. Героизм – подвиг – определяется не собственной отвагой, а тем, во имя какой цели совершен смелый поступок. Когда Зелимхан мстит царским властям за несправедливые репрессии и разбой в мирных аулах, – он народный герой. Когда он грабит банк в Кизляре, стреляет в охранников, чтобы захватить деньги, – он просто абрек, как и многие другие на больших дорогах.
Как уже было сказано, Зелимхан не был врагом русских; бедняков он не трогал и даже одаривал их деньгами. Часть своей добычи от удачных набегов раздавал сиротам, женам и детям сосланных в Сибирь невинных людей.
Зелимхан ждал революции, чтобы покончить с абречеством, сбросить с себя волчью шкуру. Он был мирным человеком, честно трудился, никого не трогал. Но несправедливость, коварство и тирания заставили его стрелять из засады или совершать ночные налеты на врагов. Этот шаг был криком отчаяния человека, несправедливо обреченного на каторгу, гибель в тюрьме или казнь.
Он ждал революцию, которая бы поняла и простила его (так думал Зелимхан). Не дождался – погиб. К сожалению, понятие о революции до Зелимхана донесли анархисты, снабдившие его бомбами и печатью, а не грозненские рабочие-коммунисты, которые помогли бы ему стать на правильный путь борьбы.
Такова документальная повесть «Зелимхан». Как известно, Дзахо экранизировал повесть, и киностудия «Восток-кино» выпустила художественный фильм под тем же названием. Кинофильм «Зелимхан» прогремел по всей нашей стране и демонстрировался во многих странах мира.
* * *
Ранние произведения Дзахо Гатуева, как и творчество большинства молодых талантливых писателей того времени, не прошли мимо внимания Алексея Максимовича Горького. Не раз Дзахо встречался с отцом советской литературы, пользовался его консультацией, добрыми советами.
Недавно ростовский литератор П. X. Максимов, работавший прежде вместе с К. А. Гатуевым в краевой газете и в РОСТА, издал книгу, в которой помещено письмо А. М. Горького. Алексей Максимович просит Павла Хрисанфовича Максимова прислать из Ростова несколько книг, в том числе – «Зелимхана».
По рассказам современников, Горький тепло отозвался о «Зелимхане» Гатуева, рекомендовал молодому писателю проявлять большую активность в создании новых книг о революционных преобразованиях в жизни горцев Кавказа и расширять тематику произведений.
Из Ростова Гатуев переехал в Москву, публиковал очерки в журнале «Наши достижения», выходившем под редакцией А. М. Горького. Очерки К– А. Гатуева «Кавцинк», «Гизельстрой», «Два перевала», а также его многочисленные записи и переводы осетинского фольклора в прозе и в стихах представляют большую ценность для читателей наших дней. Автор проделал значительную исследовательскую работу в области истории Северной и Южной Осетии, поднял ценнейшие документы, подобно тому, как в далекие времена описываемые им «оссы» впервые добыли в недрах гор несметные сокровища и подарили их потомкам, ставшим подлинными хозяевами своей земли.
Писатель-«рудокоп» Дзахо добыл в недрах истории своего народа предания, легенды-были, повествующие о борьбе трудовых людей за счастье. Он славит зарю счастливой жизни, осветившую родные горы Осетии после великого Октября, славит творческий труд своих современников.
Во всех очерках Дзахо Гатуева проявляется наиболее яркая особенность творчества писателя: он не замыкается в узких национальных рамках (так же, как и в повестях «Зелимхан», «Ингуши», «Гага-аул»), а выступает в роли друга и брата соседних народов, делит горечь их бед, радуется их радостям. Он – знаменосец дружбы.
В 1960 году Гослитиздат выпустил книгу избранных произведений Дзахо Гатуева «Гага-аул». В основу ее легла одноименная повесть. Впервые она вышла в свет в 1930 году. Это был ответ делом на пожелание Горького. Чувствуя ответственность перед ним, Дзахо несколько лет трудился над этим сравнительно небольшим произведением.
С первых же страниц повесть «Гага-аул» захватывает читателя, переносит в суровый и величественный мир Кавказа, раскрывает глубины народного быта горцев, родовые и классовые противоречия, рассказывает о том, как в неприступное ущелье врывается с севера свежий ветер новой, советской жизни.
Писатель отображает сложный процесс проникновения революционных, социалистических идей в глухой аул, затерянный среди ледников и скал. Это высокоталантливое, в своем роде неповторимое произведение почти не поддается цитированию – так органично, слитно в нем единое содержание. Язык красив и колоритен, повествование движется по каким-то неписанным законам самобытной поэтики горской речи, рубленые фразы кажутся кристаллами. Во всем повествовании чувствуется сдержанность, таящая в себе силу. Сдержанный юмор смягчает остроту мрачных явлений жизни в суровых горах, где в период «междувластия» остаются одни лишь законы адата и шариата. Писатель не прибегает к испытанным сатирическим средствам при изображении всесильных. Гамзат-муллы и Джабраил-кадия, но они сами по себе убоги и смешны, эти обветшалые правители аула. Джабраил-кадия коснулось жало старческого маразма. Он говорит мулле: «Шариат делается ничтожнее коровьего помета… Хороший плов на поминках был…»
Неуклюже и смешно выглядит кулак Кашкар, объявивший себя большевиком. Пользуясь темнотой сельчан, он обирает их через «копратив», душит «продразверсткой». Этот самодовольный «рывкома предсэдатэл» мечтает лишь о том, чтобы получить в городе от Советской власти френч и «галифекс».
Мягким юмором светится письмо девушки Айши из города, куда она уехала учиться: «…Яа учица читат писат многа подруга учица читат писат Прулитари всех стран содиняйс Совецка власть рабочих и кри-стан кирепко целувайю Ханисат, Замират, Мадин так-жо Мариам…» Эта весточка в родной аул, где почти нет грамотных по-русски, вселяет уверенность, что луч света уже проник через гранитные скалы и что вожаками «народа гагааульского» станут Айша и ее друзья, а время кадиев, мулл, Кашкара и Баки кончилось.
От трагического выстрела Лечи-Магомы в братаДжамала до финальной картины, когда развенчанная Баки грозит народу обрубками рук, – вся повесть читается, как поэма в прозе. Картины впечатляющие, словно изображенные на кованом серебре тонким резцом искусного кубачинского златокузнеца.
Такое впечатление оставляет «Гага-аул» Дзахо Гатуева, вдохновенного певца гор.
* * *
Константин Алексеевич Гатуев погиб в июне 1938 года в результате репрессий, допущенных в период культа Сталина. Жизнь Дзахо трагически оборвалась в самом расцвете творческих сил писателя.
В 1936 году Гатуев писал по поводу смерти своего друга Сергея Мироновича Кирова: «И когда в бывшем Владикавказе плакали репродукторы, хотелось мгновениями сунуть руки в их широкие горла, задушить их, заставить молчать. Потому что жить да жить должен был Мироныч»
Знакомясь сегодня с кипучей жизнью и замечательным наследием Дзахо Гатуева, хочется эти слова обратить к нему самому:
– Жить бы да жить тебе, дорогой Дзахо!..
Б. Шелепов.
Зелимхан
Повесть

Зелимхан был горец как горец, со всеми чертами настоящего горца, настоящего мужчины. Родина его. – Харачой. В дупле российского империализма родился Зелимхан. Первые впечатления детства у Зелимхана те же, что у каждого чеченца: Шамиль, время шариата. И горы. Дегалар Чермой-лам. Гиз-гин-лам.
Родословная Зелимхана несложна, если начать ее с Бехо.
Бехо родил двух сыновей. Сыновья родили пятерых. И четырех девушек: Хайкяху, Эзыху, Дзеди и Зазубику. И во всем селении Бехо единственный был седобородым, таким, как века, что выпирают неотесанными плитами на харачоевском кладбище.
У харачоевцев овцы, у харачоевцев шерсть, сыр, масло. Недавно еще харачоевцы сами ткали себе сукно, сами отливали пули для длинностволых кремневых ружей – крымских, с которыми ходили в ичкерийские леса на зверя и за ичкерийские леса на людей. Недавно еще дагестанские кузнецы переваливали из Ботлиха с грузом топоров, серпов, кос и обменивали его на харачоевскую кукурузу. Иногда привозили харачоевским невестам яркие персидские ткани.
Товар оборачивался из ущелья в ущелье, переваливая высокие кряжи гор, перебрасывай жердяные мостики через бурные реки.
Но когда на полки Веденских лавок в семи верстах, в крепости, легли тяжелые штуки русского сукна, русского ситца, разрисованного, как персидский шелк, а на гвоздях повисли схваченные проволокой подковы, косы, серпы, которые дешевле и крепче тех, что привозили вьюком хриплые дагестанцы, тогда харачоевцы оказались втянутыми в сферу мирового хозяйства. Легче нарубить в лесу тяжелые плахи дров, продать их и купить сукно в городской лавке, чем самим снимать с овец шерсть и перерабатывать ее в черкески. Легче продать шерсть и купить ситец, подковы, гвозди.
Так маленький Харачой, затерявшийся в глубине ущелий, втягивался в мировое хозяйство. Может быть, это втягивание прошло бы незаметно и безболезненно. Может быть, Харачой приобщился бы к культуре через свой естественный рост.
Но эволюция происходит во времени. А Харачой шел в культуру через крепостные ворота Ведено.
Харачой был гололоб, был он азиат, был покоренный. Соединив в себе эти три качества, он выпускался в крепостные ворота не только мимо часовых, но и сквозь стройную систему оскорблений и унижений, придуманную царскими сатрапами. Мало того, чем он уже был в глазах носителей всяческих погон. Его заставляли в воротах снимать кинжал, понукали непонятливого ядреным матом, прикладами, не считаясь ни с возрастом, ни с полом. Часто начальнику казались подозрительными женщины. Тогда он обыскивал их, т. е. лапал, лапал тех, кто всем строем жизни был убежден, что всякое прикосновение чужого мужчины – оскорбление, если не позор.
За прилавками магазинов сидели уверенные в твердости крепостных стен и солдатских штыков купцы. Тоже чужие. В харачоевцах купцов раздражало все: подвох, желание дешевле купить, неумение говорить по-русски.
Если бы можно, харачоевцы, чтобы не видеть и не слышать, вовсе не ходили бы в крепость. Но законы капиталистического развития были сильнее харачоевцев, мусульманства, гор. Всего того, что окружало харачоевцев, к чему харачоевцы привыкли.
И замыкаясь, ища спасения в кругу тех понятий и представлений, в которых их застало время Шамиля, время шариата, они новый мир врагов, ворвавшийся в лесистые ущелья, терпели только как новую, суровую необходимость.
Харачой знал, что всякое зло, всякое насилие имеют предел, установленный адатом и шариатом, что адат и шариат – это дело и слово правды и справедливости в тех формах, которые установил родовой строй. А царизм принес свои формы, которые были как раз противоположны харачоевским.
В имущественных отношениях харачоевцы считали, что око идет за око, зуб за зуб. Имущественными отношениями определялись общественные. Человек равен определенной рабочей силе. Как рабочая сила расценивается в случаях покушения на его жизнь, на часть его тела. И наоборот: имущественный ущерб может быть возмещен соответствующим ущербом телу виновника. Такая экономика пронизывала весь харачоевский строй.
Царскому чиновнику задумалось изменить харачоевские понятия и представления. И он выделил из среды харачоевцев группу собственников, «лучших людей», для заполнения ими первичных административных должностей-старшин и милиционеров. Группа была выделена врагом. Выделившись, она оказалась во вражеском стане. И вне внутриродовых харачоевских отношений. Основное ядро харачоевцев, остававшееся первобытным, замкнулось в еще более тесных рамках рода. И в религиозном сектантстве, обеспечивающем незыблемость харачоевских основ. По инстинкту самосохранения. Столкнулись два мира. Все, что делал царизм, что, по мысли его, было справедливо, противоречило харачоевским представлениям о справедливости.
Отобрание земли в пользу казаков и собственников, выросших из измены народному делу борьбы. Насилия и оскорбления. Таскания за бороду почетных носителей фамильного авторитета. Насмешки по поводу магометовых способов проявления религиозных чувств. По поводу происхождения. Женского костюма с его шальварами до самых пят… Разве мало было поводов для насмешек? Были они у чиновника системой, а наивный харачоевец к нему же шел искать защиты. От обид. И не находил.
Тогда Харачой решил своими силами восстанавливать справедливость. Свою справедливость. По отношению к себе, по крайней мере.
Зелимхан работал на поле. Пас отцовские стада. Ходил в крепость. Был период, когда Зелимхан даже зачастил в крепость. Стал привычным для обитателей ее чеченцем, скоро узнанным и по имени.
Как чеченец Зелимхан не мог жить в крепостной слободе. Правом владеть недвижимостью в стенах крепости пользовались только офицерские чины. Чеченские офицерские чины. А из русских все, кто хотел. И мог. Зелимхан не мог не только потому, что был чеченцем.
И каждый день Зелимхан отсчитывал версты в крепость, которая старалась жить по европейскому образцу. Карты. Клуб. Ресторан. В нем оркестр. Пьяные офицеры. Проституирующие жены. Чеченцы, выбившиеся на мутную поверхность новой жизни, старалась не отставать от европейских образцов. От европейского темпа.
Другие, равные Зелимхану, испытывали равную с ним судьбу обид и угнетений.
И вот Зелимхан ушел. Скрылся из глаз обитающих в крепости. На месяц. На два. На три. Он появился вновь, чтобы встретить однажды на дороге из крепости в Грозный Веденского купца Носова.
– Стой!
Носов остановился. Давно не видел старого знакомого Зелимхана. А Зелимхан:
– Давай деньги!
– Кунак! Зелимхан! Ты меня? Перестань. Нехорошо так с кунаками делать.
Носов бил наверняка: знал слабое место чеченца.
– Давай деньги. Мне трехлинейную винтовку надо. Мне деньги надо.
– Э, кунак, хороший кунак. Неужели своего знакомого убивать будешь? Нехорошо, кунак. Воллай лазун, биллай лазун, [1]1
Воллай лазун, биллай лазун – искаженные слова мусульманской клятвы на арабском языке: «Валлахи азим, биллахи азим». (Все примечания – от редакции)
[Закрыть]нехорошо.
Носов знал не только чеченцев. И по-чеченски знал.
– Деньги надо, больше ничего не надо.
Одноглазая берданка смотрела темным оком, определенно угрожая. Носов отличил эту встречу от привычных крепостных.
– Хорошо. Вот у меня шестьдесят рублей. Я отдам тебе их, Зелимхан. Я дал бы тебе больше, но у меня нет. Клянусь своим богом – нет. Возьми их. Поклянись только, что ты не убьешь ни меня, ни сына.
– Воллай лазун, биллай лазун, не убью! – поклялся Зелимхан. – Воллай лазун, биллай Лазун, убью, если ты расскажешь в крепости, что я ограбил тебя.
Купец пообещал не рассказывать.
– Теперь давай!
Но купец Носов – хитрый купец. Во внутреннем кармане у него настоящие деньги. Большие. Запасенные на покупку городских товаров. Что если Зелимхан, подойдя за шестьюдесятью, доберется и до настоящих рублей?
– Только уговор. Маленький уговор, Зелимхан. Я правду говорю: я боюсь, что ты все же убьешь меня или сына. Дай мне проехать вперед, а ты иди следом. Я буду бросать бумажки, а ты собирай их.
Грабитель и потерпевший сдержали слово. Носов отсчитал Зелимхану 60 рублей, и никому в слободе не рассказал о Зелимхановом явлении.
Опять не приходил Зелимхан в крепость.
Едва ли он посвятил это время посту и молитве. И одиночному философствованию на диком утесе. И теперь и впоследствии, когда вырос, – всегда Зелимхан был настроен практически. Скорее всего, он ходил по кривым улицам Харачоя, Дышни-Ведено, Ца-Ве-дено. Ходил, прислушивался. Еще больше убеждался в необходимости борьбы, во что бы то ни стало, зла, во что бы то ни стало. Для врагов зла.
Почему чеченец уходит в борьбу? Есть песня. В ней чеченский вечер. В ней чеченец, приютившийся на ночь под одеялом. Всякий разумный в таком положении уснуть должен. Но чеченец нет. Он не разумный, он младенческий. Ему вольность мерещится и рядом с вольностью тюрьма и железная жалость часовых.
– О мое сердце, – поет чеченец, – к чему зовешь меня! Ты же знаешь…
Вольность и тюрьма. Тюрьма и вольность. Два призрака на одном пути. И все же поднимается чеченец, чтобы ускакать на коне во мраке ночи, чтобы стать абреком.
Схожее с этим Зелимхан уже пережил. Теперь он ходил, чтобы искать себе друзей, чтобы искать товарищей. Хороший абрек, абрек настоящий, должен иметь много настоящих друзей. В каждом ауле, в каждом хуторе. Абрек, который хочет быть большим абреком, должен иметь друзей не только в Чечне. В Дагестане. В Ингушетии. В Осетии. И еще – он должен знать дороги. Тропы людские, звериные тропы. Пещеры, лужайки, родники. Приметы погоды. И горы, вершины которых вместо звезд. В селах он должен знать не так кривые улочки и переулочки, как задние дворы. С их сапетками, в которых кукуруза. С их садами, плетнями, конюшнями, амбарами.
Абрек, настоящий абрек, кроме того, что знают обыкновенные люди, должен знать и то, что обыкновенных людей не интересует вовсе.
И еще – он должен первым взглядом отличать друга от врага. Ах, как много должен знать абрек, настоящий абрек, харачоевский! Зелимхан – абрек. И Зелимхан знал.
А в Ведено продолжалось старое. Заброшенные волею судьбы, в виде занумерованного приказа, в глубину Чечни люди добросовестно выполняли получаемые инструкции, распоряжения, указания – канцелярскую премудрость царского Петербурга. Инженерная дистанция блюла «царское» шоссе, проведенное в свое время для какого-то из самодержцев, вздумавшего посетить покоренные земли. Лесничий блюл леса. Судебный следователь – закон. Начальник округа, вкупе с участковым – порядок. Блюли от единственных прирожденных правонарушителей – чеченцев. Блюли от и не для чеченцев. Даже дорога, проведенная для блага царя и населения, оказалась в трудных высокогорных местах непригодной для практических нужд горцев. Она тянется там, вдали от населенных пунктов, и горцы как путями сообщения по-прежнему пользуются старыми дедовскими тропами.
Свободное от выполнения циркуляров время начальство, ограниченное кругозором ближайших хребтов, проводило за картами в офицерском собрании или все в том же ресторане, который, слава богу, делал хорошие дела.
Иногда выезжали за ворота крепости. На прогулки, на пикники. Наслаждаться живописными видами. Что, что, а живописность российский интеллигент всегда любил. Любил располагаться на лужайке около родника. Раздувать самовар снятым в порыве непосредственности сапогом. Вскрывать коробки с консервами. Единым махом выбивать пробку. Стлать на зеленую скатерть матушки-земли скатерть полотняную. Распоясываться. И уйти, оставив на месте становища осколки бутылей. Ржавые консервные коробки.
Так приближали первобытность к современности и наоборот.
Но однажды первобытность подошла к современности иначе: смуглым Зелимханом и оком трехлинейной винтовки, купленной на деньги купца Носова. Явствовало, что Зелимхан приобщился к современности. На этот раз не один. С товарищами. Офицерские наганы быстро оказались добычей налетчиков. Мужчины опешили. Дамы вновь встревожились за свое целомудрие.








