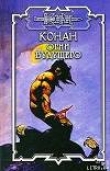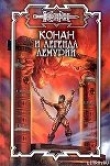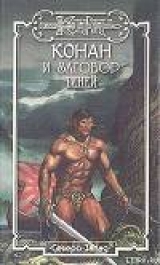
Текст книги "Чужая клятва"
Автор книги: Дункан Мак-Грегор
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Дункан Мак-Грегор
Чужая клятва
Там, где три четверти года снежные равнины темны полный день и полную ночь, изредка лишь озаряемые всполохами чудесного небесного сияния, где холод сменяется морозом, а тьма – мраком, далеко на севере, за тундрой, меж Кезанкийскими горами и Гирканией лежит маленькая страна Ландхаагген. Древние пергаменты, коих в архивариях Белого дворца сохранилось не более десятка, гласят: «Счастливая земля Хааггена мала и плодородна; холмы, но не горы, кусты, но не деревья окружают ее со всех сторон; реки текут чистые и быстрые, и тварей чешуйчатых, для еды пригодных, в них великое множество. Жители высоки ростом, бледны лицом и белы волосами; глаза имеют голубые либо синие, тела крепкие, а нрав спокойный. Вечно зеленая ветвь маттенсаи хранит благостное место сие для жизни долгой, для мира и порядка».
С той прекрасной поры миновали сотни лет. Плодородная земля Хааггена покрылась льдом, в лед превратились реки, и ледяные глыбы выросли на месте цветущих холмов. Холод и мгла воцарились тут; мрак вошел в души людей, большинству из них сократив срок существования, так что вскоре вся страна заключилась в пределах единственного города с тем же названием, и был этот город пустынен и тих. Дома в Ландхааггене стояли прежние, полуразвалившиеся, утепляемые изнутри мхом и ветошью. На узких, некогда уютных улочках ныне сквозь толщу снега и льда уже не проглядывал камень, и даже в короткое светлое время, когда лучи мутно-желтого тусклого шара слегка, но достигали все же сих печальных жест, холодный белый покров стаивал лишь чуть, с самого верха.
В центре города, рядом с широким и низким храмом Эрлика, возвышался Белый дворец, днем и ночью обдуваемый порывистыми колючими ветрами – там жил правитель Мольдзен, молчаливый, угрюмый, безучастный ко всему старец с длинными седыми волосами; жизнь утомляла его; каждый вздох ожидая конца своего долгого века, он не жалел уже и не помнил ни о чем; закутавшись в шерстяное покрывало, он часто всматривался во тьму небес, где недвижимо висели редкие неяркие звезды, но не было в том занятии для него ни смысла, ни интереса.
На много дней пути – если бы решился кто-либо совершить подобное путешествие – раскинулась снежная равнина, что окружала Ландхаагген. Дальние деревушки, числом не более трех, давно уже не имели с городом никаких связей. Жители их одичали, с трудом добывая себе скудное пропитание; тощая домашняя скотина давала жалкий приплод только летом, в светлое время; халупы, по самые окна, а то и крыши заваленные снегом, едва спасали от холода и ветра.
Так постепенно страна вымирала, и через половину века жизнь замерла бы здесь навсегда. Только медведи и олени, да еще большие черные птицы с белыми грудками и короткими лапами бродили бы в холоде и безмолвии по искристому твердому насту, на коем давно уже не осталось следов человека…
Глава 1. Постоялый двор
Дождь лил с самого утра без перерыва. Затянутое облаками небо ровного серого цвета опустилось совсем низко и застряло на верхушках гор, что простирались далеко на восток; мокрые скалы тускло блестели; по ним струились водные потоки, с шумом падая на землю с обрывов и унося с собой вырванные с корнем мелкие растения, камни, труху.
Величественные, с первого взгляда необитаемые горы Кофа принимали подобное омовение нечасто – обыкновенно они трещали и плавились под лучами божественного ока Митры, то гневно, то ласково взирающего сверху на землю; и богохульствовал одинокий путник, пытаясь укрыться от палящего солнца в раскаленных камнях, и птицы пролетали мимо в поисках тенистых рощ, и звери прятались от зноя в глубоких норах, выходя наверх только ночью. Но теперь огнедышащий яркий шар, еще накануне сиявший в голубой выси, скрылся в иных мирах, куда нет пути земному существу.
День близился к концу, а дождь все не прекращался. Потемнело серое небо, уже почти сокрытое от глаз сплошной, стеной льющейся воды, и человек, что пробирался по узенькой тропке меж мокрых холодных скал, заспешил. Где-то в этих краях, точно по направлению к Хоршемишу, находился постоялый двор – приют беглецов и бродяг, коих по свету болтается великое множество, – и пока мгла не опустилась с небес к самым ногам, следовало его найти.
Тропа вихляла не между гор, но по самой горе, иной раз становясь не шире трех ладоней, так что путнику приходилось двигаться боком – едва дыша, спиной обтирая шершавый отвесный склон; под ним, далеко внизу, зияла блестящая от воды черно-зеленая рябь, что скрывала в себе острые камни и глубокие ямы. Но порой тропа резко сбегала вниз, и тогда путник, чавкая сандалиями по слякоти, съезжал по ней, скользя на листьях, на траве и громко рассказывая окружающей среде все, что он думает о личной жизни богов и их внешнем виде.
Он промок до нитки, устал и проголодался, и сие последнее обстоятельство заставляло его шагать все быстрей, сквозь дождь пристально вглядываясь вдаль в надежде узрить маленький, приветливо сияющий в горах огонек. То и дело сплевывая с губ воду, он прыгал с булыжника на булыжник, с кочки на кочку, чуть не падая, перешагивал провалы, и наконец долгий путь его завершился именно так, как и предполагалось: обогнув высокую остроконечную скалу, он увидел желтые окна постоялого двора и, подгоняемый завываниями ветра и желудка, припустил туда, мысленно уже отдавая хозяину приказ немедля принести ему баранью ногу, ломоть хлеба побольше и пару кувшинов пива.
Возле деревянного строения в два этажа, ютившегося на крошечном пятачке меж огромных валунов и крутых скал, странник заметил деревянный же навес, а под ним еле различимые в вечернем полумраке силуэты лошадей. На плоской крыше дома громоздилось заброшенное гнездо; в окнах мелькали чьи-то тени; голоса сливались в гул, который показался путнику приятной музыкой по сравнению с шумом надоевшего давно дождя. Не желая делать на улице и одного лишнего вздоха, он быстро прошел к крыльцу, перескочил четыре ступеньки разом и толкнул дверь мощным плечом.
* * *
Жаркий спертый воздух паром вырвался наружу. Шесть ртов в мгновение захлопнулись, а шесть пар глаз с нескрываемым любопытством уставились на нового гостя – рослого парня с гривой длинных черных волос. Под мокрой, облепившей тело одеждой четко вырисовывались бугры мышц; молодое, но уже суровое лицо с крупными чертами не отличалось особой красотой, тем более что у правого глаза краснел кривой глубокий шрам – несомненно след недавней стычки; пушистые черные ресницы его намокли от дождя; на поясе в потертых ножнах висел меч внушительных размеров, даже для старого воина бывший слишком велик, но для этого юного великана – в самый раз. Он ответил всем не менее пристальным, но гораздо менее любопытствующим коротким взглядом, прикрыл дверь и, оставляя за собою мокрую дорожку, прошел к длинному столу посреди комнаты, где восседали на широких табуретах с толстыми ножками всякого рода оборванцы. Перед каждым стояла глубокая миска с дурно пахнущими бобами и большая глиняная кружка, откуда так и несло кислятиной. Впрочем, судя по удовлетворенным физиономиям постояльцев, они мало обращали внимания на качество угощения, из чего путник незамедлительно заключил, что они, подобно ему самому, знавали деньки и похуже, чем нынешний.
Один, быстроглазый, всклокоченный парень с приятным смуглым лицом, явно был дезертиром из туранской армии наемников – на плечах его висела черная куртка с вензелем на правой стороне груди и вшитым в воротник медным треугольником – знак сайгада, старшего тройки; он пережевывал свои бобы с таким рвением, словно то были его личные враги, коих он желал уничтожить как можно скорее. Второй, бородач с сизым вислым носом, ерзал на табурете и беспрестанно вздыхал, хотя с тонких губ его не сходила нахальная плутовская ухмылка – этот казался торговцем, что потерял все состояние, но сохранил достоинство. Разглядеть третьего не представлялось возможным, ибо, узрев мокрого незнакомца, возникшего в сей обители столь неожиданно и стремительно, он уронил голову на руки и тотчас уснул, как будто очам его явился сам Хипнош – бог сна. У четвертого, щуплого человечка с длинными сальными волосами, рожа напоминала изъеденную молью старую тряпку, давно утерявшую первоначальный свой цвет, по всей видимости, серый либо зеленый; после каждой ложки бобов и каждого глотка пива он подмигивал дезертиру и, когда тот сердито поднимал брови в ответ на подобное проявление чувств к своей особе, мерзко хихикал и облизывался. Пятый и шестой сидели по правую и левую руку от пришельца, так что определить, каковы они и кто, он поначалу не смог.
Тем не менее именно с ближайшим своим соседом он и познакомился прежде остальных.
– Эй, хозяин! – зычным густым голосом прогремел тот, чью мускулистую, покрытую черными вьющимися волосами руку он видел справа от себя. – У нас новый гость! И по виду – варвар! Так что тащи-ка бобы, да поторапливайся, пока парень с голодухи не сожрал мои вместе с миской… Иава Гембех, – представился он, поворачиваясь, – родился в Шеме, жил в Шеме и вернусь туда же… Когда-нибудь… А ты, парень, кто и откуда?
– Конан, из Киммерии, – буркнул тот, с удивлением замечая, что у шемита один глаз черный, а другой зеленый.
Решив про себя, что сие есть знак богов и особого их расположения к этому человеку, молодой киммериец тут же забыл об Иаве, озабоченный собственным, весьма плачевным состоянием. Струйки воды с легким журчанием стекали с него на пол, образовывая вокруг табурета лужу, так что вскоре он сидел уже будто на острове, дрожа и поджав под себя ноги.
– Варвар… Я никогда не ошибаюсь, – насмешливо произнес Иава. Взгляд его переместился вниз, на лужу у табурета.
– Сырости от тебя, приятель! – Он критически осмотрел Конана, покачал головой и достал из кармана плоскую флягу. Глубоко вздохнув, шемит поколебался мгновение, затем быстро вытащил крепкими белыми зубами пробку, обмотанную намокшей тряпицей, и протянул сосуд с живительной влагой киммерийцу.
– А ну-ка, выпей. Это бранд. Сразу согреешься.
Конан благодарно кивнул и приник губами к узкому горлышку. Словно горячий луч огненного ока Митры обжег его глотку; ароматный, тягучий напиток, чуть горький, чуть сладкий, действительно согрел лишь за несколько вздохов. Почти ополовинив флягу, киммериец с сожалением оторвался от нее и вернул владельцу.
– А теперь садись поближе к огню, – заботливо предложил шемит, приподнимаясь и небрежно сталкивая с табурета щуплого.
– Кш-ш! Пусти парня погреться.
В очаге, обложенном с трех сторон круглыми булыжниками, весело трещал огонь; блики его, особенно яркие сейчас, когда за окнами стало совсем темно, подрагивали на лицах, на стенах, отражались в мутной желтизне, плавающей в глиняных пузатых кружках. Конан пересел на табурет щуплого, вытянул ноги, с наслаждением чувствуя, как тепло проникает в него всего, как бурлит разогретая еще брандом кровь, и… как он голоден. От этой мысли киммериец даже вздрогнул. Обернувшись, он обвел взглядом зал, морщась от сразу ударившего в нос запаха протухших бобов из мисок постояльцев, и хрипло позвал:
– Хозяин!
Однако он успел уже совсем согреться, когда наконец хозяин, вынырнувший откуда-то из глубины зала, молча подскочил к нему и шмякнул на стол миску все с теми же бобами. Конан, содрогаясь при мысли о том, что и ему, может быть, предстоит отведать сие вонючее блюдо, ухватил наглеца за штанину, подтянул к себе и угрожающе прорычал:
– А ну, толстяк, волоки сюда мяса, и побольше! Чтоб на всех хватило! Не то, клянусь Кремом, вместо барана я поджарю тебя!
Если не считать короткого знакомства с шемитом, то были первые его слова здесь, на постоялом дворе. Шесть ртов опять захлопнулись, а шесть пар глаз уставились на киммерийца – как видно, ранее им и в голову не приходило требовать у хозяина что-либо, кроме предложенного лично им. И даже тот, что спал, сейчас пробудился от звуков голоса варвара – пробудился и выпучился на него с изумлением, граничащим с ужасом, хотя вряд ли и сам мог объяснить происхождение таких глубоких чувств – смысла речи Конана он слышать не мог, а потому не должен был и пугаться. Но каковы бы ни оказались причины его страха, он взял-таки себя в руки и смолчал, несмотря на то, что ему безумно хотелось визжать и плакать.
А хозяин, который и в самом деле не отличался стройностью фигуры, возмущенно пискнул и, лягнув гостя свободной ногой, попытался вырваться. Напрасно. Тот держал его штанину только двумя пальцами – так, словно брезговал, – но все прыжки и скачки толстяка не увенчались успехом. Под общий громовой хохот он лишь пыхтел, сопел и фыркал, не осмеливаясь оскорбить грозного пришельца словом, но как стоял на одном месте, так стоять и остался.
– Ну? – вопросил наконец киммериец, подвигая миску с бобами поближе к хозяину. – Ты побежал за мясом?
– Да! – в отчаянии выкрикнул несчастный, отворотя нос. И тут же, сопровожденный весьма ощутимым пинком под зад, полетел вдоль стола, в конце которого грохнулся сначала на живот, а затем перекатился на спину.
– Мя-аса! – заревел шемит и швырнул на пол свою миску.
– Мяса!!! – заорали остальные, топоча ногами.
– Мьяс-с-са… – прошелестел душевнобольной, плохо соображая, о каком мясе идет речь.
Перепуганный хозяин, встав на четвереньки, быстро пополз в укрытие; но, хотя он и продемонстрировал сейчас скорость, удивившую даже его самого, протухшие бобы так и сыпались на голову, лопаясь и растекаясь по волосам; шмыгнув в темный узкий коридорчик, отделявший его комнату от общего зала, толстяк вскочил, задыхаясь не столько от перенесенных страданий, сколько от омерзительного запаха собственного блюда, прыгнул за дверь и, с треском захлопнув ее за собой, поспешно задвинул железный штырь – теперь он был спасен. И все же его баранам, что томились в сарае позади дома, вряд ли предназначалась богами долгая безмятежная жизнь. Они были робки, покорны и плодовиты, но даже сия праведность не могла спасти их от ножа, ибо – и хозяин твердо в это верил – так и только так они могли уберечь его от той же печальной участи.
Утешая себя подобным образом, толстяк взял огромный кухонный тесак и, вытирая слезы не жалости, но жадности, вылез через окно на задний двор.
* * *
– Что же, киммериец, – с набитым ртом проскрипел щуплый, – обсох ли ты? Могу ли я снова занять свое место?
– Сиди где сидишь, – ответил за Конана дезертир, с тем же рвением, что и некоторое время назад бобы, пережевывая свежее сочное мясо. – Благословение Иштар, отсюда мне не видать твою рожу, гаденыш.
– Ты всегда ешь мясо вместе с волосами, о смердящая ящерица? – добил щуплого презрением Иава. – Пф-ф…
Сам он уплетал кусок за куском с удивительной для такого бывалого бродяги аккуратностью, облизывая пальцы и весело кося на Конана круглым черным глазом. Варвар с неудовольствием поморщился: до того, как хозяин приволок огромный чан, полный баранины, он наслаждался всеобщим молчанием. В тишине был слышен только треск огня да сиплое дыхание простуженного бородача – после грохота ливня и такие звуки казались киммерийцу приятной музыкой. Теперь же оживленные богатым угощением постояльцы молчать явно не собирались.
Щуплый убрал из миски длинные сальные пряди пегих волос, обиженно вскинул подбородок и обратился к дезертиру.
– Я не нравлюсь тебе, сайгад?
– А ну, тихо! – властно прикрикнул шемит на обоих, заметив, как побагровело от злости тонкое смуглое лицо парня.
Конан одобрительно хмыкнул. Несмотря на молодость, он уже знал: для того, чтобы предотвратить ненужную драку, смелости требуется не менее, чем для того, чтобы подраться. Он подмигнул сайгаду, который шипел подобно разъяренной змее и пытался убить щуплого взглядом, и снова вцепился зубами в баранью ногу. Слева от него душевнобольной вяло грыз кость, время от времени громко и грустно икая, а справа, низко склонив белокурую голову, сидел юноша с бледными тонкими руками. Одежда его была бедна и ветха, и несомненно принадлежала не ему, а более широкому в плечах и в вороте мужчине, однако все прорехи тщательным образом заштопаны, а рукава неровно обрезаны и так же тщательно обшиты толстой суровой нитью.
Конан не сразу обратил на него внимание – до того, как он занял место щуплого, он сидел между шемитом и этим парнем, но тот до сих пор молчал, не шевелился и ни на кого не смотрел. И внезапное появление на постоялом дворе киммерийца, и танец позора здешнего хозяина не произвели на юного бродягу должного впечатления; казалось, собственная, очень важная и глубокая дума занимала его всего. Варвар не мог видеть его глаз, но не сомневался тем не менее, что в них прочел бы он тоску либо давнишнюю боль. Конан был молод – до двадцати лет ему оставалось еще пять лун, – но успел уже повидать в своей жизни и немощных, и душевнобольных, как сидящий сейчас слева от него бедняга, и усталых не от долгого пути, а от самой жизни, и воинов и разбойников, и бедных и богатых, и честных и бесчестных… Вряд ли он вспомнил бы их имена, да и не всегда знакомился с ними, но выражение глаз каждого помнил отлично, так что теперь без труда мог угадать по жесту, по осанке, по посадке головы то, что таилось в глубине зрачков, в душе, в сердце.
Правда, в данный момент его меньше всего волновали чувства сего молодого человека. Он утолял голод – это занятие было для него гораздо важнее всего прочего. А насытившись, он обычно предпочитал хороший сон любой, даже самой интересной беседе, и посему, отложив в сторону кость, бывшую всего дюжину глубоких вздохов назад бараньей ногой, он широко зевнул, обвел комнату осоловевшим от вкусной еды и тепла взглядом, смачно рыгнул и поднялся. Хозяин, чутко стороживший всякое движение последнего гостя, тут же подскочил и, беспрестанно кланяясь, повел варвара на второй этаж, в его комнату.
За окнами давно уже царила ночь – вязкая, словно болотная грязь, мокрая и зябкая; ни одной звезды не проявилось в черноте небес, лишь с невидимых туч все продолжал сыпаться дождь, то мелкий и колючий, то многоводный, шумный, плотный… Он равномерно бил по крыше, настораживая, но и усыпляя, и с ним опускался на землю тревожный, похожий на обморок сон. Конан сорвал с себя одежду и только прилег на широкий деревянный топчан, как тут же члены его ослабли, и без того путаные мысли в голове смешались и исчезли в тумане, а веки смежились так крепко, что без усилия разверзть их не представлялось возможным. Но киммериец и не собирался этого делать. Он начал поворачиваться набок, дабы устроиться поудобнее и так провести ночь, но не успел: сон сковал его всего…
* * *
Когда в голубом небе меж легких белых облачков засверкали теплые солнечные лучи, Конан пробудился. Бездумно смотрел он в чистую высокую даль, куда медленно подымался невидимый ему пока огненный шар. День обещал быть жарким, но свежим – дождь смыл полугодовую пыль с земной поверхности, обновил воды рек и озер, вернул к жизни растения, кои не погибли от засухи. Сколько таких дней будет еще в его жизни? Сколько раз над головой его поднимется око благого Митры, согревая могучее тело варвара мягкими лучами? О том мог знать лишь сам Хранитель Равновесия, чья власть сурова, но справедлива, чей взор кроток, но тверд, чье имя – Митра – произносят люди с благоговением и надеждой.
Конан, по правде говоря, не относился к числу таких людей: с уст его не раз срывались проклятья в адрес Подателя Жизни, что же касается остальных богов, то их он вообще оскорблял постоянно, и обладай они менее спокойным и невозмутимым нравом, варвару пришлось бы туго.
К счастью для него, боги давно привыкли к тому, что неблагодарные двуногие существа поносят их почем зря, и если б они задались целью каждого хулителя отправлять на Серые Равнины, то вскоре все население земли составило бы не более пяти-шести человек. Так что Конан не особенно опасался подвоха со стороны богов. Небожителям недосуг хитрить, обманывать, подстерегать и предавать – все эти занятия присущи людям, им и только им, киммериец был уверен в своих выводах. А выводы сии основывались не на одних умозаключениях, а истинно на собственном его опыте, что для жизни несравнимо дороже, нежели любое, даже самое изысканное философическое измышление.
Опустив руку, Конан нащупал на полу влажный комок, встряхнул, и, поймав вывалившиеся из него штаны, с гримасой отвращения начал натягивать их на себя. После недолгого раздумья рубаху он отшвырнул в сторону, а надел лишь кожаную безрукавку; затем влез в сандалии, подошвы которых истончали за время долгого его пути; порывшись в глубоких карманах, он обнаружил там среди залежей всевозможных нужных и не слишком нужных вещей серебристых нитей шнурок, коим стянул свои длинные густые волосы в хвост. На этом утренний туалет его завершился.
Внезапно с заднего двора, куда выходили мутные, никогда не мытые окна конановой комнаты, послышался душераздирающий вопль, могущий лишить жизни слабонервного человека. Варвар вскочил, треснувшись при этом макушкой о деревянный потолок и послав очередное проклятье Нергалу и его приспешникам, и ринулся к окошку. То, что он увидел, заставило его моментально ощутить вдруг образовавшуюся в желудке пустоту: вооруженный огромным топором хозяин, тряся жирным животом, бегал по двору за упитанным, дико визжащим петухом, весьма на него самого похожим. Петух, по всей вероятности, предназначался на завтрак ему, Конану, как дорогому гостю, чей здоровый кулак показался хозяину более веским аргументом, нежели деньги прочих, не таких капризных постояльцев. В мыслях уже представляя петуха в жареном виде, покоящемся на блюде в окружении разного рода овощей, киммериец поспешил вниз, дабы перед трапезой промочить глотку свежим пивом.
В общей комнате кроме шемита никого не было. Остатки ночного пиршества украшали длинный стол – огрызки, кости, пивные лужицы, хлебные корки; пол, усеянный раздавленными бобами, сверху оказался еще полит какой-то дрянью, и вонял так, что Конану, чей нос слыхивал и не такие запахи, вдруг захотелось уйти отсюда немедленно и навсегда. Но – только с петухом в желудке. А поскольку птица сия, по расчетам варвара, пока что только собиралась занять достойное для нее место на сковороде, он уселся рядом с Иавой и, подозрительно понюхав горлышко кривобокого глиняного кувшина, в один миг почти опустошил его.
– Хорошо ли почивал ты, варвар? – вежливо осведомился шемит, с обычной улыбкой своей глядя на киммерийца.
– Почивал неплохо, – ответствовал Конан. – А ты, сдается мне, совсем не ложился?
– Какое там… Наш хозяин – да будь он сожран с костями Золотым Павлином Сабатеи – утаил дюжину бочонков отличного пива, плут… А я терпеть не могу кислятины! Вот и пошел этой ночью на поиски… в его погреб… Понравилось тебе нынешнее пиво?
– Угу… хр-рм… – промычал варвар, допивая остатки. – А больше в погребе ничего не осталось?
– Уж не думаешь ли ты, приятель, что я способен за ночь вылакать всю дюжину? – Шемит наклонился, сунул руку под стол и выудил оттуда еще один кувшин. – Пей! И да не замучает тебя жажда на пути твоем, киммериец!
Конан хмыкнул, отмечая про себя, что после ночного возлияния Иава стал слишком многословен и сентиментален.
– Я заплатил этой жирной крысе за постой два золотых, – продолжал шемит, грозя кулаком куда-то вдаль, по всей видимости, полагая, что жирная крыса находится именно там, – два золотых! А он подсунул мне кислое пиво и протухшие бобы! О, жадность! Ты, ты правишь подлунным миром! Веришь ли, Конан, когда я нашел в погребе сие чудесное, ароматное, свежее пиво, слезы навернулись на глаза мои… Ты пей, пей… И воскликнул я в печали: «О жадность…»
– Ты это уже говорил, – буркнул киммериец, наконец отрываясь от кувшина. – И я согласен, что жадность – великий грех. Будь я на месте Митры, я б каждого скареду наказывал плетьми, пока не подобреет… Но миром правит все же нечто другое…
– Что?
– Не ведаю. Может, отвага и честь, а может, зло и обман.
– Любовь!
Нежный, мелодичный, но слабый голос заставил обоих мужчин с удивлением оглянуться. На лестнице, ведущей на второй этаж дома, стояла девушка, вернее – девочка, та самая, которую прошлым вечером Конан принял за парня. Если бы варвар мог облечь мысли свои в слова, он сказал бы, что юная красотка эта похожа на мальчика, который похож на девочку. Белокурые волосы ее, коротко обкромсанные тупым ножом, были перехвачены кожаной ленточкой; одежда мешком висела на тоненькой невысокой фигурке, не скрывая, но подчеркивая ее изящество и стройность; в чистых голубых глазах киммериец даже с такого расстояния узрел то, о чем он догадался еще не заглянув в них – затаенную боль и тоску, развеять которую вряд ли могли и хорошее вино, и дружеская беседа. Но и скрытая сила чувствовалась в девушке – Конан уловил ее еле заметные импульсы, насторожился.
– Миром правит любовь, – повторила она, спускаясь. Шла она странно – осторожными шагами, слегка покачиваясь, словно только недавно очнулась после тяжелой болезни.
– Что же, – ухмыльнулся немного смущенный Иава, – если я в кого-либо влюблен, значит, я обладаю некой силой, недоступной другому человеку? Так по-твоему?
– Нет, не так, – проворчал Конан, разглядывая девушку. – Слыхал я такие речи, и не раз. Она толкует тебе, шемит, о любви ко всем. Я прав, красавица?
– Продолжай, – кивнула она, чуть улыбнувшись бледными губами. Северный говор ее, так хорошо знакомый киммерийцу, смягчал и растягивал слова, каждое из которых звучало в ее устах словно начало песни. – Не знаю, как объяснить, но это что-то вроде веселой пирушки в кабаке. У тебя полный кошель, а у твоих приятелей пустой. И ты не жалеешь своих денег на то, чтоб они напились хорошенько за твой счет. А в другой раз кто-либо из них угостит тебя, понял?
– Если ты накормил меня мясом, а я напоил тебя пивом, сие не означает, что мы влюблены, варвар. А тем паче я не собираюсь любить каждого, кто устроит свою задницу за моим столом… О, Конан! Я вижу, ты не теряешь времени…
Иава схватил со стола кувшин и сунул в него нос.
– Пусто! Ах ты, киммерийская рожа… Пока я толковал о любви, он выдул все пиво! Чтоб тебя жажда замучила когда-нибудь, бездонное брюхо!
– Чтоб ты всю жизнь пил кислятину! – парировал Конан, едва сдерживая смех при виде вытянутой физиономии шемита.
Услышав такое жестокое пожелание, Иава ахнул, сложил руки на груди и вперил в варвара укоризненный взгляд, но затем уголки губ его дрогнули, глаза потеплели; рассмеявшись, он ткнул нового приятеля увесистым кулаком в плечо.
– Ну, пес… Ну и… пес. На! Пей! – Волосатая рука шемита снова нырнула под стол. – И красотку угости!
– Меня зовут Мангельда, – тихо сказала девушка, ежась, словно от холода. И тотчас в комнате в самом деле стало как будто зябко. То ли ветер внезапно рванул на улице, проникая в широкие щели окон, то ли из глаз Мангельды потянуло той тоской, что леденит кровь подобно прикосновению снежного пальца Имира, но и шемит, и киммериец ощутили вдруг некий неуют, сопровождаемый мурашками по коже и дрожью в груди, где-то около сердца.
Конан тряхнул головой, отгоняя наваждение, и подозрительно посмотрел на девушку.
– Кром… Не хочу тебя обидеть, но… Ты, случаем, не суккуб?
Мангельда вздрогнула. Нежная и без того бледная кожа ее побелела; пожав плечами, она чуть приоткрыла пухлые губки, явно желая ответить варвару, но смолчала. И только опять в глазах ее он увидел ответ – та же боль, коей никак не может страдать жаждущая чужой крови тварь…
Конану вдруг захотелось обнять ее, чтобы взять на себя хотя бы малую часть этой боли, этой тоски, согреть ее так, как может согреть лишь чистое сердце – отдав свое тепло. Он решительно встал, взял тонкую хрупкую руку Мангельды так бережно, как только мог, и повлек девушку за собой, наверх. Из головы его вмиг улетучились все мысли о жареном петухе и новом приятеле Иаве, что остался за столом один на один с кувшином отличного пива; он забыл о том, куда и зачем пробирался через горы Кофа; он и не желал сейчас знать ни о чем. Девушка – девочка, идущая за ним покорно, словно ребенок, ведомая им, и, как ни странно, но искренне любимая им, в сие солнечное утро занимала его всего без остатка. Пинком распахнув перед нею дверь своей комнаты, Конан провел Мангельду внутрь, посадил на топчан и укрыл покрывалом – теперь они могли поговорить.


![Книга Конан и расколотый идол [Зло Валузии • Расколотый идол] автора Гидеон Эйлат](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-konan-i-raskolotyy-idol-zlo-valuzii-raskolotyy-idol-256822.jpg)