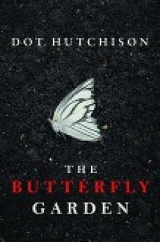
Текст книги "Сад бабочек (ЛП)"
Автор книги: Дот Хатчисон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Мы тридцать шесть часов на ногах. Нам нужно поспать.
– Да…
– Так что же с ней делать? Нельзя допустить, чтобы она снова скрылась. А если мы вернем ее в больницу и сенатор узнает про нее…
– Останется здесь. Раздобудем пару одеял, может, найдется раскладушка. А утром продолжим.
– По-твоему, это хорошая идея?
– Все лучше, чем позволить ей уйти. Если оставить ее здесь, а не помещать в камеру, допрос не будет прерван. Даже сенатор Кингсли не сможет вмешаться.
– Думаешь, на это можно рассчитывать? – Эддисон собирает контейнеры от еды и запихивает все в бумажный пакет, пока бумага не рвется, после чего направляется к двери. – Раздобуду раскладушку.
Эддисон распахивает дверь, и навстречу ему входят Инара с Ивонной. Он хмурится и уходит. Ивонна кивает Виктору и возвращается в наблюдательную.
– До чего же он милый, – сухо подмечает Инара и садится на свое место. Она смыла с лица копоть и грязь и собрала волосы в опрятный пучок.
– У него свои сильные стороны.
– Только не говорите, что умение ладить с пострадавшими из их числа.
– Ему ближе работа с подозреваемыми, – добавляет Виктор и заставляет ее улыбнуться. Он ищет, чем бы занять руки, но Эддисон в своей дотошности убрал все со стола. – Расскажите о жизни в Саду.
– То есть?
– Повседневная жизнь, когда не происходило ничего необычного. Как это было?
– Тоска смертная.
Виктор потирает переносицу.
* * *
Серьезно, было чертовски скучно.
Как правило, в Саду насчитывалось от двадцати до двадцати пяти девушек. Не считая Лоррейн. С какой стати нам считать ее одной из нас? Если Садовник был в городе, то «навещал» по меньшей мере одну из нас. Иногда двоих или троих, если не работал и не проводил время с семьей. То есть, он не мог в одну неделю провести время со всеми. После того, что Эвери сделал со мной и Жизель, ему разрешалось приходить в Сад лишь раз в неделю, и только под надзором отца. Хотя Эвери при любой возможности нарушал запрет, да и продлилось это недолго.
Завтрак накрывали в половине восьмого, и мы должны были поесть до восьми, чтобы Лоррейн успела убрать за нами. Отказаться от еды мы не могли, Лоррейн наблюдала за нами и докладывала Садовнику. Раз в день можно было сослаться на отсутствие аппетита, но если это повторялось, она приходила к тебе в комнату, чтобы осмотреть тебя.
После завтрака и до двенадцати мы делали что хотели. Это не считая тех дней, когда приходили работники и мы сидели взаперти. Потом еще полчаса отводилось на обед, и половина девушек ложились вздремнуть. Наверное, думали, что время пролетит быстрее, если спать целым днями. Я же брала пример с Лионетты и утренние часы отводила разговорам. Некоторым из девушек нужно было выговориться, и пещера под водопадом стала для нас чем-то вроде приемной. Камеры и микрофоны стояли повсюду, но водопад, даже такой маленький, приглушал звуки, и речь становилась неразборчивой.
* * *
– И он разрешал вам? – недоверчиво спрашивает Виктор.
– Конечно. Когда я объяснила ему.
– Объяснили ему?
– Да. Как-то вечером он привел меня на ужин в свои покои и спросил об этом. Наверное, хотел убедиться, что мы не замышляем бунт или что-то еще.
– И что вы ему сказали?
– Сказала, что девушкам важно побыть в уединении, что это полезно для их душевного равновесия. А если эти разговоры идут им на пользу, то какая, к черту, разница? Конечно, тогда я выражалась куда изящнее. Садовник любил изысканность во всем.
– Эти разговоры с девушками, как это происходило?
* * *
Некоторым нужно было просто облегчить душу. Они были в отчаянии, напуганы, не находили себе места; им нужен был кто-то, кто выслушал бы их. Они расхаживали по пещере, кричали и колотили по стенам. Но под конец выдыхались, и кризис на какое-то время уходил. Это были девушки вроде Блисс, только им недоставало ее дерзости.
Блисс говорила что хотела, когда хотела и где хотела. Как она сказала еще в первую нашу встречу, Садовник не требовал от нас любви. Мне кажется, он хотел этого, но никогда не просил. Думаю, он ценил ее честность, как ценил мою прямоту.
Некоторые девушки нуждались в утешении, и тут я часто пасовала. Нет, если они плакали время от времени, это я еще могла вытерпеть. Или, скажем, в первый месяц в Саду. Но если это продолжалось недели, месяцы или даже годы… Тогда я, как правило, теряла терпение и просто советовала им смириться.
Но иногда могла проявить великодушие и отправляла их к Эвите.
Эвита была Американской леди: крылья у нее были оранжевых и темно-желтых оттенков с замысловатым черным узором по краям. Она была славная, только сообразительностью не отличалась. Не хочу ее обидеть, это просто факт. По уровню развития она так и осталась шестилетней девочкой, и была в восторге от Сада. Садовник посещал ее от силы пару раз в месяц, поскольку его желания всегда пугали ее и приводили в замешательство. Эвери вообще было запрещено к ней приближаться. Всякий раз, когда Садовник приходил к ней, мы с ужасом ждали, что она окажется под стеклом. Но его, похоже, просто умиляла эта детская непосредственность.
Эти девушки могли прийти к ней и лить слезы в три ручья, а она обнимала их, гладила и несла всякую чушь, пока те не успокаивались. Они изливали ей душу, а она слушала и не произносила ни слова. Общество Эвиты всегда оказывало на них благотворное действие.
Лично меня общество Эвиты приводило в уныние. Но если к ней приходил Садовник, она потом приходила ко мне. Она была единственной, кому я прощала слезы.
* * *
– Тогда в больнице ей нужен особый представитель?
Инара качает головой.
– Она умерла полгода назад. Несчастный случай.
* * *
В начале двенадцатого наша «приемная» закрывалась, и некоторые из девушек пускались бегом по коридору. Лоррейн, если была на месте, смотрела на нас, но ничего не говорила, потому что для нас это была единственная возможность поддержать форму. Садовник не давал нам гантелей или беговых дорожек, поскольку опасался, что мы намеренно себя покалечим.
После обеда и до восьми часов мы были совершенно свободны. Вот тогда становилось по-настоящему скучно.
На вершине скалы мне нравилось даже больше, чем в пещере за водопадом. Я была одной из немногих, кто любил забираться туда и сидеть под самым куполом, который отделял нас от внешнего мира. Многие девушки делали вид, что до неба еще высоко, что их мир куда больше, и снаружи нас ничто не ждет. Если им было легче от этого, я не спорила. Но мне нравилось наверху. Иногда я даже забиралась на деревья, вытягивала руку и дотрагивалась до стекла. Я любила напоминать себе, что за пределами моей клетки – большой мир. Хоть мне и не доведется увидеть его снова.
Поначалу мы с Лионеттой и Блисс лежали там вечерами и разговаривали или читали. Иногда Лионетта складывала фигурки из бумаги, Блисс лепила что-нибудь из полимерной глины, которую покупал ей Садовник, а я читала вслух.
Бывало и так, что мы спускались к ручью, что бежал среди буйных зарослей, как в джунглях, и проводили время с другими девушками. Иногда мы просто читали вместе или говорили о чем-то отвлеченном. А если становилось совсем скучно – играли.
В такие дни Садовник казался особенно счастливым. Мы знали, что там повсюду стояли камеры, и ночью можно было заметить красные мигающие огоньки. Но в те дни, когда мы играли, он приходил в Сад и наблюдал за нами, стоя у водопада. И улыбался так, словно это было пределом его мечтаний.
Думаю, в такие минуты мы не расходились по своим комнатам только потому, что действительно умирали со скуки.
Полгода назад мы вдесятером играли в прятки, и Данелли водила. Она стояла рядом с Садовником и считала до ста: это было единственное место, где никому не хотелось прятаться. Кроме того, там она не слышала, как мы прячемся. Не знаю, догадывался ли Садовник о причинах, но он, казалось, был рад участвовать в игре, хоть и опосредованно.
Я практически всегда залезала на деревья, потому что два года лазала в квартиру по пожарной лестнице и могла вскарабкаться выше остальных. Найти меня не составляло труда, а вот залезть и осалить меня никто не мог.
Эвита до смерти боялась высоты. Как и замкнутого пространства. Кто-нибудь всегда оставался с ней на ночь: на случай, если стены вдруг опустятся, чтобы она не осталась одна взаперти. Эвита никогда не лазала по деревьям. Но тот день стал исключением. Не знаю, с чего она вдруг решила. Тем более что мы видели, в каком она была ужасе, когда оказалась в шести футах над землей. Мы пытались отговорить ее, предлагали другие места, но Эвита была настроена решительно.
– Я храбрая, – повторяла она. – Я храбрая, как Майя.
Садовник наблюдал за всем этим с тревогой. Он всегда беспокоился, если кто-то из нас изменял своим привычкам.
Данелли досчитала до девяноста девяти и просто остановилась, чтобы дать время Эвите. Мы все так поступали время от времени, если она не успевала спрятаться. Данелли стояла к нам спиной, прикрыв ладонями татуированное лицо, и ждала, пока не утихнет шорох.
Это заняло минут десять, но Эвита карабкалась дюйм за дюймом, пока не забралась футов на пятнадцать. Наконец она села на ветке. По щекам ее текли слезы, но она посмотрела на меня и робко улыбнулась.
– Я храбрая, – сказала она.
– Ты храбрая, Эвита, – ответила я с соседнего дерева. – Храбрее всех нас.
Она кивнула и посмотрела на землю, такую далекую.
– Мне тут не нравится.
– Помочь тебе спуститься?
Она снова кивнула.
Я осторожно приподнялась на ветке и начала спускаться, но тут услышала голос Равенны.
– Эвита, стой! Дождись Майю!
Я оглянулась через плечо и увидела, как Эвита перебирает руками и сползает по ветке, пока та не стала слишком тонкой, чтобы выдержать ее вес. Ветка обломилась, и Эвита с воплем полетела вниз. Все бросились из своих укрытий ей на помощь, но она ударилась головой о нижнюю ветку. Раздался мерзкий хруст, и крик резко оборвался.
Эвита с плеском упала в пруд и замерла.
Я слезла с дерева так быстро, как только могла, содрав кожу о кору. Все остальные застыли на месте, даже Садовник. Они стояли и смотрели на девушку в пруду, как кровь растекалась по ее пепельным волосам. Я полезла в воду, схватила Эвиту за локоть и подтянула к себе.
Наконец к нам подбежал Садовник и, не боясь испачкаться, помог мне вытащить Эвиту на берег. Глаза у нее были широко открыты, но проверять пульс не имело смысла.
Хруст, который мы слышали… Эвита сломала шею.
Смерть в Саду была странным явлением. Мы постоянно чувствовали ее присутствие, но никогда это не происходило у нас на глазах. Кого-то из нас просто уводили, и в коридоре появлялась еще одна пара крыльев. Многие из нас впервые увидели смерть своими глазами.
Садовник дрожащей рукой убрал мокрые волосы с ее лица и коснулся головы в том месте, куда пришелся удар. И на Эвиту уже никто не смотрел – все уставились на Садовника, потому что он плакал. Всхлипывал, не в силах перенести внезапной утраты, и все тело его сотрясалось. Он качался взад-вперед, прижав к груди мертвое тело; кровь залила ему манжеты, вода замочила брюки и рубашку.
Он, казалось, плакал за всех разом. На крики сбежались остальные девушки, и все мы стояли молча, и никто даже не всхлипнул. В то время как наш похититель оплакивал смерть девушки, которую он не убивал.
* * *
Инара берет стопку фотографий и перебирает их, пока не находит нужную.
– Он уложил ее волосы таким образом, чтобы не было видно ушибленного места, – она кладет фотографию перед Виктором. – Остаток дня и всю ночь он проводил с ней какие-то манипуляции, хотя мы его не видели. А на следующий день она стояла в коридоре, за стеклом, и он спал рядом с ней. Глаза у него были красные и опухшие. Он провел там целый день, прямо перед ней. И вплоть до последних событий касался стекла всякий раз, когда проходил мимо. Казалось, он делал это неосознанно – даже когда стекла были прикрыты, он касался стены.
– Но это был не единственный несчастный случай, так?
Она мотает головой.
– Нет, далеко не единственный. Но Эвита была… она была славной, такой невинной. И просто не способна была принять плохого. А если с ней что-то и происходило, то едва касалось и не оставляло следа. Думаю, она в некотором роде была самой счастливой среди нас. Просто потому, что иное было ей неведомо.
Эддисон вваливается под металлический скрип: он тащит за собой раскладушку, другой рукой обхватив одеяла и подушки. Сваливает все это в дальнем углу и, отдышавшись, поворачивается к Виктору.
– Только что звонила Рамирес. Сын мертв.
– Какой из?..
Она произносит это так тихо и с таким выражением, что невозможно распознать ее чувств. Виктор даже не уверен, верно ли ее расслышал. Он смотрит на нее, но Инара не сводит глаз с Эддисона. Вновь запускает ноготь под повязку, и кровь проступает сквозь бинт.
Брэндон тоже озадачен. Он смотрит на Виктора, и тот пожимает плечами.
– Эвери, – растерянно отвечает Эддисон.
Инара сжимается, прячет лицо в ладонях. Можно подумать, что она плачет. Но через минуту, когда девушка вновь поднимает голову, глаза у нее сухие. Хотя видно, что новость странным, непостижимым образом мучительна для нее.
Эддисон бросает на Виктора многозначительный взгляд, но тот даже не представляет, о чем она сейчас думает. Казалось бы, известие о смерти истязателя должно ее обрадовать. Или, по крайней мере, принести облегчение. Возможно, в глубине души она и рада, но лицо ее выражает лишь смирение.
– Инара?
Она переводит взгляд на раскладушку, поддевает пальцами повязки уже на обеих руках и отрешенно спрашивает:
– Так что, я могу лечь спать?
Виктор встает и знаком просит Эддисона оставить их. Тот без лишних слов берет со стола фотографии и пакет с удостоверениями. Хановериан остается наедине с этим покалеченным ребенком, которого вряд ли поймет до конца. Он молча устанавливает раскладушку в дальнем углу, так, чтобы стол оказался между Инарой и дверью. Потом расстилает одно одеяло вместо простыни, а второе складывает в ногах и кладет подушки с другой стороны. Покончив с этим, опускается на колено рядом с ее стулом и кладет руку ей на спину.
– Инара, я знаю, как вы устали. Ложитесь, отдохните. Завтра мы вернемся и продолжим, у нас еще много вопросов. Надеюсь, будут какие-то новости для вас и для остальных. Но… прежде чем я уйду…
– До завтра никак?
– Младшему сыну было известно про Сад?
Она закусывает губу так, что кровь стекает по подбородку.
Виктор со вздохом протягивает ей платок и направляется к выходу.
– Дес.
Виктор, уже в дверях, оборачивается. Но Инара сидит с закрытыми глазами, и Хановериан видит по ее лицу, как ей больно, но не может понять причину.
– Что, простите?
– Его зовут Дес. Десмонд. Да, он знал про Сад. И про нас.
Голос ее выдает. Виктор понимает, что она дала слабину, и, как агент, он должен бы воспользоваться такой возможностью. Но представляет своих дочерей, сидящих вот так, с болью в глазах – и просто не может этого сделать.
– В соседней комнате будет дежурный, – мягко произносит Виктор. – Если вам что-нибудь понадобится, просто попросите. Спокойной ночи.
Этот хриплый звук можно принять за смех, но ему не хотелось бы услышать его вновь.
Он тихо прикрывает за собой дверь.
II
Виктор заглядывает к сонному дежурному; Инара – нелепо называть ее так, зная, что это не настоящее имя – еще спит, зарыв лицо в рукавах его пиджака. Один из агентов передает ему стопку отчетов: сообщения из больницы, доклады от агентов с места преступления, информация обо всех причастных. Виктор просматривает их за кофе из кафетерия – ненамного лучше пойла с их кухни – и пытается сопоставить фотографии с именами девушек в личных делах.
Еще нет и шести, как входит Ивонна. Веки у нее опухшие от недосыпа.
– Доброе утро, агент Хановериан.
– Твоя смена начинается только в восемь. Почему бы не поспать?
Ивонна лишь качает головой.
– Не могла уснуть. Всю ночь просидела в кресле рядом с дочкой и смотрела на нее. Если кто-нибудь однажды… – Она вновь качает головой, в этот раз резче, словно пытается отогнать дурные мысли. – Уехала, как только свекровь проснулась.
Виктор предложил бы ей вздремнуть в кабинете, но понимает, что этой ночью вряд ли кто-то из них нормально выспался. Он и сам толком не спал. Перед глазами то и дело возникали фотографии из коридора, и в голову лезли воспоминания, как дочери бегают по двору с привязанными за спиной крыльями. В минуты бездействия проще всего поддаться страху.
Виктор приподнимает с пола матерчатую сумку.
– У меня тут для тебя булочки с корицей, если ты не против, – говорит он, и Ивонна заметно оживляется. – Холи передала кое-что из одежды для Инары. Можешь проводить ее в душ, чтобы она потом переоделась?
– Твоя девочка просто ангел, – она смотрит сквозь стекло на спящую девушку. – Так жалко будить ее…
– Лучше ты, чем Эддисон.
Ивонна молча выходит, и через мгновение дверь в комнату для допросов открывается с едва слышным скрипом.
Этого достаточно. Инара выпутывается из одеяла и садится, прислонившись к стене. Замечает Ивонну в дверях. Они смотрят друг на друга, потом Ивонна разводит руками и нерешительно улыбается.
– Отличная реакция.
– Он, бывало, стоял вот так в дверях. И кажется, расстраивался, если мы не замечали его.
Она зевает и потягивается, суставы хрустят после ночи на неудобной раскладушке.
– Мы подумали, что вам, возможно, захочется принять душ, – Ивонна приподнимает сумку. – Тут есть одежда вашего размера и мыло.
– Я расцеловать вас готова, – шагая к двери, Инара стучит по стеклу. – Спасибо, специальный агент Виктор Хановериан.
Он смеется, но ничего не говорит.
Пока их нет, Виктор входит в комнату и вновь берется за отчеты. За ночь в больнице умерла еще одна девушка, но остальным, кажется, ничто не угрожает. Всего, включая Инару, получается тринадцать. Тринадцать выживших. Может быть, четырнадцать, в зависимости от того, что она расскажет о парне. Если это сын Садовника, причастен ли он к тому, что совершали его отец и брат?
Инара еще в душе, когда входит Эддисон, чисто выбритый и на этот раз в пиджаке, и кладет на стол упаковку слоеных булочек.
– Где она?
– Ивонна отвела ее в душ.
– Думаешь, сегодня она расскажет что-нибудь?
– Если захочет.
По хмурому взгляду ясно, как его напарник относится к этой идее.
– Что ж, ладно, – Виктор протягивает Эддисону часть бумаг, которые уже просмотрел.
Некоторое время слышен лишь шелест страниц, да временами кто-нибудь прихлебывает кофе.
– Рамирес говорит, сенатор Кингсли устроила лагерь в фойе больницы, – говорит Эддисон через несколько минут.
– Знаю.
– И говорит, что Патрис не хочет видеть мать. Якобы не готова к этому.
– И это знаю, – Виктор кладет бумаги на стол и трет глаза. – Разве можно ее винить? Она выросла перед камерами, и что бы она ни сделала, все проецировалось на ее мать. Она знает – возможно, лучше нас, – что СМИ готовы на нее наброситься. Встреча с мамой положит этому начало.
– Ты когда-нибудь задумывался, действительно ли мы хорошие парни?
– Смотри, чтобы она не перетянула тебя на свою сторону. – Растерянный взгляд напарника вызывает у него усмешку. – По-твоему, у нас такая уж отличная работа? Нет. Или мы отлично делаем свое дело? Нет. Это невозможно. Но мы делаем свое дело, и в конце дня получается, что хорошего мы сделали куда больше, чем напортачили. Инара превосходно уклоняется от ответа. Не давай ей сбить себя с толку.
Эддисон вновь погружается в чтение. Потом говорит:
– Патрис Кингсли – Равенна – сказала Рамирес, что хочет поговорить с Майей, прежде чем решит насчет матери.
– Хочет спросить совета? Или хочет, чтобы за нее решили другие?
– Не сказала. Вик…
Виктор ждет продолжения.
– Откуда нам знать, что Инара не как Лоррейн? Она заботится об этих девушках. Кто знает, может, она делает это, чтобы понравиться Садовнику?
– Мы этого не знаем, – соглашается Виктор. – Пока не знаем. Но выясним, так или иначе.
– Скорее помрем от старости.
Виктор закатывает глаза и возвращается к бумагам.
С Ивонной возвращается совершенно другая девушка. Ее волосы гладко расчесаны и рассыпались по спине. Джинсы не совсем по размеру, и верхние пуговицы расстегнуты, чтобы были посвободнее, но нижний край майки прикрывает их, и зеленая кофта мягко облегает ее формы. Сланцы тихо шлепают, пока девушка идет к своему месту. Она сняла бинты, и Виктор вздрагивает при виде розовых ожогов на ее руках и порезов от стекла.
Инара замечает его взгляд и поднимает руки, чтобы он лучше мог разглядеть. Потом садится на стул по ту сторону стола.
– По ощущениям даже хуже, чем на вид. Но врачи говорят, если буду умницей, подвижность восстановится.
– А вообще как себя чувствуете?
– Несколько чудесных синяков, швы по краям розовые и побаливают, но не опухли. Доктору, наверное, надо будет взглянуть при случае. Но я, знаете ли, жива. Чего не скажешь о многих других, кого я знала.
Она ждет, что Виктор заговорит о Десмонде. Он видит это по ее лицу, по напряженным плечам и по тому, как она переминает пальцами корочки на другой руке. Она готова к этому. Но вместо этого Виктор пододвигает к ней кружку – горячий шоколад, а не кофе, который так не понравился ей вчера, – и разворачивает булочки. Протягивает одну Ивонне, та благодарит и скрывается за дверью.
Инара сводит брови, по-птичьи вытягивает голову, изучая содержимое.
– В булочной заворачивают выпечку в фольгу?
– Булочная в лице моей мамы.
– Мама заворачивает вам завтраки? – Ее губы растягиваются в недоверчивой улыбке. – Может, она вам и обеды в контейнерах дает?
– Даже кладет записку с пожеланиями верных решений, – Виктор лжет, не моргнув и глазом, и Инара собирает губы, чтобы улыбка не стала еще шире. – Но вам такое незнакомо, ведь так? – продолжает он чуть мягче.
– Было один раз, – поправляет она, и в этот раз нет и намека на улыбку. – Парочка из дома напротив проводила меня на вокзал, помните? Жена завернула мне обед, и в пакете была записка. Писали, как рады были познакомиться со мной, как будут скучать. Там был их номер, и они просили позвонить, когда я доберусь, чтобы они знали, что со мной все хорошо. Чтобы звонила, когда захочу, просто поговорить. И на прощание крепко обнимали меня. И даже малыш что-то накарябал карандашом.
– Но вы так и не позвонили?
– Один раз, – отвечает Инара чуть ли не шепотом, водя пальцем вдоль порезов и швов. – Когда приехала на вокзал, позвонила сказать, что добралась. Они попросили к телефону бабушку, но я сказала, что она расплачивается с таксистом. Они повторили, чтобы я звонила, когда бы мне ни захотелось. Я стояла у вокзала, дожидаясь такси, и смотрела на этот клочок бумаги. А потом выбросила его.
– Почему?
– Потому что, сохранив его, призналась бы в собственной слабости, – Инара выпрямляется, скрещивает ноги и облокачивается о стол. – У вас складывается обо мне странное впечатление, как о потерянном ребенке. Словно меня швырнули на обочину, как пакет с мусором или сбитую собаку. Но дети вроде меня… ошибочно считать их потерянными. Возможно, нас единственных это никогда не коснется. Мы всегда точно знаем, где мы и куда можем двинуться. И куда не можем.
Виктор качает головой. У него нет желания спорить, но и согласиться он не может.
– Почему подруги в Нью-Йорке не сообщили о вашем исчезновении?
Инара закатывает глаза.
– Мы были не настолько близки.
– Но они ваши подруги.
– Да, подруги. И все они от чего-то бежали. В квартире до меня жила девушка; в один прекрасный день она внезапно собрала вещи и ушла. Ее преследовал родной дядя: хотел знать, что она сделала с ребенком, которого он заделал ей три года назад. Как бы ты ни старался, где бы ни скрывался, кто-нибудь все равно найдет тебя.
– При условии, что тебя ищут.
– Или тебе просто не повезет.
– В каком смысле? – спрашивает Эддисон.
– По-вашему, мне хотелось, чтобы Садовник похитил меня? Я могла затеряться в огромном городе, и все-таки он разыскал меня.
– Это не объясняет…
– Еще как объясняет, – она пожимает плечами. – Для людей определенного типа.
Виктор пьет кофе и раздумывает, направить ли беседу в нужное русло или продолжать в надежде извлечь что-то ценное.
– Какого типа людей, Инара? – спрашивает он в итоге.
– Когда привыкаешь, что тебя практически никто не замечает, и вдруг выясняется, что кто-то помнит тебя, это по меньшей мере удивляет. Ни за что не поймешь этих чудаков, которые ждут, что их вспомнят и вернутся.
Инара неторопливо жует булочку, но Виктор видит, что девушка еще не закончила. Возможно, она не до конца сформулировала свою мысль. Его младшая дочь ведет себя сходным образом: просто замолкает, пока не подберет нужные слова. Хотя Виктор не уверен, что Инара молчит по той же причине, но модель поведения ему знакома. Поэтому он пихает Эддисона под столом, когда тот раскрывает рот.
Брэндон бросает на него хмурый взгляд и немного отодвигается, но ничего не говорит.
– От Софии ее девочки ждали, что она вернется, – продолжает Инара тихим голосом, слизывает сахарную пудру с пальцев и вздрагивает. – Они провели в приемной семье… что-то около четырех лет на тот момент, когда меня похитили. Никто не винил бы их, если б они потеряли надежду. Но они не теряли. Что бы ни случилось, как бы ни было плохо, они знали, что она борется за них. Знали, что она обязательно, непременно за ними вернется. Никогда этого не понимала. И вряд ли когда-нибудь пойму. Но ведь в моей жизни не было такой вот Софии.
– У вас есть София.
– Была, – поправляет она. – И это не одно и тоже. Я не была ей дочерью.
– Но вы были ее семьей, разве нет?
– Подругой. Это разные вещи.
Виктору с трудом в это верится. Инаре, вероятно, тоже. Возможно, ей легче делать вид, что она верит.
– Ваши девочки твердо знают, что вы вернетесь домой, верно, агент Хановериан? – Она поглаживает мягкий рукав кофты. – Им страшно, что в один прекрасный день вы можете погибнуть при исполнении долга. Но, пока вы живы, они не верят, что вас может что-то разлучить.
– Его дочери здесь ни при чем, – резко обрывает Эддисон, но Инара лишь усмехается.
– Он видит их перед собой всякий раз, когда смотрит на меня или на какую-нибудь из фотографий. Потому он всем этим и занимается.
– Да, все дело в них, – Виктор допивает кофе. – И одна из них просила передать вам кое-что, – он достает из кармана темно-розовый блеск для губ. – От старшей дочери. Одежда, кстати, тоже от нее.
Улыбка, в этот раз настоящая, на несколько секунд озаряет ее лицо, по уголкам янтарных глаз появляются морщинки.
– Блеск для губ.
– Она сказала, что это ваши, женские дела.
– Надеюсь. Иначе вы выставили бы себя в невыгодном свете. – Она отворачивает колпачок и осторожно выдавливает из тюбика переливающуюся каплю, красит нижнюю губу, затем несколько раз проводит по ней верхней, ни разу не взглянув при этом в зеркало, и получается идеально ровно. – Мы привыкли краситься по дороге на работу. Некоторые могли полностью накраситься, вообще не глядя в зеркало.
– Должен признать, такого мне пробовать не приходилось, – произносит Брэндон сухим тоном.
Виктор наблюдает за ним. Он привык к странностям напарника, но это по-прежнему его забавляет. Эддисон замечает его взгляд и хмурится.
– Инара, – произносит наконец Виктор, и она неохотно открывает глаза. – Надо начинать.
– Дес, – вздыхает она.
Он кивает.
– Расскажите нам о Десмонде.
* * *
Я единственная любила забраться куда-нибудь повыше, а потому единственная видела другой сад. На вершине скалы росли несколько деревьев – пять, если хотите, – которые доставали до самой крыши. Я забиралась на какое-нибудь из них по меньшей мере дважды в неделю, устраивалась на самой высокой ветке, способной меня выдержать, и прижималась щекой к стеклу. Иногда я закрывала глаза и представляла себя на нашей пожарной лестнице, возле окна, слушала, как София рассказывает про своих девочек, или парень в доме напротив играет на скрипке, и Катрин сидит рядом. Перед собой и по левую руку я видела Сад почти целиком, за исключением коридоров, которые тянулись вокруг сада и были не видны за краем скалы. Видела, как девушки играют у ручья в салки или прятки, как двое или трое плавают в маленьком пруду, или сидят у скалы или среди зарослей с книжками или кроссвордами.
Но я могла заглянуть и за пределы Сада, совсем немного. Насколько я поняла, оранжерея, которую мы назвали Садом, состояла из двух частей – одна в другой, как матрешка. Наш Сад помещался в центре, непомерно высокий, и коридоры окружали его по периметру. Потолки у нас в комнатах были не очень высокие, но стены – вровень с деревьями на скале, темные и с плоскими торцами, и от них отлого спускалась крыша над внешним садом. Хотя это больше походило на границу: просто широкая тропа среди зарослей – во всяком случае, так мне было видно. А видно было не так много, даже с деревьев. Кусочек здесь, кусочек там, насколько позволял угол обзора. И в этом саду начинался реальный мир, с садовниками, от которых не нужно было скрываться, с выходом наружу, где сменялись времена года, и жизнь не оканчивалась с двадцать первым днем рождения.
В том мире не было никакого Садовника. Это был человек, каким его знали другие. Человек, занятый благотворительностью и бизнесом – это не раз проскальзывало в разговорах. У него был дом где-то поблизости; правда, я не видела его даже с деревьев. У него была семья.
Ну да, Эвери был его сыном, и понятно, что он ублюдок, но тем не менее…
У него была жена.
Они вместе гуляли по внешнему саду, почти каждый день с двух до трех. Она была безупречно одета, с темными волосами, но отличалась болезненной худобой. Это все, что я видела с такого расстояния. Они неторопливо шли под руку и время от времени останавливались рассмотреть поближе какой-нибудь цветок, а потом шли дальше, пока не скрывались из виду. Так они проходили два или три раз за прогулку. Он подстраивался под ее шаг, и если она отставала, любезно оборачивался и смотрел на нее с той же нежностью, с какой смотрел на своих Бабочек. Мягко и проникновенно, и от этого мороз пробегал по коже.
С той же нежностью он касался стекол в коридорах и оплакивал Эвиту. Поэтому у него так дрожали руки, когда он увидел, что сотворил со мной Эвери.
Это была любовь в его понимании.
Два или три раза в неделю их сопровождал Эвери – плелся позади и редко оставался на целый час. Обычно он проходил один круг и сворачивал в Сад в поисках какой-нибудь Бабочки, доброй и невинной, чтобы насладиться ее страхом.
Дважды в неделю, два дня подряд – обычно они совпадали с приходом садовников, – с ними бывал младший сын. Он был похож на маму, такие же темные волосы и телосложение. Хотя расстояние сглаживало детали, было видно, что мать души в нем не чает. Когда они гуляли втроем, она шла между мужем и младшим сыном.








