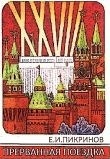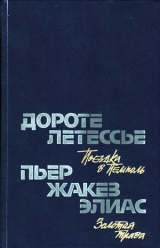
Текст книги "Поездка в Пемполь"
Автор книги: Дороте Летессье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Великолепная Арлетт, хлопающая в ладоши и поющая – так ее сфотографировали во время забастовки, – исчезла в один из февральских понедельников.
Школьный автобус подвозит Николя к его дому. Остается перейти дорогу. Ему двенадцать лет. Он уже знает, что жизнь рабочих далеко не сахар. Он не любит, когда у его матери усталый вид и ее раздражает возня, поднимаемая им и его сестрами. Ему хочется, чтобы дома царило спокойствие, радость. Чтобы вечером, после обеда, можно было, собравшись всем вместе, спокойно поболтать, а не уставляться тупо в телик. Но чаще всего вместо разговора вспыхивают ссоры. Он отлично понимает, что его родители уже не так хорошо ладят между собой, как во времена его раннего детства. Мама часто печальная, и иногда кажется, что ей ужасно скучно. В отчаянии она кидается на домашние дела и ежеминутно ругает детей. Но он-то, Николя, отлично понимает, что не только разбросанные повсюду игрушки выводят мать из себя. Ему так хотелось бы сделать что-нибудь для нее. Вот вырастет и все наладит. Сегодня он хочет порадовать ее хорошими отметками по математике. Он так старался. Ему хочется доказать, что, когда он старается, «дело идет». Профессию он выберет стоящую. Еще не знает какую, только рабочим он не станет. И всегда будет в хорошем настроении.
Николя выходит из автобуса первым. Торопится перейти улицу. Он проделывает это каждый день машинально, не обращая внимания на окружающее.
Выскочила машина.
Чересчур быстро, чтобы успеть остановиться.
В последний момент водитель изо всех сил жмет на тормоза. Он пытается объехать мальчика. Но Николя уже кинулся навстречу машине. Его голова стукается о ручку дверцы.
Он распростерт на асфальте.
Череи рассечен, и на лбу кровавая рана.
Арлетт и ее мужа тотчас же известили. Николя еще жив, все лицо у него залито кровью. Его перевезли в реннскую больницу.
Арлетт и Николя трое суток сражались со смертью.
Арлетт цеплялась за надежду: «Доктор, скажите мне правду, он сможет выкарабкаться?»
Энцефалограмма – почти плоская, мозг задет непоправимо. Сердце едва бьется. Он не сможет выжить. Арлетт пытается убедить себя, что так даже лучше для него, он умрет спокойно.
Арлетт видела, как тело ее ребенка застыло в последней судороге. Она кричала. Хотела выброситься в окно.
Нет! Это невозможно. Невероятно. Мой ребенок, моя крошка, я люблю тебя. Я не буду больше сердиться, только все время петь. Вот увидишь. Не оставляй меня, Николя. Я так страдаю. Слишком жестоко. Ответь мне, умоляю. Мой сын умер. Мой сын мертв. Мертв. А я, что я буду делать без него? Дитя мое, возьми мое сердце, голову, жизнь, но не умирай! На помощь! Мой сын мертв. Посмотрите, вот он тут, на этой постели, без кровинки в лице.
Где погубивший его мерзавец? Я хочу, чтобы он видел, что сотворил с моим Николя.
Арлетт тихонько плачет, неслыханная усталость навалилась на нее. Ее муж тоже плакал. Он увел ее. Они молча вернулись домой. Другие дети находились на попечении тетки. Арлетт погрузилась в тяжелый сон, но среди ночи внезапно проснулась, вся покрытая потом, измученная кошмаром. Ей снилось, что Николя умер. Возле нее, сдерживая рыдания, лежал без сна ее муж. Нет, ей это не снилось – Николя действительно умер вчера днем.
Начни сначала, Николя. Спокойно сойди с автобуса. Оглянись направо и налево, прежде чем ступить на шоссе. Вот так. Пропусти машину. Они ездят как безумные, эти шоферы, разве допустима такая скорость, когда объезжают школьный автобус. Конечно, тут неизбежен несчастный случай. Сейчас путь свободен, можешь переходить, Николя! Подойди ко мне, расскажи, что было сегодня в школе. Значит, ты, старина, нагоняешь по математике? Наконец-то слушаешь объяснения учителя! Я ведь все время твержу тебе, Нико: без математики в жизни ничего не добьешься. Я вот не хотела учиться, ну кто я теперь? Скажи, ведь ты не хочешь стать несчастным рабочим отребьем, как твои родители? Если мой старший сын вырастет и выбьется в люди, это даст мне силы вкалывать. До чего все просто: спокойно перейти бы дорогу – и он спасен. Почему ты не был внимателен, Николя? Сто раз я тебе твердила: прежде чем переходить, надо оглядеться.
Еще крошкой ты был невыносим. Я кучу денег потратила на свинцовую примочку и бинты для тебя! Ты боялся темноты. Отказывался идти спать и с криком просыпался ночью, увидев страшный сон. Сколько бессонных ночей провела я возле тебя! Скольких трудов стоило мне вырастить тебя здоровым ребенком. И вот теперь, когда ты хорошо учишься и стал для меня другом и утешением, тебя убивают, словно какую-нибудь муху на ветровом стекле.
Нет, не могу я этого перенести.
Когда Арлетт уже не в силах сдерживаться, когда горе ее вот-вот прорвется рыданиями, она идет в уборную, слезы льются у нее ручьем, и ей становится легче. Она старается уверить себя, что со временем горе ее потеряет остроту. Она ведь знавала других, которые прошли через подобное. Она пытается подавить отчаяние привычной работой. Порой ей и хотелось бы все забыть, но взгляды окружающих напоминают ей, как она бледна и какие синяки у нее под глазами.
Она знает, что постарела на десять лет, что всех смущает своим видом. Никто не осмеливается заговорить с ней как прежде. При ней остерегаются шутить. Смех смолкает при ее приближении. Матери незаметно отворачиваются от нее в суеверном страхе, что въевшееся в ее образ отчаяние может оказаться заразительным.
Арлетт одинока. Рядом ее подруги, они сочувствуют ей, пытаются постичь всю глубину ее страдания. Но постичь это невозможно. Надо жить. Она все преодолеет. Она хочет жить. Но надо, чтобы прошло время.
Мне хотелось сказать Арлетт, до какой степени я ощущаю себя одновременно и близкой ей, и далекой от нее. Но я боюсь, что неловкие мои слова могут быть неправильно поняты ею, что они могут не смягчить ее горе, а наоборот, оживят в ее памяти то, что она хочет похоронить. Я чувствую себя с ней неловко. Я переживаю ее горе, которое делается и моим. И я молчу, не в силах помочь ей, не зная, как себя с ней вести. Я профсоюзная активистка. Тщусь перестроить мир, а даже не способна сказать подруге, что страдаю вместе с ней. Я сама себе противна.
Чересчур уж много несчастий. Только и слышишь: рак, авария, самоубийство. Всегда находится кого оплакивать. От этих трагических историй не знаешь, куда бежать. Для меня они кончаются мигренью. Постоянные страдания угнетают меня, я не способна уповать на судьбу или верить в бога. «Не хочу больше слушать о смертях».
Во время перерыва женщины читают в газете страничку происшествий. Потом болтают о чем придется, невозможно ведь беспрестанно сокрушаться.
– В полдень пойду в кооператив – куплю комплект постельного белья. Мне хочется, чтобы простыни были в цветочек.
– В кооперативе простыни чехлами?
– Да, простыни-чехлы очень практичны, не так мнутся и утром быстрее застилаешь постели.
– А я не люблю простынь-чехлов. На постели ничего, а в шкафу очень некрасиво. Никогда не сложишь их как следует, сколько ни разглаживай. Нет, простыни-чехлы – это неаккуратно, я их больше не покупаю.
– Даже для парня?
– Для парня-то я покупаю, он волчком вертится всю ночь. Потом, в его шкафу может и не быть безукоризненного порядка. Он же мальчишка.
– А у тебя, Маривон, есть простыни-чехлы?
Я отрываюсь от стакана вина.
– Что?
– Спишь, что ли? Мы говорим о простынях-чехлах, ты как к ним относишься?
– Ну, по мне – лишь бы постель для спанья была, а на остальное плевать!
В столовую входит работница из другого цеха.
– Ну и ну! Видала, как ее разнесло, эту бабу?
– Еще бы, дурочка, она же беременна.
– Нашла чем удивить, и все же нельзя так распускаться. Я бы ни за что не позволила себе так растолстеть. Помяни мое слово, ей придется потом здорово помучиться, чтобы похудеть.
– Не обязательно, посмотри на меня, во время беременности я прибавила шестнадцать кило. Бочка, да и только. Ну и что, за короткий срок и без всякого режима все потеряла.
– Не все люди одинаковы, есть и такие, кому никогда уже не похудеть.
– Уверена, что эта растолстела по меньшей мере на десять кило, а ведь она только на шестом месяце.
– Вовсе не на шестом, а на седьмом, она должна разродиться одновременно с моей невесткой, которая работает на кранах для ванн.
– Спорим: я утверждаю, что она на шестом. Она еще не проходит курс по деторождению.
– Хотите, я у нее самой спрошу? Слабо?
И так ежедневно утром и в перерыв. Четверть часа на болтовню. Часто и шутят… Мне бы хотелось, однако, чтобы говорили не только о блеске полов или пахнущем лавандой белье. Ведь можно бы и мечтами своими поделиться, и страхами, но никто не решается начать. Мы плохо знаем друг друга.
Бывают дни, когда, откровенно говоря, и с заводскими подружками – дикая скучища.
Что за коварство: не успела сбежать, а мысленно опять уже там.
Мне хорошо. Я – в тепле, натянула одеяло до самых глаз. Опускаю веки и прислушиваюсь к биению сердца. Мое тело слилось с простынями, кроватью, всей комнатой в целом. Мое тело – теплый континент, по которому бродит неуживчивая душа. Я прислушиваюсь к шепотам своего тела. Обследую его неторопливо. Плыву по его рекам и постепенно осваиваю эту страну. Ни городов, ни местных жителей в этом неизведанном краю. Рука моя – случайно обнаруженная пирога – оказывается на бедре. Я одна. Мои движения подчиняются току моей крови. Я спрятала свой кинжал чеканного серебра под подушку, чтоб было чем защищаться от диких зверей и точить карандаш. Задерживаюсь на волосистом пригорке, почти незнакомом. Солнце заходит за деревья, и оно столь горячо, что они всякий раз воспламеняются. Мне бы надо узнать побольше. Рука моя прикасается к груди. С трудом пробиваюсь по этой пересеченной местности, труднопроходимой, изобилующей западнями.
Внезапно подхваченная волной нежности, я попадаю в удивительный морской прилив. Во мне и вокруг меня огромный водный мир, порождающий жизнь. Иногда вода внезапно поднимается, замирает и столь же быстро отливает неведомо куда, и я как идиотка барахтаюсь на суше. Я обязательно должна воспользоваться высоким приливом, чтобы возможно дальше продвинуться, но течения непрестанно вливающихся рек швыряют меня то в одну сторону, то в другую, и я не в состоянии управлять своей утлой пирогой.
Птица-плод носится по воздуху и спускается на меня. Беспокоит ее голова – птица, по-видимому, слепа. Вот сейчас она наткнется на меня. Я не в состоянии лавировать из-за уносящего меня течения. Кричу: «Осторожней!» Она останавливает свой полет. Гнусавый голос произносит: «Ах, простите, я такой рассеянный, опять забыл оглядеться, прежде чем лететь через реку». Она тотчас улетает, а я вздыхаю облегченно. Слежу за ее полетом, водя взглядом по белому потолку.
Веки у меня приоткрыты. Пора гасить свет.
Глава четвертая
За шторами брезжит рассвет цвета кофе с молоком. Темнота приобретает бежеватые тона.
«Опять уснули. Опоздаем, Маривон, вставай!» Вставать всегда тяжело, но утром в понедельник – хуже всего. «Нервы сдали», – говорят женщины. Чувствуешь себя еще более усталой, чем во все остальные дни недели. Ноги подкашиваются при мысли о том, что еще одна каторжная неделя началась. Хотелось бы впасть в вечную спячку.
Воскресным вечером никак не можешь вовремя улечься. Крутишься по дому, подбираешь то одно, то другое, подготавливаешь синие рабочие комбинезоны, собираешь однофранковые монеты для автомата с газировкой. Машинально смотришь воскресную белиберду по телику, все ради того, чтобы не думать: завтра понедельник, а когда, проклиная это куцее воскресенье, все же уляжешься, понимаешь, что вовсе и не прожила никакого воскресенья.
Входя на завод, рабочие выглядят еще бледнее обычного, головы понуро опущены, спины согнуты, подготовлены ко всем ударам.
Иногда я вхожу задом наперед, чтобы насмешить товарок. Смеются, но какое уж там веселье!
Ворча открываю глаза. Готова все разнести к чертовой матери.
Однако я не дома.
Будильник не звонил. Будильника вообще нет. Я сбежала от надзора. Могу потянуться и опять уснуть. Счастье.
Я не услышу, как каждое утро, дребезжанья стекол, когда грузовики мчатся по улице к порту. Одни лишь морские птицы нарушают тишину. Серые и серебристые чайки, бретонские глупыши, длиннобелые тупики и другие морские птицы возвещают разнообразными криками о своем пробуждении. Я вслушиваюсь. Вновь обретаю звуки, но это не грохот машин, не местное радио, только усиливающее утреннюю апатию.
Оказывается, я оглохла, сама того не ведая.
На заводе тоже есть животные, но их не слышно. Иногда это кошка, преследующая мышь среди груд картона, иногда таракан, скользящий по канализационным трубам, иногда змея, проползшая в приоткрытую дверь и спрятавшаяся под плинтусом. А иногда увидишь божью коровку в красной шапочке, прогуливающуюся по контейнеру. Но тем, кто работает в металлургии, некогда изучать нравы животных, дай бог самим как-нибудь приспособиться.
Правда, к шуму машин в конце концов привыкаешь, но хотя его одного достаточно, чтобы окончательно отупеть, мы начинаем еще и горланить изо всей мочи, стучать инструментами по контейнерам, по конвейеру. Разряжаем нервное напряжение этим необязательным грохотом. Обнаженные нервы повинны в этих импровизированных концертах, в которых находит себе выход гнев. Они не могут ускользнуть от внимания начальника цеха, однако он не вмешивается из страха, как бы это неистовство не обернулось против него. К тому же он не играет ни на одном инструменте и, возможно, завидует этой коллективной музыке. Все чувствуют себя несколько потерянно, когда достигнув накала, звуки голосов становятся тише и какофония прекращается. До новой вспышки. Каждый возвращается к обычному ритму работы, и скрежет металла наполняет цех.
Предметы и те приобретают иногда несвойственное им назначение. Тележка на колесах становится самокатом, мусорная урна – вместилищем для литра красного вина, металлическая корзина превращается в сиденье, а кусок картона – в скатерть, на которой можно перекусить. Устраивают полулегальные столовки по углам цеха, пируя в пыли перед началом отпуска.
Просыпаюсь еще позднее, сама, Дневной свет уже отвоевал себе всю комнату. Мне больше не хочется спать. Привыкнув вставать чуть свет и из-за работы, и из-за малыша, который просыпается рано, я не способна подолгу спать по утрам. Мне хочется горячего кофе с рогаликами, и я без сожаления напяливаю на себя свою одежонку.
Дверь я приоткрываю медленно, стараясь не произвести шума, – она не скрипит. Оглядываю коридор. Боюсь появления вчерашнего приставалы с его гнусной улыбочкой. Едва дышу, чтобы не дать страху завладеть собой. Пробегаю по коридору и, не замедляя бега, спускаюсь по лестнице. Не оглядываюсь – из боязни увидеть преследователя, которого я так боюсь. Никого не повстречала. Даже хозяйки.
А что, если произошла катастрофа и я единственная, кто выжил в этой гостинице? Что, если весь город покинут по тревоге или взлетел на воздух, а я все проспала? Что, если весь мир уже обратился в развалины и кладбищенское безлюдье? Что, если я – единственная, кто уцелел, а вся цивилизация поглощена каким-то разрушительным злом? Возможно, совершена плохо кончившаяся атомная «экскурсия», из которой никто не вернулся.
Я иду по ватным облакам, масса крючковатых атомов, извиваясь, крутится вокруг меня. Чувствую, что перевоплощаюсь. Зеленые волдыри лопаются на моих руках. Волосы распустились. Сердце бешено стучит в моей металлической груди.
Ресторан тоже пуст. Нет, в уголке притулился официант. Я вешаю свою куртку и радиоактивное воображение на вешалку. Для первого завтрака накрыты два столика – мой и парочки, к разговору которой я вчера прислушивалась.
Я усаживаюсь. Подходит официант, приветливо спрашивает:
– Хорошо выспались?
– Да, спасибо.
– Кофе?
– С молоком, пожалуйста.
– Рогалики?
– Да, мсье.
Он не произносит больше одного слова зараз: явно бережет силы до пенсии.
Набрасываюсь на еду. Переживания всегда вызывают у меня аппетит. Да и вообще я всегда голодна: от этого особенно страдают мои бедра. За вчерашним своим столиком завтракает та же парочка. Мне хочется с кем-нибудь поболтать. Жана Франсуа нет как нет.
Поднимаюсь.
– Здравствуйте, простите за беспокойство, мне захотелось сказать вам, что вчера вы меня спасли от изнасилования.
Я им мешаю. У них озадаченный вид.
– Да, вчера вечером, когда вы выходили из ресторана, я изо всех сил боролась с приставшим ко мне негодяем.
Они вежливо улыбаются. Смущены. Я торчу перед ними как столб. Жду, чтобы они заговорили. Он неуверенно произносит:
– Наше вмешательство было невольным, тем приятнее, если мы вам помогли, даже не подозревая об этом.
Я перебиваю:
– Вы на отдыхе?
Разумеется, они отдыхают: министерство просвещения щедро в отношении отпусков. Я тоже в отпуске. И вдруг огорошиваю их:
– Я работница.
Они этого не ожидали. Если они будут так меня разглядывать, я скажу им, что кормить животных воспрещается. Можно подумать, что для них рабочие существуют только в речах. Изучают, так сказать, их чаяния, историческое предназначение по книгам, но никогда не встречались лично. Да умеют ли рабочие говорить-то? Вот в чем вопрос.
У него, видно, и голос пропал, так ему меня жалко. Он выдавливает:
– Ясно.
Возможно, ему привиделось, как я с утра до вечера надрываюсь в преисподней огня и металла и, выбравшись с завода, тащусь к бедной семье в жалкую, развалившуюся лачугу, полную тараканов.
Прямо мания какая-то. Он начинает говорить медленно, отчеканивая каждый слог, чтобы я смогла понять его. Он принимает меня за тупицу: ведь столько наслышался да и сам говорил, что положение рабочих невыносимо тяжелое и что пролетарии обездолены и оглуплены потребительским капиталистическим миром.
– Вы работаете на птичьей бойне?
Он знает географию своего района. Здесь действительно есть птичьи бойни.
– Нет, в металлургии.
Я тоже чеканю каждый слог и испытываю гордость от своего curriculum vitae. [2]2
Жизненное поприще (лат.).
[Закрыть]Я-то, по крайней мере, произвожу материальные ценности и знаю изнанку потребительства.
Удивление сменяется у него чувством неловкости. Для него металлурги – это те, что работают на заводах «Рено»: огромные, волосатые ручищи, квадратные рожи, чуточку бычьи, – они обычно следят за порядком на первомайских демонстрациях ВКТ. [3]3
ВКТ – Всеобщая конфедерация труда.
[Закрыть]
Глядя на меня, он начинает косить. Не очень-то хороши у него глаза. Девица молчит и находит, вероятно, что я навязчива. Она липнет к своему милому, как нить сыра к макаронине.
Я резко бросаю:
– Ну ладно, до свиданья!
Хорошо бы вот так неожиданно встретить Жана Франсуа и сказать ему, что он вовсе не пленил меня своим адвокатством белоручки в пользу бедных.
Ловлю свое отражение в зеркале. Видик у меня не для свиданий. Надо привести себя в порядок. Пойду к парикмахеру. Хоть прическу изменю, если не удастся изменить ничего существенного.
Выхожу, на улице холодно. Пронзительный холод, от него даже груди затвердевают. Скоро выпадет снег.
Отыскивая парикмахерскую, я кружу по лабиринту центральных улочек города. Выбираю шикарный салон, уж коли начала, так нечего жмотничать. Все равно к концу месяца буду на мели. Первая попавшаяся на моем пути парикмахерская совсем не плоха.
Толкаю дверь – она открывается под звон колокольчиков. Останавливаюсь на пороге салона в стиле какого-то там Людовика, чувствую себя слоном в посудной лавке. Я неказиста и бедно одета. Запахи алтея и нашатыря, плавающие в интимной атмосфере этого салона, ударяют мне в нос. Не расчихаться бы! Мне не по себе. Хочу уйти. Поздно. Мной завладевает умело подкрашенная молодая женщина в облегающих белых джинсах.
– Добрый день, мадам, вы хотите, чтобы я назначила вам час приема?
– Да… Вообще… то есть, если можете, я бы предпочла, чтобы вы приняли меня сейчас. Это меня устроило бы. Иначе у меня не будет времени.
– Сейчас? Посмотрим… Да, я думаю, что это возможно. Что бы вы хотели?
– Стрижку и укладку.
Откуда мне знать, чего я хочу, но все уже решено ею. Короткие волосы – а почему бы, собственно, и нет?
– Шанталь, займитесь, пожалуйста, мадам.
Шанталь в розовой блузе совсем молоденькая – наверное, ученица. Она помогает мне, как если бы в этом была нужда, снять куртку, которая будет висеть в раздевалке рядом с норковым манто. На меня надевают местную униформу. Очень широкая блуза, махровое полотенце на шее, и вот я уже готова к операции.
Прежде всего – мытье волос. Откинув голову назад, я отдаюсь в руки Шанталь. Она теребит мои волосы, полные мыла, вода чересчур горяча, затылку больно. Но я молча терплю. Ведь во имя красоты требуется страдать, а мне надо взять огромную фору. Прополоскав мои волосы, Шанталь бросает меня и переходит к мытью другой головы. Я стоически жду над раковиной. Вероятно, меня видно насквозь. Никто мною не занимается. Я смешна с этим полотенцем на голове. Струйка воды просачивается сквозь плотную ткань и стекает по шее между лопаток. Меня охватывает пронизывающий холод.
Через какое-то время та, которая меня приняла и которая, вероятно, является хозяйкой заведения, приглашает меня к туалету. Я усаживаюсь перед зеркальной стеной, отражающей мое лицо, поглупевшее под мокрыми волосами.
С силой растирая мне голову, парикмахерша спрашивает:
– Какую стрижку вы предпочитаете? А-ля Стоун, удлиненную или квадратную?
– Не знаю.
Какой дурехой я ей кажусь.
– Я сделаю вам удлиненную стрижку, потом уложу волосы волнами – это вам очень пойдет.
– Целиком полагаюсь на вас.
Говорю совсем не то, что думаю. Она помахивает ножницами и начинает стричь. Мои волосы рассыпаются по полу. Уф! Посмотрим, что получится. Отдайся на волю случая, Маривон.
Стрижка окончена. Мои еще мокрые волосы прилипли к голове. Не очень-то я авантажна.
Женщину, пришедшую после – вероятно, весьма уважаемую клиентку, – обслуживают быстрее, чем меня, не заставляя ни минуты ждать. Ее голова уже покрыта разноцветными бигуди, которые оттягивают кожу назад. Это ее молодит. Парикмахерша воркует с ней о платьях и о том, как изворачиваются женщины, чтобы помочь мужьям.
Настает и мой черед для укладки.
– Я бы хотела, чтобы это выглядело естественно.
– Не беспокойтесь, дамочка, не будет ничего экстравагантного. Я уже вижу, какой стиль вам подойдет.
Ей везет: я лично ничего не вижу.
Толкая перед собой тележку, наполненную бигуди, защипками и зажимами, к хозяйке приближается Шанталь. Парикмахерша сухо командует:
– Валик. Нет, не этот, большой. Защипку. Зажим. Средний валик. Я сказала – средний! – Потом очень любезно она обращается ко мне – клиентке, пациентке: – Вот увидите, будет отлично.
Она вьется вокруг моей головы, усеивая свой путь бигуди. Ручку гребенки зажала в зубах, тут поправляет прядь, там наклонится, чтобы укрепить валик, поднимается на цыпочки, руки у нее так и летают. Она протискивается, расставив ноги, между мной и туалетом. Ее обтянутый штанами живот оказывается на уровне моего лица. У меня возникает желание просунуть руку между ее ляжками – посмотрим, что будет. Я удерживаюсь. Она обходит меня вокруг и кончает свою акробатическую работу.
– Зажим, Шанталь, скорее. Сетку.
Она обертывает все сооружение розовой нейлоновой сеткой, выщипывает маленькие чувствительные волоски, оставшиеся у самой шеи, и посылает меня сушиться.
– Для дамы полчаса, Шанталь!
– Да, мадам.
Отрегулировав температуру, Шанталь включает аппарат и сажает меня под каску сушилки.
Я отрезана от мира шумом и жарищей, охватившими мою голову. Чувствую, как мои прекрасные уши начинают пылать. Вся извиваясь, хозяйка спрашивает меня знаками, все ли в порядке. Я умудряюсь утвердительно кивнуть головой, несмотря на то что бигуди цепляются за каску. Я поджариваюсь, но все отлично.
Не буду сидеть, сложив руки на коленях, как наказанная пансионерка. Возле меня на низеньком столике множество газет и женских журналов. Я могу найти в них драгоценные советы, как становиться день ото дня краше, моложе и элегантнее. В общем-то, если не все женщины фотогеничны, так это лишь оттого, что они этого не хотят. Виновны в небрежении собой, а это – невежливо по отношению к обществу. Уродливые, спрячьтесь или употребляйте крем «Машен-Шоз», № 6. Все возможно: завить волосы, развить, покрасить, перекрасить самые ужасные патлы. Можно придать носу форму птичьего клюва или картофелины, подбородок сделать галошей или вовсе убрать его. Груди можно подтянуть. Применяйте средства против воспаления кожи, против жировых отложений, против расширения вен, против синяков, против красных пятен на лице, против рубцов на коже, против тумана. Станьте предметом мечты. Изгоните ваше неблаговидное естество и купите модное. Иначе – провал, отсутствие любви.
Предпочитаю читать газету «Уэст-Франс». Отыскиваю сегодняшний номер и читаю местную страничку. Замираю перед заманчивым заголовком:
ОНА ВСЕ ЕЩЕ В БЕГАХ!
Под заголовком читаю:
ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ МАРИВОН Т.
А дальше – заметка, от которой у меня леденеет сердце.
Наш специальный корреспондент отправился на место происшествия, чтобы уточнить, если не понять, последовательность событий, которые привели, по-видимому, умственно неполноценную Маривон Т. к столь омерзительному поступку.
С большим трудом наш специальный корреспондент получил сведения от потрясенного мужа и интервьюировал людей из окружения Маривон Т.
Мы помещаем здесь репортаж об этой плачевной истории, который, несомненно, заинтересует наших читателей.
– Мсье Т., могли бы вы предвидеть что-нибудь подобное, исходя из повседневного поведения вашей жены?
– Нет, я ничего не могу понять, у нас было все для счастья. Она держалась за свой очаг и привычки. Я потрясен. Даю слово, ничего не понимаю.
– Мсье Т., вы возмущены поведением вашей жены?
– Разумеется, черт побери, да! Нельзя вот так взять и все перечеркнуть. Я очень страдаю. Вы понимаете?
– Мсье Т., хотите ли вы передать что-либо вашей жене? Если она читает нашу газету, то это до нее дойдет.
– Да, спасибо. Маривон, если ты прочтешь это послание, умоляю тебя от своего имени и от имени сына: возвращайся.
Маленький сын виновницы происходящего входит в комнату, где мы находимся. Очаровательный четырехлетний мальчуган. Сейчас он произносит в мой микрофон свои первые жестокие слова: «Мама – дрянь».
Покинув несчастную семью, я отправился на место работы Маривон Т. Я расспросил ее непосредственного начальника, сурового, но справедливого человека, который заявил: «Это была в общем-то честная работница. Я могу лишь сказать, что она выполняла положенную работу – ни больше ни меньше. – И конфиденциально добавляет. – Но у нее была тенденция поиздеваться над дисциплиной».
Близкая подруга Маривон тоже соглашается поговорить со мной. «Маривон – лучший мой друг, по крайней мере, я ее очень любила. Ей иногда приходили в голову странные идеи, но тем не менее она была лучшей моей подругой».
Из собранных свидетельств возникает неприглядная личность Маривон Т. Малоразвитая интеллектуально, недисциплинированная, эксцентричная, эта женщина, довольно-таки невзрачная, несомненно, давно уже вынашивала, в силу отсутствия прочных моральных устоев, мысль о преступлении, которое она столь обдуманно совершила. Чудовище носило личину матери, супруги, трудящейся женщины.
Наш специальный корреспондент хорошо вскрыл ее сущность, но пока она все еще не поймана. Маривон Т. проскальзывает сквозь дыры в сети, которую раскинули органы охраны порядка. Известите ближайшие комиссариаты или жандармерию, если обнаружите где-либо подозреваемую.
Кладу обратно газету. Я потрясена. Ну и история! Неужели я убила пилкой для ногтей в одном из городков побережья коммивояжера, возможно отца семейства. Я виновна в смерти человека, и меня преследует вся французская полиция! Нелепая выдумка! Я, вероятно, не то прочитала. Невзирая на невыносимую жарищу под сушилкой, я становлюсь белой как полотно – только уши пылают. Плохо прочитала. Снова беру газету. Заметка исчезла. На ее месте – краткие сообщения о событиях дня. Собрание ассоциации старых альпийских охотников. Выдача кубка женской футбольной команде в Пордике. Кража зеркала с машины на стоянке в ночь с понедельника на вторник. Становится жалко добросовестного журналиста, который заходит в комиссариат, чтобы ознакомиться с поступившими жалобами, в надежде на долгожданную сенсацию.
Меня нет в газете. Меня не разыскивают. К тому же я закамуфлировалась, и никто меня вообще не узнает.
Другую клиентку, еще не остывшую, уже причесывают. Жесткие пряди волос теперь, когда с них сняты бигуди, упругими спиралями покрывают ее голову. Словно шарикоподшипники. Несколько взмахов щетки все это приводят в порядок. Облако лака на сооружение, и среди всеобщего ликования дама торопится уйти. Она пришла хорошо причесанной и уходит такой же, без каких-либо изменений. Вероятно, я чего-то не заметила. Я-то хочу получить за свои деньги все что положено.
Полчаса истекло, я высовываю голову. Жду. Парикмахерша ощупывает бигуди, удостоверяясь, что не осталось непросохших прядей. Хорошо. Теперь уже недолго. Метаморфоза заканчивается. Это не воображение, я действительно стала совсем другой с этими короткими завитыми волосами. Недурно. Начинается новая жизнь!
Последний раз я была в парикмахерской перед свадьбой – моей свадьбой. Хотелось привлечь внимание кверху моей персоны, чтобы избежать взглядов на живот, где уже шевелился ребеночек. Все было исполнено по соответствующим правилам, чтобы удовлетворить родню, жаждавшую эмоций и шампанского. Нас мигом окрутили, и поначалу я даже мужские штаны подшивала с восторгом.