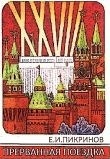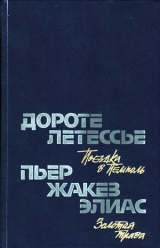
Текст книги "Поездка в Пемполь"
Автор книги: Дороте Летессье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Входит женщина, похожая на ту, которую я выдумала. Высокие сапоги из тонкой кожи – по меньшей мере 600 франков, брюки из бежевого бархата заправлены в сапоги, чтобы они бросались в глаза и чтобы придать всему облику спортивность, – 250 франков; рыжая куртка из длинношерстного меха – бедное животное – 6000 франков, она распахнута – виднеется легкий пуловер от Родье – 400 франков. Ко всему этому еще широкий кожаный пояс, подчеркивающий тонкую талию дамы-теннисистки – два-раза-в-неделю-ради-здоровья, – 150 франков. На шее платочек, демонстрирующий этикетку от Ланвеня – еще 150 франков. Через плечо перекинута новехонькая сумка от Багажери – 400 франков, – переполненная всякой всячиной, изысканной и бесполезной. Всего на ней понадевано на мой четырехмесячный заработок. Из-под уложенных в естественном скандинавском стиле волос смотрит лицо – точь-в-точь с глянцевитой страницы модного женского журнала. Она оглядывается, проверяя, какое произвела впечатление. Наши взгляды встречаются, она дальше от меня, чем телевизионная дикторша. Да! Она мгновенно поняла, что мы не одного поля ягода. Она съест крошечное пирожное без крема и шоколада, а чай с лимоном будет пить без сахара, подсчитывая в уме ежедневно допустимые калории. У нее час свободного времени, потом ей надо забрать из детского сада своего ребенка – с ног до головы от Кашареля. Похрустывая куском сухого торта с грушами, она листает журнал по истории искусства, продающийся во всех киосках. На скромном обеде, который она даст в честь кандидата в депутаты, уроженца этого уголка, она сможет болтать о выставке Шардена в парижской Оранжери. Ее муж, который ни черта не смыслит в живописи, несомненно, поправит ее по части, хронологии, а она прощебечет: «Мишель очарователен, но он ревнует женщин к культуре». А тот – врач – ответит: «Когда я слышу слово „культура“, я вынимаю свой скальпель». Друзья найдут, что они очень остроумны. Потом мужчины заговорят о своих конфликтах с администрацией.
Женщина, мечтающая попасть на цветное рекламное панно «Делайте, как я, носите невесомый эластичный пояс „Целуй меня“», встает, оставляет нищенские чаевые и уходит, не проронив ни слова. Ей хотелось бы жить в большом городе, иногда она впадает в уныние из-за того, что попусту тратит столько усилий на свою внешность в подобной дыре. Она стесняется своего бретонского происхождения, румяных щек и проскальзывающего порой акцента. Ей хотелось бы стать парижанкой, узнать, а главное, самой быть узнанной многими людьми. Она ходила бы в театры и каждый день облизывалась бы на витрины улицы Сен-Жермен. Может быть, и работенку подыскала бы в каком-нибудь клубе, – лучше всего на несколько часов. Пемполь чересчур мал, тут невозможно найти красивого любовника, чтобы скоротать зимние дни. Она думает о «провинции» как парижанка. Но в Париже, сколько бы она ни задавалась, у нее всегда такое чувство, будто на ногах сабо, а в руках ивовая корзинка, из которой торчит утиная голова. Улицы ее пугают, в метро она теряется, в магазинах боится, как бы не обокрали, а в кафе – как бы не подсунули наркотик. И все же она решается кое-что купить у Фошона, не подозревая, что именно магазины, разрекламированные «Ви Клэр», наимоднейшие, и, изнемогая от усталости, возвращается в отель.
Окурок уже истлел в пепельнице. Остатки чая на дне чашки остыли. Расплачиваюсь. Надо найти пристанище на ночь.
Выбираю отель, словно какая-нибудь важная персона. В узеньких, мощенных булыжником, похожих на картонажи улочках множество рыбацких ресторанов, пахнущих жареной картошкой; при них есть меблированные комнаты, которые можно снять на день или на неделю. Все названия крутятся вокруг моря: «Надувная лодка», «Трал», «Кафе морского флота», «Голубые волны» и тому подобное. Ближе к порту преобладают отели в современном стиле.
Зимой они закрыты. Летом туда нанимают учеников коллежей для уборки комнат и другой работы, которую несовершеннолетние выполняют за пониженную плату.
Направляюсь в портовый отель. Старый служащий в белой куртке подметает пол ресторана. В силу привычки смотреть на пол или на сидящих за столиками посетителей, которым он подает блюда, нос его клонится книзу и, кажется, готов опуститься еще ниже.
За конторкой – дама с шиньоном, она смущает меня. Дама поглощена изучением бухгалтерской книги в черном переплете, сама дама похожа на эту книгу. Темный костюм без единой морщинки туго облегает ее дородное тело. Если и матрасы здесь такие же жесткие, как ее лицо, пожалуй, лучше поискать пристанище в другом месте. Поздно, она обращается ко мне удивительно высоким голосом:
– Что вам угодно? Если вас интересует еда, так вы пришли слишком поздно или, наоборот, рано, а напитки мы подаем только с блюдами.
– Добрый день, мадам, я хотела бы, если это возможно, комнату.
– Ах, комнату? Да, свободные есть. Вы одна?
Ей-то какое дело? Она бросает косой взгляд на мою левую руку. Обручального кольца нет, но вид у меня вполне замужний.
– Да, я одна.
– И вы никого не ожидаете? Предупреждаю, после девяти часов вечера надо извещать о посетителях.
Что это еще за идиотские правила? Я впервые одна в отеле – видно, это не очень одобряется.
– Я никого не жду. Комната мне нужна для меня самой. И с ванной, если у вас есть.
Ее повадки шпика начинают, черт побери, действовать мне на нервы. Я ведь не делаю ничего плохого. Да хотя бы… я ведь совершеннолетняя! У меня есть деньги, и, если надо, я могу заплатить отдельно и за то, что я одинока, и за то, что без обручального кольца, за ванную, за горячую воду, даже за холодную, за отопление, за улыбку на лице хозяйки.
Я попросила у нее ванную комнату, просто чтобы показать, какая я требовательная, но мой бюджет на «вылазку» сильно от этого пострадает.
– Хорошо, дадим вам номер двенадцатый с ванной и видом на порт. Будете обедать?
Вопрос звучит приказом, я не могу отказаться.
– Да, мадам.
– Комнату освободите завтра рано утром?
Она явно испытывает мое терпение.
– Не обязательно. Завтракать, возможно, буду здесь.
Я стараюсь выиграть время. У меня еще нет точных планов на завтра.
– Надо знать наверняка, а не приблизительно.
За что она ненавидит меня?
– Сообщу за первым завтраком. Я еще не решила. Вас это устраивает?
– Безусловно, мадемуазель. Я провожу вас в комнату. Следуйте за мной.
Она поджимает губы, и все ее лицо искажается отвратительной гримасой. Наверное, она никогда не улыбается.
Со спины она еще величественнее. Стремительно поднимается по лестнице. У этой мерзавки хорошие ноги, я, чересчур уж много курящая, задыхаюсь. Она открывает дверь двенадцатого, поворачивается ко мне и злобно обнаруживает, что у меня нет багажа – даже самого малюсенького чемоданчика или сумки для ночной рубашки и сменного белья. Не возмутительно ли – такая отличная комната для одинокой бродяжки без белья. Я закрываю дверь, а она поспешно удаляется. Какая стерва!
Комната светлая, несмотря на бретонскую обстановку – подделку под старину. Шторы с набивными букетами цветов соответствуют обоям, которые кое-где поотстали. У окна стол – специально чтобы любоваться портом, когда пишешь открытку «Горячий привет из Пемполя».
Эта комната с ее чистотой, уродливостью, поношенностью не чужда мне. Через нее прошло множество людей. Сегодня я тут дома, а завтра утром уже не обязана даже подмести за собой натертый до блеска пол. Я вроде бы нашла необитаемый остров, рай, где все позволено и не будет иметь последствий. Никто не придет. Я ничего не должна делать. Даже еще лучше – я и не могу сделать ничего полезного, необходимого. И говорить не надо. И никаких объяснений, невзирая на подозрительные взгляды хозяйки.
Могу войти, уйти, часами сидеть сложа руки. Я для себя – незнакомка. Я спряталась в этой незатейливой декорации. Отбросить обычаи. Ни чемодана, ни обручального кольца, я опьяняюсь этим глотком свободы. Сейчас я должна была бы вкалывать на заводе.
После перерыва я совсем соловею, работаю в полусне. Соображаю, что приготовить на обед. Вообще-то есть яйца. Сварю лапшу, и дело с концом. Неотрывно слежу за стрелками больших часов над моей головой. Боже, до чего медленно ползут! Мне кажется, что каждый день они замедляют свой ход. Скоро пять часов! А я еще не выработала свою норму. Чтобы успеть выпить кофе с подружками, надо поторапливаться. Ты спишь, старушка! Всем, как и мне, осточертело, осточертело так, что и представить себе невозможно! Но я-то отлично представляю, мне все обрыдло: работа, шефы, считающие нас пешками, заработок, годный лишь на то, чтобы мы не вылезали из дерьма. Старея в этом бардаке, я мало-помалу революционизируюсь. Не издевайся, уверяю тебя, это правда, надо все разнести к чертовой матери, когда осатанеешь, то уж нет удержу! А наши ребятишки – какая их ждет жизнь с этой безработицей и прочими прелестями? С ними будут обращаться как со скотом, как с нами, даже еще хуже, если это только возможно. Ну ладно, хватит хныкать, а то совсем раскисну. Ну как, Маривон, будешь пить сок или нет?
Возвращаемся к нашим станкам. Движения не зависят от нашей воли. Голоса не слышно из-за шума машин. Находим выход – говорим беззвучно, угадывая слова по движению губ. Гримасничаем, кривляемся, щуримся или улыбаемся, чтобы вопреки всему общаться, и часто поднятые брови или складки около носа говорят больше, чем слова. На заводе все чувствуют себя до какой-то степени увечными, и иногда от этого даже становится легче.
Самые тяжелые часы дня – когда надо возвращаться после перерыва. Заводской ресторан – напротив, рабочие из разных цехов сменяют одни других. Часы перерыва точно расписаны, чтобы избежать свалки в столовой. Садятся всегда за один и тот же стол. Напротив меня, подальше, за двумя столами ест молодежь из монтажного цеха. Называют их молодыми и потому, что они действительно молоды, и потому, что недавно нанялись. Они веселятся и думают еще, что «когда завод допечет, можно с ним и завязать». Один из них мне нравится. Он безбородый и очень красивый. Белокурые волосы обрамляют локонами его тонкое лицо. Голубые глаза поражают меня своей чистотой, я еще не встречала подобной наивности. Он часто улыбается, его белые ровные зубы освещают все лицо. Во взгляде у него незащищенность и доверчивость – это трогает меня. Он не соответствует тому, что его окружает. Когда он замечает, что я смотрю на него, я опускаю глаза. У меня нет желания говорить с ним. Он для меня – прекрасный портрет.
С подружками я пью чересчур горячий кофе – ведь он не успевает остыть. Перерыв на исходе. Я смотрю на здания, облицованные голубыми плитами. Из труб валит дым. Я тороплюсь придумать что-нибудь смешное. На еду нам отведено ровно сорок пять минут. Наши жесты такие же быстрые и размеренные во время перерыва, как и на рабочем месте. И без ручных или стенных часов ноги точно чувствуют, когда им надо возвращаться к рабочему месту. Ведь иначе шеф будет ругаться, а не очень-то приятно выслушивать ругань каждый день. Иногда плюют на шефа и на три минуты опоздания – и защищаются. Но бывает и так, что мужества не хватает. Давятся, чтобы вернуться вовремя, глотают пищу молча. Когда завоет сирена, вскакивают со словами «болит спина», спрятав за ними все накопившееся отчаяние.
Сто метров от столовки до раздевалки ужасающи. Я отсюда вышла и сюда же возвращаюсь. У меня нет никакого выбора, что бы ни произошло. Не обращая внимания на подступившую тошноту, я должна идти и тянуть лямку еще четыре с половиной часа. Ведь всего лишь половина первого. А я уже достаточно сегодня наработалась.
– Что с тобой, Маривон, у тебя вид как у повешенной!
– А тебе какое дело! И вообще отстань, у меня язык не ворочается.
Глава вторая
Я осматриваю ванную, стены слегка облинявшего небесно-голубого цвета. Сама ванна огромная и белая – у нее вполне аппетитный вид. Полотенца туго накрахмалены – именно так, как я люблю. Смягчающие белье средства – собачья чушь. В ватной мягкости совершенно исчезает вся прелесть ощущения чистоты.
Над старым умывальником с потрескавшейся эмалью – зеркало в деревянной раме. Я становлюсь в позу, как для портрета. Молодая задумчивая женщина, печальная, удивленная, веселая. Я смеюсь. Молодая, измученная, злобная женщина. Я ощериваюсь, кокетливо гримасничаю, кривляюсь, недоступная, непорочная. Становлюсь совершенно непохожей на себя. Я больше не существую. Зеркало уже не отражает моих гримас. Старая усталая женщина с ускользающим взглядом. Какой видят меня другие? Отвыкнув думать о внешности, я разучилась видеть самое себя. Я потеряла свое «я». Потускнела. Отстраняюсь от зеркала. Ведь я тут для того, чтобы нравиться себе.
Приму очень горячую ванну, посижу подольше. Плевать, если это вредно для кровообращения, как утверждает мой отец. Покой этой водной территории не будет нарушен вторжением моего карапуза. И торопиться мне некуда – варка картошки побоку.
Утверждают, что функции создают органы, с трудом верю. Если бы это было так, женщины давно уже имели бы по четыре и по пять рук, чтобы выполнить все обязанности, которые одновременно наваливаются на них, едва они перешагнут порог дома.
Я предвкушаю удовольствие – принять без спешки ванну, но не хочу погружаться в нее тотчас же. Нужно, чтобы ожидание предельно возбудило наслаждение. Нужно, чтобы это была целая церемония. Прежде всего сама ванна, потом одиночество, потом неограниченное время и уже как завершение – мыльная пена.
Пойду куплю пенящийся шампунь для ванны. Ухожу из отеля, не сдав своего ключа № 12. Не торопясь, дохожу до порта, где заметила дешевый универмаг. Я всегда чувствую себя как дома в этих магазинах для бедных людей. Мне уже привелось работать в трех подобных. Наизусть знаю всю их подноготную. Ощущение фальши навсегда застряло в сознании – не забыть. Целый день на ногах. Убрать прилавки, расставить ценники, обслужить покупателей, стоять у кассы. Я не имела права носить джинсы. В магазин каждый день заходила одна старушка. Это был ее единственный ежедневный выход; тут ей было тепло, она видела людей, товары, яркие краски. Музыка и банальные фразы создавали для нее иллюзию общения. Покупать-то она почти ничего не покупала, разве что катушку ниток, коробочку булавок или кусок туалетного мыла. Она меня очень полюбила, потому что я не огрызалась, как продавщицы постарше, которым все давно осточертело.
Однажды она принесла мне книжечку Гастона Леру в мягкой обложке – название я позабыла – и сказала: «Возьмите, это вам, вы как-то сказали, что любите читать, – я тоже; надеюсь, вам понравится». У нее не было ничего, как и у меня. Мы подружились. Ее поступок меня растрогал, я так и не смогла придумать, чем бы ее отблагодарить.
Эмигранты тоже любят заходить в дешевые магазины самообслуживания. Вход, освещение, осмотр витрин – все бесплатно.
Молодежь со всего района часами толчется в секциях пластинок и одежды. Парни выламываются перед продавщицами, которые стоят за кассой. Паясничают, позванивая в карманах мелочью, если она у них есть.
Мне одинаково были симпатичны все они: старики, иностранные рабочие, неотесанные подростки, готовые слямзить что подвернется. К счастью, именно за ними меня заставляли следить. Мне говорили: «Смотри в оба, опять негритосы!» Или: «Пойди посмотри, чего надо этим хиппарям, они уже минут десять крутятся возле курток». Отказаться было нельзя, но я всего лишь проходила мимо, поощряя улыбкой: «Можете уводить что хотите, это барахло не мое». Но обыкновенно одного появления розовой униформы было достаточно, чтобы они тут же рассеялись, хотя через минуту и возвращались обратно.
Две молоденькие арабские девочки любовались однажды духами и другой косметикой в золоченых упаковках. Их заметила директриса: «Убирайтесь отсюда, у вас ведь нет денег, нечего тут околачиваться. И не мешало бы вам рожи помыть, грязные девчонки!» Испуганные девочки отскочили. Но стоило директрисе повернуться спиной, как они опять появились. Открыли флакончик туалетной воды и начали тереть физиономии, как бы умываясь. Продавщица накрыла их и сообщила директрисе; никто и опомниться не успел, как плачущих девушек уже запихивали в полицейскую машину. Произошло это незадолго до моего обеденного перерыва. Я вышла на улицу расстроенная, злясь на свое бессилие, и больше уже не вернулась в этот магазин – даже в качестве покупательницы.
Из любви к таким вот совсем не принцам, у которых, как и у меня, ни гроша за душой, захожу я в эти универмаги. Мне известно все, что происходит не на виду у покупателей. Каждая секция мне знакома, как и продавщицы с их равно безучастными лицами. Я знаю, какая царит давка в плохо освещенных, никогда не проветриваемых раздевалках, где удушливый запах пота смешался с духами. Знаком мне и уголок отдыха в глубине коридора – три квадратных метра, шаткий столик, две-три грязные табуретки; здесь можно присесть и выпить стакан воды, подкрашенной слезой мерзкого сиропа. Так и вижу табельщицу и металлическую доску, на которую каждый накалывает свой картонный жетон с порядковым номером. Имеются жетоны разных цветов в зависимости от жалованья и квалификации. На полный рабочий день нанимают очень редко. Предпочитают брать продавщиц на определенные часы – в зависимости от наплыва публики. Таким образом избегают наличия лишних служащих, которые в «мертвые часы» еще могут, чего доброго, затеять дискуссии. Так или иначе, нельзя ни минуты оставаться без дела – вот и ходишь вдоль прилавка, в особенности там, где новинки. Не больно-то это весело. Покупательница разворачивает один пуловер за другим и, скомкав их, уходит. Не оставлять же всю работу на конец дня, вот и торопишься вновь аккуратно все сложить, а через минуту опять скомкают. И так без конца…
Вечером надо снять кассу: подсчитать чеки и деньги, сложить их стопками – сантимы к сантимам, франки к франкам. Чтобы не задерживаться дольше положенного, начинаешь загодя, незадолго до закрытия магазина. Но именно тут-то и появляется запоздалый покупатель, который расплачивается за зубную щетку стофранковой бумажкой. Когда наконец раздается звонок, будь то в 19, 20 или 22 часа – в зависимости от расписания, впечатление такое, будто перестала вертеться карусель. Свет меркнет. Музыка и рекламные объявления по радио, которыми вы сыты по горло и которых вы уже просто не слышите, умолкают, – наступает тишина. Сдача касс окончена, пустые ящики выдвинуты до завтрашнего дня. К раздевалке торопливо стекаются изо всех углов магазина одетые в розовое продавщицы – трудно поверить, что их так много. Они перекликаются: «Еще денек оттрубили!», «До завтра, девушки!», «Всем привет!»
Самым плохим временем для меня был праздник всех святых. Меня отряжали на улицу торговать хризантемами. Никогда у меня не было пристрастия к хризантемам, но, торгуя ими, я их буквально возненавидела. Эти большие, блекло окрашенные цветы, даже когда они растут в земле, кажутся мне искусственными. Я неумело заворачивала их в прозрачную бумагу; бумага меня не слушалась, выскальзывала из рук, падала в лужи, я колола себе пальцы булавками, а нетерпеливые покупатели описывали мне могилы своих дорогих усопших. Бумажный халат плохо защищал от ветра. Чтобы согреться, я входила на минутку в магазин. И всегда натыкалась на шефа, который делал мне внушение: как можно оставлять товар без присмотра?
Тогда я жила в комнате для прислуги – на чердаке, по черному ходу, а раковина с холодной водой была только на лестничной площадке. В общем-то ничего страшного: я ведь мало проводила там времени. Часто влюблялась, но не всерьез. Когда эта полулюбовь-полудружба иссякала, я, конечно, горевала несколько дней, но не слишком. Я не сомневалась: так будет не всегда; когда-нибудь подыщется мне пара, обзаведусь семьей, и будет у меня надежная опора. Впрочем, я пыталась убедить себя, что можно обойтись и без этого и что не по мне женатики, уже скисшие к двадцати пяти годам и мечущиеся от служебного ярма к домашнему с ребятишками и радиолой. А ведь кончилось чем – вот я проехала сорок километров только для того, чтобы спокойно принять ванну!
Покупаю флакон шампуня для ванны. Прогуливаюсь по рядам магазина. Не буду покупать пуловер. Я откладываю такую трату на дни получек или до моментов уже полной подавленности. Но мне необходим роман из дешевой серии в мягких обложках – надо же будет чем-то занять вечер. Я всегда колеблюсь, выбирая книгу. Боюсь огорчить других. Боюсь разочароваться. У меня пристрастие к определенным авторам, в особенности к женщинам-романисткам. Беру книгу Кристианы Рошфор – я еще ее не читала. Жаль, что книга короткая. Я люблю длинные романы, которые можно читать день за днем. Живешь с их героями долго, думаешь о них не только, когда читаешь, и, начиная новую главу, встречаешь как друзей. Я люблю окунаться в разговоры и обстановку, совсем не похожие на мою жизнь. Часто мне хочется поговорить с автором, написать ему, но я никогда не делаю этого из страха быть неправильно понятой и испортить свое первое впечатление от прочитанного. Я так много читала, в особенности дождливыми воскресеньями моей юности, что граница между чужими жизнями и моей собственной постепенно стиралась. Будущее представлялось мне похожим на роман, и я вела дневник, выспренний, как военные мемуары.
Вот я и отоварилась. Выйдя из магазина, замечаю, что стемнело. Уже. Видно, зима никогда не кончится. Возвращаюсь в портовый отель. Большие стенные часы показывают 6 часов 30 минут. Хозяйка отеля, которая меня заприметила, коротко бросает: «Обед в девятнадцать тридцать». Хорошо, шеф, будем вовремя.
Вхожу в свою комнату, вытаскиваю из сумки книжку и, не снимая сапог, как бы бросая вызов духам домашнего очага, растягиваюсь на постели.
Прежде чем начать читать, я вдыхаю запах бумаги, шрифта, лакированной обложки. Эти типографские запахи создают атмосферу сообщничества между мной и тем, что сейчас оживет на страницах романа. Я узнаю издательства по их запахам, нежным или резким. Чтение доставляет мне и чувственное удовольствие тоже. Книгу я ощущаю. Вслушиваюсь в шелест ее страниц. Ощупываю их. Люблю разглядывать буквы, не стараясь понять ни их, ни слова, образующие ритмические группы своей протяженностью и пропусками между ними. Я любуюсь абзацами как маленькими картинками – ведь в каждом есть гармония. Книга дышит своими проблемами, и я дышу в ее ритме. Книга – моя подруга, податливая, покорная, открывающаяся по моему желанию на любой странице и погружающая меня в молчание. Мы сосуществуем часами, днями, иногда неделями, и мои настроения зависят часто от книжных строк.
Последние слова книги одновременно ранят и приносят облегчение. Работа закончена. Но я читала чересчур быстро, сожалею, что узы столь быстро расторглись. И вот писатель, которому больше нечего мне сказать, разочаровывает меня. Перечитывать ни к чему: радость неожиданной встречи уже не повторится. Я еще раз обманута, жизнь моя нисколько не изменилась. Бросаюсь к новой книге – в поисках рассеявшихся миражей. Я героиня множества безвестных историй.
Прочитываю страниц шестьдесят. Я привыкла, что меня все время прерывают – то люди, то внезапно осознанные неотложные дела, а то и просто усталость, – и потому останавливаюсь как по команде. В четырнадцать лет я была способна проглотить одним духом толстенную книгу. Эта способность утеряна. Во всяком случае, сейчас мне кажется, что пора пойти перекусить.
Провожу гребенкой по волосам. Для порядка. Перед зеркальным шкафом я отрекаюсь от той, чей облик подстерегал меня в зеркале над умывальником, и спускаюсь в столовую. Я не опоздала и не пришла слишком рано, часы показывают ровно девятнадцать тридцать, хозяйка приятно удивлена моей пунктуальностью.
Некоторые столики -уже заняты. Мне не приходило в голову, что другие могут есть, спать именно сегодня, здесь, как если бы ничего не произошло. Это меня смущает. Я сажусь в стороне, за столик, накрытый белоснежной скатертью. Сижу возле стеклянной стены, сквозь которую виден порт.
Входит парочка. Мужчина – некрасивый толстяк, брюнет с кое-где проступающей сединой. Его карие глаза поблескивают из-под бровей, столь густых, что они похожи на усы, попавшие не на свое место. Потрясающее ничтожество. Его сопровождает девица в серовато-лиловых парижских тонах. Они столь выспренно философствуют, что я не понимаю ни слова. Но все и без того ясно по их коленям, трущимся под столом. Это, несомненно, начинающая парочка в той стадии, когда возможность отказа понуждает к внимательности.
Я тоже выслушивала когда-то речи своего соблазнителя и только после того, как он умолк, начала стареть. Мы говорили о чем попало. Как бы случайно касаясь друг друга. Все, что предшествует постели, должно бы длиться годами. С грустью вспоминаю о том времени, когда мы ограничивались поглаживанием рук. Мой суженый смотрел мне в глаза, то ли подражая героям фильмов, то ли не зная, куда еще смотреть. Я всегда первая осмеливалась разжать его пальцы с обломанными ногтями и медленно провести ими вдоль моих рук. У него были крепкие мускулы, у моего работяги, я чувствовала, как они напрягаются от моего прикосновения, – это мне нравилось. Вспотев, затаив дыхание, боясь спугнуть его, я ждала, когда он решится обнять меня и с отсутствующим видом начнет возиться с застежкой моего лифчика. Наше нервное возбуждение неизбежно влекло к развязке. Я не была чересчур романтичной и все Же мечтала, что когда-нибудь он повезет меня в Венецию. Позднее, когда я заговорила об этом, он сказал: «Венеция? Там вонища!»
А эти двое хорошо воспитанных влюбленных так и сыплют банальностями, которыми, видно, напичканы до краев.
Мне же сказать нечего. И нет никого, кому можно бы сказать: «Я больше не могу» – без страха быть оборванной. Никого, кто станет меня слушать дольше десяти минут, не прерывая.
Надо бы мне чуточку приукрасить свою речь. Могу же я культурно изъясняться, ну хотя бы время от времени. Сказать бы: «Видите ли, дорогой, в сложившихся в данное время условиях рабочий класс, пролетариат как таковой, я хочу сказать – массы, до какой-то степени трудящиеся, находятся, с точки зрения фазы, я хочу сказать – периода, до какой-то степени в политической растерянности, в общем, короче говоря, в промежутке… жутке… паспорт-порнограф-граффити-ти-ти-ти – бездельники…» Не моя это песня!
Вот Жану Франсуа удалось меня разговорить. Он появился в профсоюзной организации как раз в утро забастовки. Ему надо было написать статью в газету. Знакомых у него не было, я предложила информировать его о нашей борьбе. Я была так горда, что участвую в забастовке! А его интересовала борьба рабочих – это его конек.
Мы пошли в ближайшее кафе. У него были огромные миндалевидные зеленые глаза и каштановые кудри. Чистой воды леворомантик. Я его немного стеснялась. Не знала, с чего начать. А он боялся спугнуть меня, наконец сказал: «Говорите что взбредет на ум, потом разберемся».
Мне хотелось сказать, что я нахожу его красивым, но он, видно, и сам это уже подметил. Я видела, как он смотрит на меня, и руки у меня горели. Вдруг меня прорвало. Рассказала о забастовке, о том, как заняли завод, о разговорах рабочих. Он согласно кивал и прерывал только для того, чтобы обрисовать, какое нас ждет блаженство, когда рабочие повсюду придут к власти. Время от времени он просил меня что-то уточнить. Он то смотрел на меня, то переводил взгляд на свой блокнот. Он был потрясающе внимателен, иногда договаривал за меня. Почувствовав, что о забастовке я все выложила, я перешла к повседневной жизни на заводе. Рассказала ему, как, смеха ради, у нас поют, держа у рта отвертку, словно микрофон. Рассказала о сплетнях, которые циркулируют, как по испорченному телефону, к великой радости того, кто первый пустил слушок. Рассказала о любовных свиданиях за грудами упаковочного картона. Ему все было интересно. Он убрал карандаш, и мне показалось, что на его лице запечатлелись все мои слова, его губы как бы повторяют их. Он смеялся и негодовал в нужных местах, я была в восторге. Он мне показался таким умным. А главное, красивым. Он взял меня за руку и сказал: «Все, что ты рассказала, потрясающе, если завод таков, я тотчас нанимаюсь».
Я смутилась, испугалась, что наврала, нет, завод вовсе не прекрасен. Я заговорила о травмах на работе, болезнях, женщинах, которые держатся только на транквилизаторах, о тех, кто лишь в злобе находит утешение. Рассказала о женщинах, которых бьют, а они скрывают заплаканные глаза за темными очками. О тех, чьи дети сбились с пути, и о таких, кто уже разучился плакать. Я призналась во всех своих разочарованиях и расплакалась. Я уверена, что он был растроган. Мне так хотелось сочувствия, помощи! Он осторожно погладил меня по щеке, но мне это не понравилось. Что мог он сделать для меня? Моя откровенность была бесполезной, позорной. Не пойдет он работать на завод, напишет статью о забастовке, такую же, как многие другие, а я вернусь к моему конвейеру.
Надо бы сказать ему, что я люблю живопись, «Времена года» Вивальди, стихи Маяковского и яблочный пирог. Но это его не интересовало. Я была всего лишь бастующей работницей, которую интервьюируют, возможно, и симпатичной. Я попалась в западню: социализм, классовая борьба, человечность Жана Франсуа. Прекрасные глаза и речи, но не любовь, которая мне нужна.
А в течение этих двух часов я так его любила, что потом он уже не смог меня отыскать, когда хотел показать мне свою статью, прежде чем отдать ее в печать.
Жизнь продолжается.
Я даже и не знаю, встретился ли мне на самом деле Жан Франсуа. У меня в ящике лежит его статья, но ведь, кроме меня, и другие могли рассказать ему о забастовке. Хотелось бы еще посидеть с ним – ведь я его как следует и не разглядела. Надо было, в свою очередь, расспросить, вызвать жизнь в его зеленых глазах. А я говорила одна. Он для меня – драгоценное воспоминание. Я по-прежнему одинока. Такая встреча – редкость.
Как странно есть одной, не вскакивая, чтобы подать очередное блюдо, не разговаривая, не торопись.
Позавчера малыш кончил есть раньше нас. Он ныл, просился на руки. Тянул меня за пальцы, пытался вскарабкаться на колени, наступал мне на ноги. Тщетно я уговаривала оставить меня в покое, Отец не шевельнулся. Я уже не могла есть. Мне все опротивело, и я резко оттолкнула ребенка. Он шлепнулся на задницу и разревелся. Тогда отец зарычал: «Какого черта! Ты что – сдурела? В чем провинился малыш? Зачем ты доводишь его до слез?» Я подняла мальчугана. Мы ревели вдвоем. Я уложила его спать и сама легла.
Подобное случается не каждый день. Обыкновенно еда – время четвертьчасовой беседы, если не помешает телик или газета. Говорим о событиях дня, о профсоюзе, о заводе и тамошних друзьях: