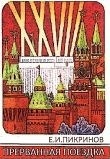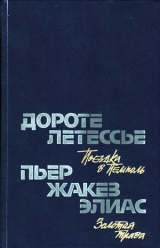
Текст книги "Поездка в Пемполь"
Автор книги: Дороте Летессье
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– Знаешь, что случилось сегодня утром в цехе?
– Нет, а что?
– Было холодно, градусник не дотягивал до пяти. При разговоре изо рта шел пар. Инструменты в руки не возьмешь, работать невозможно. Одна женщина даже в обморок от холода упала, и все ушли в столовую греться.
– А начальство как реагировало?
– Они промолчали. И хорошо сделали. Все так обозлились, что им досталось бы на орехи. Ведь у них-то в кабинетах – свое отопление. Когда это увидели, возмущению не было предела. Они втирали очки, будто котел отключен для ремонта. Но нам-то на это начхать. Мы мерзнем и не желаем вкалывать в таких условиях.
Говорим о бесконечных счетах, которые надо оплачивать, и о вечной нехватке денег. Пустые слова о каждодневных бедах – ведь сказать, что мы отчаялись, что наши мечты пошли прахом, было бы равносильно разрыву. Такова жизнь, нормальная, семейная, как у всех; счастливое супружество – это вам не роман, нечего разводить сантименты: ночью все кошки серы – бедные животные, какого цвета они становятся белыми ночами?
Я уехала и плюю на все.
Какой-то мужчина за столиком напротив смотрит на меня – этакая канцелярская крыса, отъевшаяся на разных разностях под соусами. Он вообразил, что я улыбаюсь ему, и его помятое лицо с залысинами расплывается в улыбке, как на рекламе. Дерьмо. Я опускаю глаза. Нельзя улыбаться. Нельзя ни на кого смотреть. Нельзя быть одной. Я раздавливаю окурок, встаю.
Опоздала. Этот суперробот-взбивальщик-пены-миксер-трепач-воображала, готовый все снести на своем пути, как дворники сметают снег с ветрового стекла машины, уже торчит передо мной.
– Разрешите предложить вам чашечку кофе?
И не думаю ничего разрешать.
– Нет, спасибо, я не пью кофе.
Надеюсь, что ответила достаточно сухо.
– Может, травяного чая?
Он сдабривает вопрос медовой улыбкой, как бы заверяя: препятствия меня не остановят. Я едва сдерживаю смех. Чай из липового цвета и мяты – вот чем соблазняют в Пемполе, нужно видеть такое, чтобы оценить всю меру нелепости.
– Тоже нет. Я ничего не пью.
– Сожалею, вы мне очень симпатичны.
Что предпринять? Молчать, делая вид, будто его не существует, или ответить решительно, давая понять, что плевать я хотела на его идиотское заигрывание.
– Извините, но я живу с родителями, один глаз у меня стеклянный, и сюда я захожу не часто. А теперь пропустите меня, пожалуйста.
Морда молодцеватого воображалы-соблазнителя слегка покраснела. Видно, не любит, когда с ним разговаривают свысока. С ним – столь элегантным в своей светло-бежевой тройке с гарантией на годовую неизнашиваемость. Я толкаю его, чтобы пройти. Быстро пересекаю зал и почти бегу по коридору, ведущему к лестнице.
Его рука внезапно вцепляется в перила. Ноги раскорячил, не пускает меня на лестницу. Проворный, гад, и прилипчивый. Заварилась каша.
– Пропустите меня!
– Не позволю издеваться над собой.
– Мне ничего от вас не нужно – только отвяжитесь, и точка.
От гнева меня бросает в жар – лицо краснеет. Это, видно, придает ему уверенности.
– Хорошо, хорошо, козочка, не будем ссориться. Поцелуйчик для козлика. Один поцелуйчик, и делу конец.
– Вы что, человеческого языка не понимаете? Я требую, чтобы вы отстали от меня. Будь у меня такая телячья морда, как у вас, я бы носа на улицу не высунула.
Очко в мою пользу. Ведь он считает себя неотразимым. На мгновение он теряет дар речи. Я ставлю ногу на ступеньку.
– Отодвиньтесь.
– Возьми обратно свои слова.
Тон у него остервенелый. Переход на «ты» означает угрозу. Пожалуй, лучше было бы мне промолчать. Оскорбленный, он еще омерзительнее. Я понимаю, что силы у нас неравные. Во мне нарастает страх перед этой глыбой мяса, воняющей лосьоном после бритья.
– Дерьмо собачье!
Не очень-то изобретательно, но чувствую облегчение.
– Краля, ты меня провоцируешь!
Не знаю, кто из нас кого провоцирует. Его рука – никак не предположила бы в нем такой силищи – сжимает мою руку. Это прикосновение мне отвратительно. Как хотела бы я быть далеко отсюда. Если бы могла, позвала бы своего законного супруга на помощь.
– Извинись, поцелуй, тогда пропущу.
– Никогда я вас не поцелую, мерзавец вы эдакий!
Я не сдамся, хватит с меня этих кобелей, воображающих себя богами, – только и норовят сломить нас. Он стискивает мою руку так, что сна белеет; скотина, он причиняет мне боль.
– Прекратите, или я закричу!
Не люблю я подобных аргументов, но силы мои иссякают. Дрожь охватывает тело, мысли путаются. Другой рукой он зажимает мне рот.
Я борюсь.
Он обезумел. На помощь! Он задушит меня. Здесь, у подножья лестницы. Я ведь даже и не знаю, кто он, этот тип. Его потная рука мешает мне вздохнуть.
– Шлюха! Шлюха! Поцелуешь меня наконец, а? Поцелуешь?
Я лягаюсь направо, налево, но вроде бы не попадаю в него. Глаза его горят ненавистью. Не человек, а черт. Но я ведь не верю в чертовщину. Начинаю задыхаться. Отчаяние и бешенство вызывают тошноту. Он продолжает брызгать на меня слюной. Сейчас меня вырвет на его представительный костюм.
– Ты меня поцелуешь! Поцелуешь! – машинально твердит он пронзительным голосом. Глаза его становятся невидящими. Это дикий зверь. Я гибну. Ужасно, мой несчастный сын осиротеет. Уже вижу себя валяющейся на ступеньках, в луже свежепролитой крови. Зачем только я оказалась здесь? Я рыдаю.
Шаги. Слышу шаги.
Бред это или реальность?
Внезапно его руки разжимаются.
– Я тебя отыщу, дешевка!
Он скрылся. В конце коридора появляется парочка влюбленных. Они спасли меня, сами того не зная. Даже не отдышавшись, я кидаюсь на лестницу. Скорее в мою комнату! Ключ дрожит в пальцах. Замочная скважина исчезла. Нет. Вот она. Вхожу. Захлопываю за собой дверь и дважды поворачиваю ключ. Меня бьет озноб. Я твержу: «Какая несправедливость! Несправедливость…»
Не могу определить, чего во мне больше – страха или гнева. Мерзавец! Что они воображают о себе, эти скоты? Все они омерзительны мне со своими порочными ухватками, глупостью, злобой. Их выводит из себя, что без них можно обойтись. Я их ненавижу. Всех. Все они одинаковы. Они недостойны даже страха, который внушают.
Выпиваю полный стакан холодной воды. Это меня успокаивает. Нет, не так-то легко меня заполучить. Этот мерзкий боров не испортит мне всю поездку. Какая мерзость, как несправедливо! Необходимо забыть. Эти наскоки самцов – верх нахальства. Мне стыдно за мужчин. Подумать только, что они, как и я, принадлежат к роду человеческому. Их скотство оскорбляет меня. Надо во что бы то ни стало выбросить все это из головы. Не заполучат они меня – слишком уж печально бы это было.
Стараюсь снять напряжение, расслабиться. Хочу жить. Я. Моя жизнь. Мой побег. Мои удовольствия. Для меня одной.
Приму хорошую, очень горячую ванну.
Еще не открыв краны, щедро лью темно-синюю жидкость, потом пускаю воду, и в пару возникает, словно японские цветы, густая разноцветная пена.
Глава третья
Лиловые мыльные пузырьки заполняют все пространство огромной ванны розового мрамора, над которой, разглядывая их, склонилась Мэрилин. В ее ванной комнате множество флаконов из хрусталя и опалина. Тонкие ароматы различных эссенций смешиваются в невообразимо сладостный букет. Скрытый свет рассеивает тени. Тепло. Все – сплошное великолепие. Мэрилин выпрямляется, халатик из белого шелка соскальзывает с ее атласного тела. Не вполне понимая, где она – то ли у себя дома, то ли играет в десятый раз эпизод из фильма, – Мэрилин на всякий случай улыбается и, не глядя на свои ноги, погружает их в теплую влагу.
Мэрилин вытягивается в ванне розового мрамора. Одно лишь лицо остается на поверхности голливудской мыльной пены. Она разгримировалась, волосы спрятаны в тюрбан.
Тело со всеми его изъянами принадлежит сейчас одной ей, нет ни прожекторов, ни съемочных аппаратов, тело растворяется в воде, она перестает ощущать его. Мэрилин закрывает глаза, она уже не улыбается. Она впадает в забытье. Чувствует лишь воду, которая ее защищает, проникая в мельчайшие поры ее плоти. Она примиряется со своим, спрятанным сейчас, поруганным, продажным телом. Ей хорошо известны все ее слабые места и недостатки. Она раздвигает ноги и поеживается от еле ощутимой водной ласки. Горячая вода течет безостановочно, поддерживая приятную температуру. Так можно лежать часами.
Мэрилин вспенивающаяся. Мэрилин чувственная. Мэрилин пупырчатая, изнемогающая, беспечная. Мэрилин тающая, самоуничтожающаяся, Мэрилин наслаждающаяся.
Мэрилин не намыливается. Не трет себя жесткой рукавичкой. Она принимает ванну не ради чистоты. Эта ванна-роскошь, ради удовольствия. Ванна розового мрамора, наполненная лиловой пеной, – для забвения неприятностей и усталости. Пусть вся ложь утонет в душистой воде. Это место – для уединения, чтобы взгрустнуть, если захочется.
Мэрилин пукает в воду и смотрит, как вышедший из нее воздух шариком поднимается на поверхность и весело лопается в этой гаремной атмосфере. Мэрилин хохочет. Во время ближайшего интервью она им выдаст:
«Дорогая, великая Мэрилин, что вы любите больше всего в жизни? Мужчин? Кино?»
«Ни то, ни другое, мой милый: я обожаю пукать в воде».
Она отлично знает, что это невозможно. Скажут: Мэрилин в полной депрессии. Журналисты разнесут повсюду, что великолепная Мэрилин интеллектуально примитивна и живет анальными интересами.
Невозможно сказать и о том, как любит она писать в бидэ, ведь детство провела с уборной во дворе.
Мэрилин высовывает ногу из пены. Легкая дрожь пробегает по щиколотке. Клочочки пены застряли в волосах и образуют белые полосы вдоль полных икр.
У Мэрилин волосатые ноги.
У Мэрилин большие колени.
Мэрилин работает на конвейере.
Мэрилин зовут Маривон.
И у Маривон отвислая грудь.
Это – последствие беременности. Моя грудь все раздувалась, раздувалась, в особенности после родов, когда прилило молоко. Соски стали размером с огурец. Невозможно было отыскать во всем городе подходящий по размеру лифчик. Трудно было справиться с этим изобилием плоти, и я еле поворачивалась на узенькой больничной койке. Я страдала от обилия молока.
Само собой, когда все это опустошилось, грудь повисла до самого живота. Ну и ладно. У меня как-никак красивые уши. Так утверждала моя бабушка. У меня хорошенькие маленькие ушки, совершенно бесполезные и на бирже труда, и на бирже обольщения. Кто заметит красивые уши, кроме бабушки, тщательно выискивающей фамильные черты в тельце девочки. У меня красивые уши, но всем на это плевать.
Отстраняю пену и смотрю на свой живот. Плоский. Будто бы никогда и не был набит до отказа. Как если бы никто еще не обитал в нем. Я ощущаю его покой и пустоту.
Мне нравился мой животище, растягивающий все пояса и делавший меня совсем не похожей на других. В последний день беременности, который я провела на заводе, я чувствовала необыкновенную усталость, но не отдавала себе отчета в том, что со мной происходит. Идя по проходу, я не обратила внимания на гудки Фенвика и наткнулась своим животом на подъемник, который, к счастью, шел медленно. Я подумала: «Видишь, ребеночек, завод причиняет боль».
Сейчас у меня живот твердый, не растянутый. Память о перенесенной боли возникла неожиданно. Мне предстояла благородная задача – родить: неизбежные страдания и никакой славы в награду. Я ничего не поняла. Надо было делать вид, что эти злосчастные муки мне нипочем, но мне хотелось кричать. Роды проходили не гладко. Недоношенный сын и обезумевшее тело совершенно исковеркали меня. Подняв глаза к слепившему плафону, я твердила: «Я хочу уйти, пустите, хочу вон отсюда».
Я раздавлена, растерзана, напугана. Так ли уж необходимо, чтобы нечто во мне было уничтожено во имя рождения моего малыша?
Наконец истекли долгие часы битвы, и я вытолкнула из себя этого палача. Конец мучениям, возвратился покой. Я ощущала огромную радость освобождения. Инстинкт самосохранения или материнский инстинкт? Я обожаю рождение моего ребенка. Никогда уже он не сможет причинить мне столько страданий и такое наслаждение. Никогда не смогу я любить его так, как в тот момент – освобождения. Не рука его, не голова, не крошечный член меня разверзли, а все его невинное тельце, походя, одним движением, пронзило меня любовной судорогой.
А потом мой ребенок – это второе существо, жившее во мне, – удаляется и становится незнакомым мне новорожденным, который пьет, спит и писает. Мне не забыть этого момента прекрасной смертной судороги, оставившего скорбную складку у моего пупка.
Кручусь в воде. Я – гигантский зародыш со сморщенными руками. Барахтаюсь. Чистая.
Руки отмылись наконец от серости, въевшейся в пальцы, несмотря на многократное мытье. Я не переношу грязных рук с забившимся под ногти черным смазочным маслом и пылью, в которой поблескивают частицы меди, свинца и алюминия. Когда руки попадают в поле моего зрения в разгар работы, я испытываю такое отвращение, что не узнаю их, кидаюсь в умывальную. Тру как безумная. От мыла и холодной воды руки скорее краснеют, чем белеют. Но я теперь вся одинаковая. Прежде чем вернуться на свое место, разминаюсь в проходе между машинами. Изображаю из себя посетительницу. Что за странное, черт побери, место: опущенные глаза, снующие руки, лица, расчлененные кабелями и трубками, как на полотнах абстракционистов.
Все так грубо и сложно, что кажется ирреальным. Самих рабочих почти не видно, об их присутствии догадываешься по пряди волос, мелькнувшей среди машин, или по ноге, высовывающейся из-под контейнера, но я-то ведь здешняя. Всех знаю и по именам, и даже по отдельным событиям жизни, как-никак они работают вместе со мной. Я пробираюсь, не заблудившись, сквозь лабиринт машин: ведь я у себя дома, становлюсь на место. Руки мои вновь погружаются в грязищу.
По рукам можно судить о нашей жизни. Во время последней забастовки руки работниц ощущали лишь мягкость шерсти для вязанья. Завод с его шумом и постоянной гонкой стал местом отдыха. Усевшись на ящики и металлические корзины, женщины болтали, как в салоне. В столовке шла игра в карты. По утрам и вечерам все собирались на митинг в широком проходе перед раздевалкой. Я относилась к забастовке так, словно потом все должно измениться.
По железной лестнице я поднимаюсь на площадку, нависающую над проходом. Четырьмя метрами ниже теснится двенадцать, тринадцать, четырнадцать сотен рабочих, в толпе легкое брожение. Огромная синяя река, устремляющаяся к площадке. Мне знакомы всё лица, поднятые к микрофону. Они внимательны, почти торжественны. Митинг вот-вот начнется. Я подхожу к микрофону и смотрю в конец прохода, туда, где черты бастующих уже едва различимы. Я записала свое выступление крупными красными буквами, чтобы не забыть ничего, о чем хочу сказать. Наступает тишина, ждут, когда я начну. Я вступаю: «Товарищи!..» Мой голос, усиленный профсоюзным громкоговорителем, слышит каждый присутствующий. Ноги у меня дрожат. Я перевожу дух и уверенно начинаю говорить, забыв о приготовленной бумажке: «Все мы, мужчины и женщины, молодые и старые, объединены борьбой…» Меня слушают, а я боюсь отмочить глупость. «…Ни одна деталь не должна выйти с завода… Необходимо организовать пикеты из бастующих…» По толпе волнами проходит шепот. Я заканчиваю, повысив голос: «…Сила – на нашей стороне… Мы докажем это… Победа за нами!» Тысячи рук, вынутых из карманов, аплодируют мне. Мои подружки мне подмигивают. Возникает вера, что все может измениться.
Но, выторговав несколько су, возвращаются к той же рутине и немыслимым темпам; все пошло прахом: и забастовка, и несбыточные надежды.
Обыденная рутина оскорбляет больше прежнего. Пальцы у меня все изрезаны металлом. Стоит мне слово сказать товарке, как шеф уже смотрит на часы.
По-прежнему встаю рано, нарочно в темноте, чтобы от сонного отупения ни на что не реагировать. Каждое утро я на грани опоздания, а иногда не удерживаюсь и, как пройдет урочное время, расслабляюсь. Опоздание ради опоздания, просто чтобы не торопиться. Когда наконец, притворно опечаленная, я появляюсь, меня спрашивают: «Ну что, Маривон, влипла?»
В конце концов голова привыкает сама отсчитывать часы. Глаза открываются как раз перед звоном будильника, даже если ты совсем не выспалась. Ешь всегда в одно и то же время, хочешь ты есть или не хочешь, всегда впопыхах, не чувствуя вкуса пищи. Многие отчаиваются и смиряются: «Надо принимать жизнь такой, как она есть, – ничего ведь не изменишь». Я жажду, чтобы все изменилось!
Во время забастовки я влюбилась в одного улыбчивого рабочего. На демонстрации наши взгляды встретились. Мы приблизились друг к другу, и я взяла его за руку, пальцы наши радостно соединились. Мы тайком целовались в густой поющей толпе, которая толкала нас то туда, то сюда. Поток бастующих скоро разъединил нас. Подружка мне сказала: «Не красней, Маривон, в конце концов, может, это был твой муж!»
Хочется, чтобы мужчины перестали отсчитывать минуты на любовь, чтобы на молчаливых снизошло красноречие. И все пили бы по своей жажде из источника наслаждений.
Я брежу. Становлюсь туманной.
Отяжелела от теплой воды. Чувствую, как всю сковало. Нет сил шевельнуться. Загулявшая работница залезла в гостинице в ванну и умерла от бездействия. «Этого следовало ожидать, у нее не было привычки, встряска оказалась слишком сильной». Я могла бы тихонечко уснуть тут навсегда, утонуть без страданий. Но вода остывает.
Холод охватил Маривон.
После безоглядного бега по лесу и кустарникам, исцарапавшим ей ноги, Маривон достигла озера. Дорога упиралась в него. Запыхавшись, она остановилась, оглянулась. Мужчина отстал от нее. Но скоро она опять услышала его шаги, под которыми хрустели сухие ветки, устилавшие землю. Не раздумывая, она бросилась в воду. Поплыла, злобно ударяя изо всех сил по воде. Одежда, прилипшая к телу, затрудняла ее движения. Вторично обернувшись, она заметила, что мужчина, подошедший к берегу озера, постоял, постоял и пошел прочь. Он отстал от нее. На этот раз спасена. Последние метры до берега – настоящая крестная мука. Силы у нее иссякли, и ей потребовалось напрячь всю свою волю к жизни, чтобы не утонуть. С большим трудом, измученная, выбралась она на берег, цепляясь за камыши, и безжизненно растянулась на траве, надолго уткнув лицо в сырую землю. Потом ее начала бить дрожь, окоченевшие руки и ноги тряслись, она с трудом поднялась, перешагнула через край ванны, схватила махровое полотенце, висевшее слева, и изо всех сил растерлась, чтобы согреться.
Простыни из грубоватого белого полотна – кожей ощущаешь их жесткость – наводят на мысль о довоенном девичьем приданом. Но совершенно немыслимо представить себе мою сегодняшнюю хозяйку невинной девушкой.
Укладываюсь по диагонали. Все сто сорок сантиметров – для одной меня. Это пространство мною завоевано – могу вытянуться, вертеться, крутиться, упереть ноги в стену и оставить свет на всю ночь, если боюсь темноты. Никто не прервет моих снов. Мне не придется заниматься любовью, не испытывая желания. Не нужно будет притворяться, испуская крики страсти и стоны наслаждения.
Поначалу я не была столь холодна. Я беспрестанно стремилась к близости с ним, казалось, ничто не способно насытить мое жаждавшее все новых ласк тело.
Впервые я его заметила на конвейере, он был в синем рабочем комбинезоне, склонился с инструментами над каким-то механизмом и сосредоточенно завинчивал болт. Но, когда он повернулся ко мне, выражение лица у него тотчас же изменилось. «Люблю тебя», – ответила я ему взглядом, покраснев до корней волос. Нежности непозволительны на заводе. Мы ждали пяти часов, сгорая от жажды сойтись и забыться. А когда наконец обнялись, то с такой силой, что едва не задохнулись.
После целого дня среди грохота металла мы с наслаждением перешептывались. Наши отяжелевшие, затвердевшие от инструментов руки стремились в ласке обрести мягкость и белизну. Мы были словно дети, выскочившие из школы и бросающиеся в объятия своих матерей. Физическое наслаждение было всего лишь незначительным выражением нашего единения. Мы рассказывали друг другу о том, что пережили до встречи, и нам казалось – все вело к ней. Ожидание было долгим, но мы нашли друг друга и находили вновь и вновь, нам необходимо было наверстать потерянное время и начать наконец жить. Любовь. Всегда. Вечная. Мы злоупотребляли наивным любовным словарем, сожалея, что не мы его изобрели. В наших чувствах не было ничего общего с теми, обычными, которые испытывали другие люди. Мы не походили на них, одни мы умеем любить. Наше безусловно предначертанное сближение переполняло нас гордостью.
Я не могла насмотреться на него, моего красавца, а от звука его голоса теряла рассудок. Прикасаясь к нему, я ощущала жар, который тотчас передавался мне. Мы совершим чудеса. Все должно соответствовать нашей великой любви. Для первого завтрака я накупила две дюжины рогаликов, заранее обрекая их плесневеть в буфете.
Мы без конца предавались любви, в наших венах тогда еще было больше крови, чем металлических опилок.
Но ад каждую ночь отвоевывал себе все больший простор.
Наши тела, разъединяясь в половине седьмого утра, вечерами уже не исходили нежностью. Я говорила себе, что последую за ним куда угодно, а он никуда меня не привел.
Я удираю. Отчаливаю от берега. Мой ум играет в прятки с действительностью.
Когда вернусь – я ведь вернусь, – все переменится. Он обнимет меня и скажет: «Люблю тебя», как вначале, и во взгляде его загорится прежнее безумие. Мы наплюем на работу и целый день проговорим, ласкаясь как раньше. Вечерами, после работы, мы будем иногда ходить к морю, столь прекрасному зимой, и он скажет мне: «Я думал о тебе весь день, а теперь, когда мы вместе, я вновь тебя открываю». Я успокоюсь, и мы примемся болтать о чем угодно.
Но ведь у нас нет времени. Мы толчемся друг подле друга, сталкиваемся, не обращая на это внимания.
Я опять унеслась в мечтах. Фантазирую. Мечтаю. Выдумываю прекрасную любовь, которая войдет ко мне в комнату, устланную пушистым ковром, соперничающим роскошью с моими несказанными чувствами. Мой избранник весь в вышивках, кружевах и блестках. Его подведенные глаза с золотистым отсветом улыбаются мне. Я зарываюсь в надушенный мех, и он проникает ко мне, мой котик, шурша своим парчовым халатом. Наши речи, звенящие, как золотые браслеты и драгоценные украшения, сопровождают наши утонченные утехи. Мой прекрасный любовник замирает от наслаждения, подставляя свое холеное тело моим ласкам. Он неподвижен и стыдлив под градом моих поцелуев. Он предоставляет мне постепенно овладевать его телом и лишь слегка постанывает от моих прикосновений. Это я веду игру. Он долго наслаждается не шевелясь. Наконец, точным ударом острия сверкающего серебряного кинжала я пронзаю ему грудь и достигаю сердца. Лицо его лишь слегка дрогнуло. Теперь он навсегда мой. Красное пятно расползается по шелку рубашки, как раз вокруг проткнувшего сердце кинжала. Эта любовь останется со мной вечно. В самом деле. Любовь во имя любви. Не такая, которую оплачивают своим темпераментом в рассрочку на тридцать лет.
Увы, это не совсем мой жанр, мой век, моя история. Наши нравы, как и одежда, классические, чуть «спортивные» и весьма рабочие. Кроме ушей, во мне нет ничего рокового, и мой муж, слава богу, чувствует себя отлично.
Принимаю пилюлю. Хватит с меня и того, что один раз попалась. Всегда таскаю с собой коробочку. Это единственный мой багаж, который всегда при мне. Я не люблю промашек, не доведенного до конца акта, всяких там уловок, которые обесцвечивают сокровенность желания.
Что он делает сейчас? Лег ли, как я? Удивлен ли своим одиночеством? Или счастлив, что сможет свободно растянуться в супружеской постели?
Еще очень рано. Он будет смотреть телик до конца программы, чтобы зря не тревожиться. Потом поставит пластинку и, куря сигарету за сигаретой, попробует сосредоточиться на чтении.
Грязная посуда на кухне, оставшаяся после его еды, будет дожидаться моего возвращения. Какое-то время он неподвижен, глаза устремлены в пространство. Потом он перечитает страницы, которые только что прочел, не замечая, что это уже в третий раз. Ему осточертела эта мура. Он швыряет книгу и решает лечь спать. Придет, когда придет, – стоит ли из-за нее сходить с ума. Надо выспаться. Прежде чем пойти в комнату, он проверяет, хватит ли кофе на завтрак.
Подойдя к кровати, он вновь поражается моему отсутствию. Ему хотелось бы думать, что я попросту улеглась раньше него, как это часто случалось. Но я не сплю там, укутавшись в одеяло. Испытание продолжается. Он будет спать в одиночестве и проснется один. Он думает: если она вернется, пока я досчитаю до десяти, я прижму ее к себе и не скажу ни слова упрека. Объяснимся в другой раз. Он медленно считает – девять, десять. Никого. Такова жизнь с ее взлетами и падениями. К чему быть идеалистом? Он ложится и все-таки засыпает. Но сутки-то ведь еще не закончились.
Я замужем – к чему стараться понравиться? И все же иногда я пробую под предлогом утвержденных календарем праздников.
Для встречи Нового года в товарищеском кругу я навожу на себя красоту. Мне хочется привлекать взгляды. Мне хочется соблазнять и стать совсем другой… Надо, чтобы волосы мои блестели в отсветах горящих поленьев. Мое тело, движения стали бы гибкими, а голос мягким, как будто бы не было страданий, ударов судьбы, бега времени. Я хочу, чтобы мои подведенные глаза зачаровывали в пламени свечей. Чтобы мое лицо, которое он знает наизусть, показалось бы ему новым, нецелованным. Я ведь тоже могла бы волновать, вызывать желание, быть женщиной мечты, если б только захотела и если б он любил меня. Пускай для привлекательности требуются румяна – это ведь не маска, это лишь выявление самой себя. Мы будем предаваться любви не по привычке. Ты забудешь, что мои руки преждевременно сморщились и заскорузли, а с твоих пальцев исчезнут мозоли и царапины. Я стану той женщиной, которая тебе понравится, которую мне нравится для тебя выдумывать.
Если ты отвергнешь иллюзию, будешь любить меня по-прежнему, обыденно, – я проиграла. Магия переродится в смешное кривлянье. Винные пары и табак и без меня усладят тебя предостаточно. Моя мечта разбивается о твой тяжелый сон. Ты не хочешь познать меня. И остается всего лишь неказистость серенького утра и смятое красивое платье на полу.
Если это так, то он даже и не заметит моего отъезда.
Пойдет на угол за хлебом и вернется через два часа. Все готово, он молча ест и смотрит телик. У меня болит живот, я хочу лечь. Но не засыпаю, пока он не ляжет. А когда он рядом, я боюсь к нему прикоснуться – не хочу вызывать у него желание. Не хочу его привычных ласк, торопливых и молчаливых. Я глупо шепчу: «Не шевелись, я сплю, не шевелись, ты стаскиваешь с меня одеяло, не шевелись». Его рука замирает, обняв меня за талию, и он уже спит, как его сын, держа своего медвежонка.
Завтра снова вставать чуть свет, хоть ты и разморена жарой и недосыпом. Дрожа, подниматься по звону будильника. Отрешиться от себя и со смертью в душе отдаться заводу.
Все это вертится у меня в голове, и я не могу уснуть, хотя вконец измочалена. Я тщетно отыскиваю положение тела, наиболее удобное для сна. Все причиняет боль. Мне не хватает простора, воздуха, начинается мигрень, от которой, кажется, лопнет голова. Мне хотелось бы стонать, рыдать, кричать, но я не смею. Я поднимаюсь и ощупью, чтобы не разбудить мужа, глотаю две таблетки аспирина или снотворного. Мне снится, что я сплю. Тело мое обессилело, отяжелевшие руки и ноги тянут меня в пустоту, и я качусь в пропасть. Я скольжу. Падаю, неспособная противиться раздавившей меня силе. Я раздета и стыжусь своей грубой наготы. До чего же я устала! Но надо держаться – со мной говорят, на меня смотрят, обо мне судачат. Я отчаянно стараюсь сохранить человеческое достоинство, но ощущаю себя более жалкой, чем кровоточащая требуха на витрине мясника. Я растекаюсь. Капля за каплей. Лишившись воли, я уже не в состоянии держать глаза открытыми. Все – начальник цеха, секретарь профсоюза, товарищи по работе, муж, сын – смотрят на меня с отвращением. Я струсила. Я – всего-навсего грязное вонючее пятно, растекающееся по полу. Об меня спотыкаются, ругаясь. Все продолжают дергаться среди адского шума, крутятся карусели, калейдоскопы. Со мною кончено. На меня все показывают пальцами. А я не двигаюсь. Не могу больше бороться. Слишком хочу спать. Засыпаю.
Утром у меня скверный вкус во рту, опухшие глаза, туман в голове и вялые движения. Я пью кофе, чтобы взбодриться, а к вечеру так взвинчена, что не могу уснуть.
Сволочная жизнь!
Хуже всего то, что, даже если бы я и знала на пороге юности, что меня ожидает, я все равно не могла бы ничего изменить. Я думала, что хочу ее – эту жизнь. Трудиться во имя хлеба насущного, иметь дома мужа и детей во имя любви, приобрести машину и какую-нибудь мебель во имя благополучия или того, что им называется. «Не грызи ногти, – говорил отец, – а то мужа не сыщешь». Я-то сыскала. Может, лучше было бы сгрызть все ногти и стать нищенкой.
Выше головы не прыгнешь! Счастье – не домашнее животное… Ну и что?
Тебе, Маривон, еще повезло, тебя жареный петух в задницу не клевал. Возьмем Виктуар – овдовела в двадцать пять лет. А Арлетт, у которой убили сына? Моя удача меня не утешает, драмы других тяжки мне. Они вливаются в мое собственное несчастье.
В раздевалке, между дверями металлических шкафчиков, показывается лицо Арлетт.
Она бледная, растрепанная, нос вытянут, губы поджаты, словно она сдерживает рыдания или не хочет ничьих соболезнований. Потухшие глаза ничего не видят. Они устремлены в небытие.
Мне непереносимо ее горе. Я убита им. Не знаю, что сказать. Я ведь бессильна. «Здравствуй, Арлетт», – и успеваю задержать едва не вырвавшееся, неуместное: «Как дела?» Проскальзываю в цех.
Она пропустила всего десять рабочих дней. Двигается как сомнамбула. Делает над собой усилие, чтобы прислушаться к разговорам, но, думается, плотный кокон отчаяния, окутавший ее, ничего сквозь себя не пропускает. Ничто не имеет для нее значения. Она видела смерть своего ребенка.
Десять дней тому назад она еще носила веселый сине-желто-розовый полосатый пуловер – «чтобы поторопить весну». Она была хохотунья, любила насмешничать. Она мне пересказывала смешные словечки своего младшего сынишки. Я ее очень люблю. Теперь, когда мы работаем на разных концах конвейера, встречаемся редко. Только в раздевалке. Но мы остались подругами с тех самых первых месяцев на заводе, когда стояли рядом у конвейера. Во время прошлогодней забастовки мы радостно вновь обрели друг друга. Когда требовалось врезать какому-нибудь инженеру, глаза у нее так и искрились лукавством.
Говорю о ней как о покойнице. А она выжила, но ее хохот уже не раздается в цехе. Она ни вдова, ни сирота, но и то и другое вместе. Нет слов, чтобы описать чувство безвозвратности потери ребенка, произведенного тобой на свет.