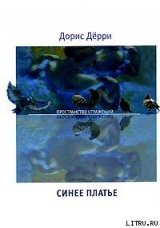
Текст книги "Синее платье"
Автор книги: Дорис Дёрри
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
– А почему вы решили вот там нарисовать вишни? – любопытствует она.
Девушка гордо поворачивается к ней:
– На моей коже очень хорошо получаются цветные картинки. Кожа-то вон какая! – произносит она, даже, собственно, и не отвечая на заданный вопрос.
– Ах, ну конечно. – Бабетта кажется себе старой и глупой.
– Ой, я, кажется, нечаянно стерла ваш e-mail, – признается девушка. – Это очень страшно?
– Нет, – откликается Бабетта, – пожалуй, даже наоборот. Это было прощальное письмо.
– Прощальные письма лучше отсылать на другой день, а не сразу, – советует опытная барышня. – Ведь назавтра все может измениться.
– Убедили, – соглашается Бабетта.
– Вот именно. – Девушка чешет одну из вишен на своей икре. – Я вот однажды собралась самоубийство совершить. Написала прощальные письма родителям, другу, пошла в последний раз в туалет, поскользнулась на лестнице и лодыжку сломала.
– А как вы собирались себя убить? – интересуется Бабетта.
– Воздух в вену впрыснуть, – непринужденно отвечает несостоявшаяся самоубийца, снова поворачиваясь к своему компьютеру. – Простите, но здесь минута стоит один евро, а я любимому письмо пишу.
– О, извините, – отзывается Бабетта. Ей бы хотелось спросить: «Воздух в вену – и что, действует? Больно? И сколько ждать?»
Хотя ты мне и не отвечаешь, я все равно тебе пишу. Надеюсь услышать эхо, ну, а если его нет, что же я могу поделать. Наверное, я пишу тебе, просто чтобы вспомнить, что со мной происходило, иначе все новые впечатления и эмоции канут в Лету, как камушки в воду.
Рыночная площадь в Тлаколуле. Рано утром мы уже ждем в длинной очереди collectivo, маршрутного такси. Мексиканцы ждут стоически, неподвижно, а я нетерпеливо расхаживаю туда-сюда, негодуя. С чего это я взяла, что лишь активно проведенное время имеет смысл?
Чем дольше я жду, тем больше донимает меня мое проклятущее нетерпение. Рядом со мной неподвижно выстроились низкорослые женщины: волосы убраны в длинные черные косы, а в них, как у лошадей на турнире, вплетены блестящие ленты. Все эти женщины в мексиканских национальных костюмах – блузка, рукава фонариком, юбка и сверху фартук с пестрой вышивкой. Подальше стоит мой сосед по отелю, древний старик, босой, в ковбойской шляпе, лицо покрыто глубокими морщинами, два последних зуба оправлены в серебро. Он улыбается мне по-дружески и немного изумленно. Я отвечаю ему улыбкой. Чудно, наверное, этим людям на меня смотреть. Что нужно здесь этой чужестранке? – думают они. Что она тут толчется? Зачем все время высматривает такси на улице? О чем все время бормочет своему спутнику? Что случилось с этими странными людьми, почему они так нервничают?
На другой стороне улицы я вижу молодого американца, у которого на майке написано: «Пока ты не бегаешь, ты никому не интересен». Я бы купила у него эту футболку и подарила тебе…
Золотистые бархатцы называются на языке индейцев-сапотеков cempasuchil. Это важнейший цветок в день мертвых – с одной стороны, символизирует чью-нибудь душу, с другой – солнце. Мило, правда? Лепестками бархатцев посыпают путь от кладбища в дом родственников, чтобы умерший мог найти дорогу домой, а потом вернуться на кладбище. Потому что если покойник заблудится и не найдет снова своей могилки, он будет весь год донимать родных. Может быть, имеются в виду опять-таки воспоминания?
Наконец-то такси! Больше пяти человек в одну машину не влезает. Я вместе с весьма внушительных размеров парочкой втискиваюсь на заднее сиденье, Флориан садится вперед, рядом с водителем и стариком в ковбойской шляпе. Под оглушительный аккомпанемент музыки диско автомобиль несется по узкой деревенской улице, и только «лежачие полицейские» заставляют водителя несколько снизить бешеный темп. Я боюсь погибнуть в какой-нибудь идиотской автокатастрофе в Мексике, только этого еще не хватало. А ведь все может случиться, мало ли глупых, нелепых случаев происходит в жизни, и как их избежать? Я с ума сойду, если буду об этом думать! Почему, спрашивается, я до сих пор не научилась использовать свое время с толком, если так сильно боюсь смерти и постоянно жду ее? Почему я все по-прежнему живу одним днем и как будто наугад, на ощупь? Но мне невыносима мысль, что нужно наслаждаться каждым днем как последним, любить жизнь, постоянно взвешивать и решать, что важно, а что второстепенно, всегда держать в голове, что век наш на земле краток, что отпущено нам всего ничего. Ужасно! Разве так можно жить? Как ты только это выносишь? Ты же сталкиваешься с этим каждый день! Вот живет человек и думает, что он бессмертен, и вдруг – раз! – он у тебя на операционном столе, под наркозом. Потом наркоз плавно перетекает в вечный сон. А может, и разницы-то никакой нет между ними, кто знает?
Супружеская пара, мои соседи, в своей массивной неподвижности плотно прилипли к сиденью, а меня швыряет на поворотах из стороны в сторону. Но когда я обращаюсь к ним, они одаривают меня душевной теплотой. Это люди без предрассудков, открытые, искренние, ничего не боятся и не чураются.
Они проводят нас по рыночной площади Тлаколулы. Это огромный лабиринт, откуда можно выбираться часами, да так и не выбраться – вот бы тебе сюда…
Мы протискиваемся между горами арахиса, сладостей, бананов, кукурузных початков, какао и chapulinas – жаренной на гриле саранчи. Здесь существует примета: кто съест одну такую жареную саранчу, обязательно вернется в Оахаку. На площади продают мельницы для приготовления кукурузной муки к тортиллас, мачете и индюков, которых торговки носят, как детей, – в платках, завязанных через плечо. Мальчишки чистят ботинки, а клиенты – не намного их старше, почти сверстники, – в это время со скучающим видом листают порнокомиксы. Представляешь, я здесь в одной палатке нашла на полке с медицинскими книгами пару порножурналов. Да, пока ты хранишь искусственный сон своих пациентов, лежащих на операционном столе, и читаешь их взбаламученные мысли и чувства, истории и воспоминания, я повсюду пытаюсь обнаружить намеки на твое прошлое, все вынюхиваю, какой ты, что было в твоей жизни. Интересно, а что происходит с их историями в момент, когда твои приборы показывают одну только прямую белую линию и издают резкий писк? Может быть, душа наша просто выключается тогда, как телевизор? Ты в это веришь?
Позади торговых рядов мы обнаруживаем магазинчик свадебных нарядов. В витрине среди манекенов-невест болтается пластиковый скелет. Тут же в открытом гараже продаются новенькие гробы, выбирай любой. Рядом младенец спит в картонной коробке, а его мамаша продает сахарные черепа. Я купила один из черепов и попросила написать на нем синими сахарными буквами твое имя, только без «h», как здесь принято. Такие мертвые головы из сахара называют calaveras. Их дарят любимым. Теперь и я ношу с собой в сумке подарок для тебя!
От жары Флориан и Бабетта спасаются в величественной церкви Тлаколулы. Оглушенные ее пышностью, присаживаются на обшарпанную скамью. Зеркала в позолоченных рамах отражают босоногих индейцев, которые истово молятся перед огромным, больше человеческого роста, распятием, громко взывая к Господу. В церковь вваливается толпа французских туристов. У каждого на груди – табличка с именем, украшенная черепом. Они прилипают к видеокамерам и обводят объективами все, что видят: молящихся индейцев, старика-инвалида, который с белой гвоздикой в руке тянется к распятию и, дрожа всем телом, проводит цветком по ногам распятого. Этот старик останется на отпускных кассетах туристов, и по всей Франции люди будут наблюдать, как он тянется белым цветком к кровоточащим ранам Христа. Кого-то увиденное тронет, кого-то шокирует, а кто-то останется равнодушным и он будет есть в это время пиццу, воспитывать детей или подавится рыбной костью…
Вдруг Флориан грохает кулаком по церковной скамье. Бабетта сжимается от страха.
– Дерьмо! – орет он надрывно. – Фигня! Дерьмо все это! Молишься, молишься, а кому и когда это помогало? Никому! Никогда! Ни фига не помогает, никогда!
Видеокамеры дружно перебегают на него – молодого привлекательного немца, который решил поднять мятеж в мексиканской церкви. Ну, не совсем мятеж, так, что-то вроде. Право, даже жаль, что только вроде.
– Мы с Альфредом однажды отправились на автобусе, вместе с паломниками из Алльгоя, в Сан Джованни Ротондо. Всю дорогу они пели «Мать Мария, будь нам защитой». Альфред не пел, а я пел, как только мог, пел изо всех сил.
Чего я только ни предпринимал: ходил к колдунам и шаманам, гадал на рунах и картах Таро, медитировал, готов был сделать все что угодно, лишь бы откуда-то оттуда, из космоса, кто-нибудь меня хоть немного утешил. Ничего не помогало, и я от отчаяния стал молиться. Я понятия не имел, как это делать, никогда не учился и не умел – молился вслепую, на ощупь, как придется. Причем даже не знал, кому. Бога я себе представлял очень смутно. Но тогда в автобусе молиться вдруг стал искренне, горячо, надрывно, а Альфред смотрел на меня, как горнолыжники-профи смотрят на новичков. Смотрел с сомнением: вряд ли, мол, этот дилетант когда-нибудь научится по-настоящему дело делать.
Сам он постоянно пребывал в возвышенном диалоге со святой Терезой Коннерсройтской, звал ее Резерль, и именно от нее получил наказ отправиться в Апулию, к месту рождения святого отца Пия, монаха-капуцина, которому приписывают множество чудесных деяний.
– На Пасху у Пия из ладоней текла кровь, как и у Резерль, – рассказывал Альфред, – только немного сильнее. И ему велено было носить в этот день рукавицы, чтобы никто его кровоточащих рук не видел.
Он показывал мне в альбоме, что достался ему от бабушки, в детстве еще, фотографии Терезы. Резерль оказалась полненькой маленькой женщиной, которая, как полагали, питалась только освященными просвирками.
На другом снимке видны были только два белых крестика в темноте, не иначе как ее стигматы светились в темноте.
Мы валялись в кровати, рассматривали фотографии и смеялись до слез. Я обмотал лысую голову Альфреда кухонным полотенцем, нарисовал ему на ладонях фломастером кресты и так сфотографировал. Мы хохотали, как сумасшедшие.
На другой день Альфред сломал зуб и решил, что это кара за издевательства над Терезой. С меня, известного язычника, спросить нечего, так что наказан один только он, Альфред.
Я рассмеялся, он взбесился.
Прежде чем отправляться в паломничество, надо было дождаться конца второго курса химиотерапии. Тогда мы и тронулись в путь, два гомика-паломника. Всю дорогу Альфред сидел, прильнув головой к стеклу и спрятавшись за зеленой занавеской – ему не хотелось, чтобы все пялились на его распухшее, отекшее от гормонов лицо. Дурачок, да ведь у любого из алльгойских крестьян лицо вдвое больше и краснее, чем у него.
Жадно слушал я все истории о том, как святой Пий исцелял больных. Еще одна крошечная капелька надежды. Опухоль между тем росла – я постоянно названивал в лабораторию и узнавал результаты анализов. Сердце у меня замирало в тоске, а на том конце равнодушно шуршали бумагами и безразличный голос лаборантки, как приказ о казни, зачитывал мне данные о лейкоцитах, уровне гемоглобина, росте опухоли. И дела наши с каждым днем становились все хуже.
В автобусе постоянно крутили видео: отец Пий машет из окошка своей кельи огромным платком, белым, как его борода. Иногда он кивал головой, и паломники со слезами на глазах отвечали ему. Одна пожилая дама из деревни близ Мемингена рассказала, как отец Пий диктовал ей номера выигрышных лотерейных билетов, и она даже кое-что выиграла. Другая показала глубокие шрамы на шее: нет, не было никакой операции – святой Пий два раза провел по ее огромному зобу рукой, и базедовой болезни как не бывало.
Надежда. Снова надежда. Надежда в сочетании со страхом – жутчайшее из чувств.
Всю дорогу туда я полагал, что отец Пий еще жив. Я так и видел: Альфред закатывает свою рубашку, святой отец прощупывает ему живот и улыбается, а потом мы возвращаемся домой, и врачи в больнице в изумлении разглядывают снимки компьютерной томографии, на которых нет больше и следа от опухоли. Я видел уже, как ухмыляется Альфред своей неподражаемой нагловатой ухмылкой. Вера должна спасти его, я был в этом убежден.
Если бы святой отец был еще жив, так бы оно и произошло, я точно знаю, но он, как выяснилось, давно уже умер. В бессильном бешенстве любовался я на его уродливую бронзовую статую, увешанную подношениями благодарных больных, которых он исцелил: очки от тех, кто некогда был слеп, детские нагруднички от некогда бесплодных женщин. И это все? Все, я вас спрашиваю?!
Альфред утешал меня, как ребенка, который вдруг узнал, что деда Мороза на самом деле не существует. чтобы развеяться, он предложил по дороге домой завернуть в Венецию.
Смерть в Венеции, подумал я, что может быть пошлее и подлее?
Но Альфреда было уже не отговорить. Ну, и, конечно погода нас ждала мерзкая: дождь лил как из ведра, площадь Святого Марка затопило, наш пансион не отапливался, а ходить по музеям или просто гулять у Альфреда не было сил.
Дни напролет мы просиживали в непристойно дорогих кафе и злились на бесстыжих официантов.
Мы как раз и сидели в кафе, когда Альфред вдруг ткнул меня кулаком в ребра, да так, что я завопил не своим голосом.
– Смотри! – воскликнул он. – Ты только посмотри! – Он взволнованно указывал рукой в сторону собора Святого Марка.
Через затопленную площадь по деревянным настилам торопливо двигалась элегантная брюнетка в томатно-красном платье. В синеватом, бледном свете дня платье горело, как пожар.
– Наше платье, – заорал Альфред, – это наше платье!
Он вскочил, кинулся вон из кафе и помчался вслед за дамой, увлекая меня за собой. Мы бежали за ней до тех пор, пока наконец не оказались у нее за спиной, так близко, что могли различить неровно простроченный шов на юбке – это мы, мы немного схалтурили. Да, наше платье! Оно самое!
Женщина шла, точно зная, куда идет, к определенной цели, не оборачиваясь, пересекала узкие мостики и кривые переулки. Значит – не туристка, местная, венецианка! Наше платье продано за границу! До чего же она была хороша в нем, как прекрасно самоуверенна и элегантна – мы не могли отвести от нее глаз. Вот оно, вот зачем мы шьем наши платья, вот зачем творим – ради такой красоты и стараемся!
Мы шли за женщиной, пока она не исчезла в каком-то желтом доме. Альфред от восхищения, казалось, совсем забыл, что слаб и болен.
– Ты видел, как красный отливает при этом освещении? Разве не потрясающе? Идеальный красный! И синим не отдает, и желтизной не отпугивает. А ты еще хотел меня тогда уговорить на красный бургундский, помнишь?
Он трясся всем телом, и я стал умолять его вернуться в отель.
– Нет, – заупрямился он, – будем ждать.
И мы стали ждать. Холод, дождь, неуютно, промозгло. А у него иммунитет ослаб, не дай бог еще воспаление легких схватит.
– Пошли домой, – умолял я.
Нет, он останется на посту. Желает еще раз увидеть свое творение.
– Да она, может быть, вообще сегодня больше не выйдет. А если выйдет, то наверняка переоденется, – твердил я.
– Да ты что?! – Альфред посмотрел на меня с сожалением. – Она никогда больше не снимет это платье, она в нем звезда. Спорим?
Вскоре открылась дверь, и женщина выскользнула наружу. Мы едва не застонали: на ней было светлое пальто-тренч. Но из-под него все же сверкнул красный цвет. И мы снова пошли за ней, проводили до ресторанчика поблизости, как туристы мы сами никогда бы его не нашли. Там она встретилась с мужчиной. У него были волосы, крашенные под седину, и тяжелый подбородок. Как это ее угораздило встречаться с таким типом?
Мы сели за соседний столик, продолжая любоваться, как материал нежно обволакивает ее грудь и плечи глубоким декольте, как ласкает кожу. Только вот подправить бы немного пару мест – она не очень удачно обернула ткань вокруг тела. Я еле удержал Альфреда.
– Классическая ошибка, – стонал он, – слишком перетянула ткань налево, слишком туго затянула на талии. Платье же так износится мгновенно!
Изношенной ткань не выглядела совершенно, но я не стал отвлекать Альфреда от его мыслей. Пусть радуется, пусть забудет о своей беде хоть ненадолго. Пусть хоть немного посветит этот неожиданный лучик света в нашем с ним мраке. А мы погреемся в нем, все равно он выглянул на считанные часы. Еще чуть-чуть, еще пару минут, еще один только миг, и солнце это снова зайдет за тучи.
Мы напились от счастья, и Альфред даже поел с аппетитом, чего давно уже не случалось, а потом и вовсе не повторялось.
Женщина, похоже, проводила время гораздо менее приятно, чем мы. У нее с тем типом вышел серьезный разговор. Но одета она была потрясающе, а до остального нам дела не было.
Я вспоминаю того японского модельера, который ребенком пережил Хиросиму, и понимаю его решение – окружить себя только красивыми вещами, сосредоточиться только на красоте. Альфреда тогда ничто не могло бы утешить так, как то его красное платье.
Дорогой Томас!
Сегодня начинается самое интересное. Мария соорудила маленький алтарь для своих родителей: на маленьких столиках в семь ярусов цветы, свечки, ладан. Она сварила mole, острый шоколадный соус, говорят, это любимое блюдо мертвых, припасла сигареты и пиво для отца, если он придет. Мы помогали ей усыпать путь от кладбища к дому лепестками бархатцев, чтобы покойники и в самом деле нашли дорогу домой. Мария ни минуты не сомневается, что они придут. Правда, чудесно, когда кто-то во что-то так твердо верит?
Еще при свете дня мы поехали на кладбище Хохо, за пределами Оахаки. Уйму времени промучились в жуткой пробке. Тут не ставят фильтры на выхлопную трубу, так что мы чуть не задохнулись. Я думала, мои легкие взорвутся. Возможно, мы теперь умрем раньше времени только оттого, что побывали здесь.
В Хохо перед старым кладбищем расположились торговые ряды: цветы, «хлеб смерти», сахарные черепа, свечки. Еще все спокойно, народу немного. Семейства украшают могилы своих покойников. На фоне темно-синего неба белеют молочные гладиолусы, горят тигровые лилии, и повсюду вездесущие бархатцы.
Все принарядились. Женщины на каблуках, в коротких юбках. Несут сумки – на могилах будет пикник, «кола» и «спрайт» для детей, «Корона» и мескаль для взрослых. Для стариков ставят складные стульчики прямо рядом с надгробием. В воздухе носится запах тортиллас и ладана.
Мы сидим на скамейке под кладбищенской стеной и наблюдаем за суетой. Перед нами заброшенная сиротливая могилка. Кто это? Мальчик, младенец, Марсело – родился 24 сентября 1984 года и умер в тот же день. Мы бросаем друг другу короткий взгляд, идем и покупаем букет цветов, огромный «хлеб смерти» и замечательный сахарный череп, в который, как в подсвечник, можно поставить свечку.
Мы украшаем могилку Марсело, зажигаем свечи. Красиво горит наша сахарная мертвая голова. Довольные, мы снова садимся на лавку и смотрим на «нашу» могилу, чувствуя себя гораздо более комфортно, чем те несчастные туристы, что толпой слоняются по кладбищу, растерянно глазея по сторонам и стараясь не наступать на надгробия, а это весьма непросто, поскольку никаких дорожек здесь не предусмотрено.
Ах, вздыхаем мы облегченно, до чего же хорошо, что мы сами по себе, а не с этой ошалевшей ордой. Тут приближается семья с цветами и пакетами в руках – родители и маленький ребенок. Они идут прямо к нашей могилке. Господи! Мы испуганно вскакиваем. Ну, конечно: это семья Марсело, его родители! Мы лепечем извинения, но родители удивленно улыбаются и даже благодарят нас за украшенное надгробие. Мы готовы сквозь землю провалиться, но они нас успокаивают: ningun problema, нет проблем. Им пришлось дольше других добираться до кладбища, они далеко живут, но своего Марсело никогда не забудут, хотя он и прожил всего один день – «родился до срока на рыночной площади и был слишком слаб, чтобы выжить», – рассказывает мать. Теперь у нее уже четверо детей. «Вот, – она кивает на мальчика, – этот – наш младшенький».
Малыш залезает на одно из надгробий и прыгает ко мне на руки. Он карабкается по мне, хватается ручонками, как обезьянка. Родители смеются и любуются на нашу сахарную голову-череп со свечкой, прикидывая, куда им теперь девать свои цветы, ведь могилка уже вся покрыта нашими.
Все еще пунцовые, по-прежнему бормоча извинения, мы отправляемся восвояси. Я представила себе, как прихожу в Германии в День поминовения на могилу Фрица, а там компания японцев или тех же мексиканцев решила украсить надгробие, потому что оно показалось им заброшенным…
Смеешься, наверное, надо мной, да? Головой качаешь? Считаешь меня дурочкой? Знаешь, мне было бы даже приятно, если бы ты считал меня немного дурочкой. И смеялся надо мной. Я старалась, как могла, казаться умной – это, видимо, и была моя самая большая ошибка. Так я думаю теперь, здесь в Мексике, сидя в интернет-кафе. Комары безбожно впиваются мне в ноги, и я размышляю: почесать зудящую икру или продолжить свои серьезные размышления?




