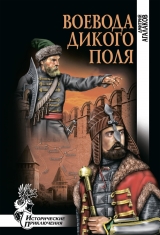
Текст книги "Воевода Дикого поля"
Автор книги: Дмитрий Агалаков
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ступайте же! – взмолился Старицкий.
На том Воротынский и Висковатый и удалились.
Княгиня Ефросиния покорилась только после третьего требования внести в крестоцеловальную книгу свое имя. Как бы ей хотелось покориться другому государю – сыну своему! Тому присягнуть, кто и впрямь заслужил трона царского, – Владимиру. Как позже записал летописец: «Согласилась княгиня, но много бранных при том речей говорила…»
К вечеру того дня, получив известие о решении матери, сдался и Владимир Старицкий. Когда давал он у постели царя клятву быть верным младенцу Дмитрию, Данила Романович шептал на ухо Никите Романовичу:
– Знай матушка государя нашего, змея стоокая Елена Глинская, что будет твориться у смертного одра сына ее старшего, наверняка тогда бы еще, пятнадцать лет назад, приказала бы удавить всех княжат удельных. И Владимира – первого!
Никита тихонько засмеялся – они выходили победителями, Захарьины-Юрьевы. Коли поцеловал крест Владимир Старицкий, значит, битва выиграна. После смерти царя они станут хозяйничать в Москве, никто им будет не указ. В бараний рог недовольных скрутят! Старший Данила, усмехаясь, глядел, как был бледен мальчишка-Владимир, когда целовал поднесенный ему самим митрополитом Макарием крест. Данила аж руки потирал от удовольствия. Перво-наперво, что он сделает – Ближнюю думу разгонит! В пух и прах разметает, и следа чтоб не осталось.
За Владимиром Старицким один за другим стали целовать крест и те, кто поначалу не желал признавать Дмитрия наследником и готов был бунтовать… Да тут еще и царю полегчало. Попросил воды. Дмитрия Ивановича Курлятева на носилках да под шубами принесли целовать крест Дмитрию – до последнего ждал вельможный боярин, но понял: как бы поздно не оказалось! Проиграли они это дело, ох, проиграли…
А спустя несколько дней о младенце Дмитрии, невольном яблоке раздора, уже и позабыли: к общему удивлению, царь стал поправляться.
И впрямь – чудо.
Уже через неделю Иоанн попросил дать ему бульону куриного, кваску, а затем и легенького винца. Анастасия плакала от счастья, братья ее недоумевали, радуясь в душе, что при «умирающем» находились бессменно. Да и как же иначе: ждали всё, когда же закроются наконец царские очи.
Макарий возносил молитвы Господу. Отлегло и у Сильвестра от сердца. Кто-то пустил слух, что молодой царь только прикинулся больным, чтобы испытать слуг своих на верность. Да не все прошли ту проверку, ой, не все!
А когда совсем получше стало Иоанну Васильевичу, Данила и Никита все ему рассказали: в самых ярких красках расписали они и упрямство Владимира Старицкого, и его матери, и прочих бояр и князей.
– Умысел был у них, злой умысел, – шептал на ухо еще бледному царю, лежавшему в подушках, Данила Захарьин-Юрьев. – Корень твой царский истребить мечтали – Дмитричку нашего извести думали, а князя Владимира Старицкого усадить на престол московский!..
Слушая его, Иоанн закрывал глаза и, сжимая под одеялом слабые еще кулаки, лишь повторял про себя: «Змеи, змеи, змеи!..»
Летописец так и напишет в Царственной книге о событиях, последовавших сразу после выздоровления Иоанна Васильевича: «И с тех пор пошла вражда великая государя с князем Владимиром Андреевичем, а в боярах смута и мятеж, а царству во всем скудость…»
Из болезни, из темных вод ее, Иоанн вышел другим человеком. И без того был он недоверчив и подозрителен, а теперь и вовсе все обострилось – да в сотни раз! В каждом отныне видел он недруга своего! Даже в том, кого милостью раньше одаривал. Да и как иначе, если сам Сильвестр, духовник его, сочувствовал изменникам?! Донесли ему, и как Дмитрий Курлятев сказался больным, чтобы не присягать (воистину потеха – на носилках в Кремль прибыл!), как Шуйские встали стеной против царевича Дмитрия, как думали все, что Владимир Старицкий мятеж поднимет… Не поднял, образумился, и то пока ладно.
Но в ком Иоанн не усомнился, так это в Алексее Адашеве, друге своем сердечном. Отец того, окольничий Федор Григорьевич, оговорки, правда, искал, артачился, а сын вот и отца не послушал! Значит, царь ему – роднее и ближе.
Встав на ноги, царь перво-наперво сделал Алексея Адашева своим окольничим, а отца его, Федора, проявив великодушие, званием боярским наградил. Такого от него никто не ожидал. И хорошо: пусть и гнев, и милость государя будут нежданны для всех и негаданны. Тем слаще станут для друзей и горше – для врагов.
А вот Сильвестра Иоанн отдалил от себя – так и не простил ему предательства своего сына. Более протопоп Благовещенского собора духовником и наставником ему не был.
Но на Владимира Старицкого Иоанн зла держать не хотел. По крайней мере вид такой напустил. К тому же в июне того же злосчастного 1553 года, во время поездки на богомолье, младенца Дмитрия, из-за которого весь переполох случился, нянька уронила в воду, и тот вскоре умер. А в апреле следующего года у Иоанна и Анастасии родился второй сын – Иван. На этот раз Владимир Старицкий первым поставил свое имя в крестоцеловальной книге новому наследнику. В благодарность за это Иоанн сделал своего двоюродного брата, в случае смерти царя, «правителем при малолетнем наследнике». К тому времени Иоанн убедился, что ждать удара в спину от князя Старицкого ему никакого резона нет. Главное, чтоб бояре-злодеи брата не баламутили, с панталыку не сбивали.
Один из них, князь Никита Семенович Лобанов-Ростовский, чей отец более других за Старицких радел, бежал в то лето в Литву, но был пойман и отправлен в ссылку – на Белоозеро.
Иоанн Васильевич понял, что лагерь боярский, войной на него идти желавший, лишь поутих, затаился на время, но, как и прежде, был жив и здравствовал. Однако решил обойтись до поры без казней: не злить врагов, чтоб не страшиться потом каждой трапезы.
Тем более что не время было колоть царство надвое (а то и на большее число частей) из-за раздираемых противоречиями сторон. Русь наводнили ереси: одни учили властям не подчиняться, утверждая, что люди все равны от природы; другие обвиняли церковь, что она, дескать, золото и алмазы все больше на земле собирает, а не на небе, как Христом заповедано; третьи церковную иерархию и вовсе отрицали напрочь; четвертые, как прежде в Византии, с иконами боролись… Мудрствованиий всяких-разных много было, словом. Проповедников тех приходилось отлавливать, наказывать и сажать по тюрьмам. А кому и пятки поджаривать.
А тут еще крымцы никак не могли простить русскому царю Казани. Да и турецкий султанат, тенью стоявший за спиной Девлет-Гирея, провозглашенного в 1551 году крымским ханом, исподволь науськивал последнего к походу на обнаглевших московитов.
Но московиты опередили и Порту, и Крым. Недаром Алексей Адашев и Андрей Курбский то и дело царю на соседей-басурман указывали. Но на этот раз уже не на восток, а на юг.
Русские и раньше туда поглядывали – на Астрахань и ногаев, а после победы над Казанью сам Бог велел, как говорится. Эти две орды, раздираемые на части враждующими группировками, были куда слабее Казанской! Да часть ногаев и сама искала дружбы с Иоанном. Что же до Астрахани, то хан Ямгурчей еще в 1551 году намеревался стать московским подданным, и только страх перед турецким султанатом помешал ему это сделать. В 1553-м Иоанн посадил на астраханский трон своего ставленника Дербыш-Али, однако и неутомимый враг Ямгурчей желал занять ханский трон. Эти распри были бы Москве на руку, окажись ханство сильным, а так брожения на Нижней Волге выводили русского царя из себя, и он лишь прикидывал, кого бы из двух нехристей ему выбрать. В 1555 году, дабы сохранить жизнь, славу и честь, Дербыш-Али сам прибыл в Москву и «государю в холопстве учинился».
Иоанн принял его благосклонно, второй титул «царя» – теперь уже Астраханского – принял как должный подарок, а Дербыша-Али сделал своим наместником. Поглядев на Казань и Астрахань, враждовавшие между собой мурзы Ногайской орды стали уже наперегонки искать дружбы русского царя, не помышляя более ни о вражде, ни о каком другом прекословии Москве.
Вся широченная Волга, великая река – от истока до устья – оказалась в одних руках, и тотчас через Каспий хлынули в Московию восточные купцы со своими товарами – золотом, каменьями дорогими и пряностями.
Теперь Иоанн Васильевич IV стал великим князем и царем всея Руси, царем Казанским и Астраханским, а также господином многих княжеств русских. Турецкий султанат и татарский Крым скрежетали зубами, но поделать ничего не могли: и Восток, и Запад уже признали его. А ведь с той поры, как на голову Иоанна шапку Мономаха возложили, бармы навесили и скипетр царский в юношескую руку вложили, и десяти лет не прошло.
Отныне все восточные и западные патриархи православной церкви душу Иоанна добрыми письмами согревали, чем гордыню его взращивали. Они видели в новом русском государе, воцарившемся в далекой Москве, истинную защиту церкви Христовой от мусульманского мира, в первую очередь от турок, уже почти век жестоко терзавших славянские Балканы. Две орды покорил царь, одну попросту замечать перестал за ее никчемностью, так, может быть, и век османов пред его оружием будет недолог? И однажды над Святой Софией вновь воссияют золотые кресты?
Константинопольский патриарх так писал Иоанну IV: «О благоверном венчании твоем на царство от св. митрополита всея Руси, брата нашего и сослужебника, принято нами во благо и достойно твоего царствия. А потому царское имя твое поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена прежде бывших царей византийских. Так повелено делать во всех епархиях, где только есть митрополиты и архиереи».
А еще один патриарх, Иоаким Александрийский, в то же время диктовал следующее: «Мы же просили: Яви нам в нынешние времена нового кормителя и промыслителя о нас, доброго поборника, избранного и Богом наставляемого, каков был некогда боговенчанный и равноапостольный Константин. Память твоя пребудет у нас непрестанно не только на церковном правиле, но и на трапезах с древними, бывшими прежде Царями».
Тут и смиренный возгордится, а Иоанн смиренным не был: он ждал этой славы, грезил о ней и считал себя достойным ее! И меры не видел, всякий раз желая большего, ведь сама жизнь – на примерах рухнувшего Казанского царства, а за ним и Астраханского, – предлагала Иоанну шагать широко и скоро. Величие Византии манило его. Недаром именно в нем, царе православном, все новые народы видели спасителя от грозного ислама. Так, может быть, и впрямь самой судьбой наречено ему стать новой скалой восточного христианства – единственно правильной и праведной ветви, как считал Иоанн, а значит, подобно императорам ромеев, наместником Бога на земле?
Такие вот мысли утверждались отныне в голове молодого русского царя, который мало что умел сам, все воспринимал болезненно и кругом видел предательства – малые и большие. О своих жестоких проказах он старался не вспоминать, а серьезные проступки просто взял и простил себе. Его собственное величие было куда значительнее! Все заслуги своих советников он вскоре научился видеть заслугами собственными. Они – только слуги и холопы его, и если что вершат доброе, то лишь по его милости и соизволению, а значит, он и есть всему созидатель.
В таком вот настроении в начале зимы 1558 года двадцативосьмилетний царь Иоанн Васильевич и решил начать новую войну – на этот раз с Ливонским орденом, уже полвека не платившим Руси дань и вступившим в сговор с ее заклятым врагом Швецией.
Тщетно Алексей Адашев, Андрей Курбский и Сильвестр, еще не до конца потерявший тогда свое влияние на Иоанна, советовали ему продолжать наступление на южные границы. Ливонский орден не был так силен, чтобы угрожать Руси: он мог только огрызаться, не более того. А вот новый крымский хан Девлет-Гирей, да еще при заступничестве Османской империи, представлял собою серьезную опасность. Десятками тысяч уводил он в полон русских людей с южных земель государства и строил планы похода на Москву – готовился мстить за Казань и Астрахань.
Но к этому времени чрезмерно настоятельные советы стали вызывать у Иоанна уже не просто раздражение, а приводили подчас даже в ярость, и он готов был сделать все, лишь бы – по-своему. А войну с Ливонией он считал удачным и своевременным проектом. Так бы оно и оказалось, если бы не одно случайное, но очень коварное обстоятельство.
За год внушительные территории ордена были захвачены русскими войсками, Иоанну это лишний раз позволило почувствовать свои силу и мощь, но далее Москва милостиво согласилась на перемирие. Это оказалось и тактической ошибкой Алексея Адашева, желавшего освободить армию для карательного похода на Крым, и самого Иоанна, привыкшего почивать на лаврах. Новый магистр ордена Готгард Кетлер, возглавлявший пропольскую партию, и большинство рыцарей ордена использовали перемирие с максимальной пользой для себя. Они отдали Ливонский орден в «клиентуру и протекцию» польского короля Сигизмунда II Августа, люто ненавидевшего Русь и не пожелавшего признать Иоанна царем даже после подчинения им Казани и Астрахани.
Неожиданный поворот политических и военных событий изменил судьбы многих государственных деятелей…
В сентябре Алексей Адашев диктовал для государя в своих Кремлевских апартаментах секретную грамоту – диктовал с тяжелым сердцем. Неосмотрительно, ох, неосмотрительно Ближняя дума позволила передохнуть Ливонии! Через пару дней, знал Адашев, царь, отправившийся с женой на богомолье с миром в сердце, получит недобрую весть.
Всего месяц оставался до окончания перемирия с Ливонией, когда орден возобновил военные действия. Возглавляемое новым магистром Готгардом Кетлером войско внезапно оказалось под Дерптом и нанесло поражение московитам, которыми командовал князь Плещеев. Свыше тысячи русских полегло в этой битве! Многих взяли в плен. Сразу после сражения Кетлер осадил Дерпт и попытался взять его штурмом, но, слава Богу, воевода Катырев-Ростовский оказал достойное сопротивление.
Тем не менее воинственный выпад Ливонского ордена показал, что рыцари не только не собираются считать себя побежденными, но и, напротив, готовы к новым и решительным сражениям. Тем более что за ними в лице «протектора» Сигизмунда II Августа теперь стояла и сильная Польша, и Литва.
Но это было только началом. Точно сговорившись с ливонцами, с юга на Русь – в ответ на поход Данилы Адашева – напали крымцы и разорили Каширский уезд. Возьми крымцы войск чуть поболее – за три дня до Москвы добрались бы! Среди русских военачальников началась паника: давно не получали московиты таких ударов, все больше сами привыкли бить врага. Оттого, видать, и расслабились.
Скрепляя грамоту личной печатью, Алексей Адашев уже знал, что большой немилостью грозит ему эта весть, ведь именно на него – его ум, опыт и волю – положился царь и государство свое оставил.
И сам еще не знал Алексей, насколько прав был…
Царь читал грамоту в Коломне – у постели уснувшей Анастасии. До него уже долетела весточка – чуть раньше Адашевского послания. Человек Захарьиных-Юрьевых, неотступно следовавших за государем, доставил ее. И старший Данила, крепко скрывая радость, уже успел горько посетовать:
– Доверились басурманам – вот и получили на орехи. Надо было тебе, царь-батюшка, никого не слушать, а своим умом врагов к порядку приводить. Кто ж его знает, что Алешка Адашев сотоварищи удумать замыслил? Да супротив кого? Чужая душа – потемки!
Иоанн уже готов был к гневу, но терпел. Хотел услышать от друга своего Адашева вразумительное объяснение. Взяв свиток, всех прогнав, он сорвал печать, и скоро уже злоба исказила его черты. Перечитал и стал еще темнее лицом – толкового объяснения не было.
– Знал я, знал, что с немцами мириться нельзя, – сквозь зубы цедил он. – Да послушал их, послушал! И хан время подгадал – теперь со всех сторон клевать станут!
– О чем ты, Ванечка? – открыв глаза, сонно спросила Анастасия.
– Спи, золотко, спи, ясная, – потянувшись к ней, тотчас умерил ярость Иоанн.
– Кто пишет-то тебе? – не унималась жена. – Чья печать-то?
– Алешка Адашев пишет, – сдался супруг. – Поляки с ливонцами да крымцы наступают, наших, как холопов, бьют, а он поделать сам ничего не может! – У Иоанна аж руки от гнева задрожали. Ведь Адашев, Сильвестр и Курлятев уверяли его: подождем, мол, с войной в Ливонии – крымского хана усмирять будем. Усмирили! В Ливонии время упустили – рыцари с поляками и литовцами теперь спелись! Разом, в одно мгновение, все с ног на голову перевернулось – все планы его, русского государя, повержены в прах! – Теперь просит, чтоб я в Москву ехал, – скомкал Иоанн в кулаке свиток. – Нынче же чтоб ехал.
– Он с тобой, со слугою точно, – проворковала Анастасия.
И вновь злоба резанула лицо государя – не впервой уже он слышал подобное. Усмехнулся зловеще:
– Да уж коли я приеду, то в гневе приеду. Никого не помилую!
– И то верно, – одобрила Анастасия. – Но ко всем-то ни к чему быть строгим…
– Ты оставайся, помолись за меня, голубка, – умеряя пыл и целуя жену, проговорил Иоанн, – а я после возвернусь к тебе.
– Не хочу так, – неожиданно твердо воспротивилась Анастасия. – С тобой поеду. Заговорят тебя там. Адашев твой заговорит. Он ведь у-умный! Не отдам более ему мужа своего. Прежде они с Сильвестром тебя, ясный сокол мой, точно зельем сонным опаивали, чтобы спал ты у них на руках как дитя малое, – царица слово в слово повторяла за братьями своими, особенно за старшим Данилой, зело на язык гораздым. – Только ты надумаешь вырваться, как Адашев опять за свое! Но рано или поздно придется-таки тебе проснуться и оправиться. Не права я разве?
– Права, голубка моя, права, – склонясь над женой, дабы успокоить ее, зашептал ей на ухо Иоанн. – Во всем права…
Иоанн не обманулся: Русь оказалась втянута в новую войну, грозившую стать тяжелой и долгой. Не обманулся насчет своих предположений и Алексей Адашев: немедленным ответом на известия из Ливонии и Каширской стороны стала его опала.
Поговаривали также, что царю на Адашева донес казначей Мусаил Сукин, обвинив его «в излишней самостоятельности» в переговорах с Ливонией. А уж что была то за «самостоятельность», это только сам царь и холоп его Сукин и знали. Как бы там ни было, но получил вскорости Адашев от царя приказ: лично отбыть в Ливонию, дабы «охранять завоеванные им, царем всея Руси, рубежи и ставить новые пределы». Назначение сие было в крайней степени унизительным: из фактического руководителя страной Алексей Адашев разом превратился даже не в первого полководца в Ливонии – им стал князь Мстиславский, – а всего лишь в командира артиллерии. Туда же были отправлены и Андрей Курбский, коего на первый взгляд немилость царская вроде бы стороной обошла, и младший брат Алексея Адашева – герой Крыма Данила. Обоим отведены были роли воевод второго плана. В то же самое время окончательной опале подвергся и протопоп Сильвестр: бывшего своего духовника царь сослал в Кирилло-Белозерский монастырь – «молиться за победу русского оружия в Ливонии».
Всем было ясно: Ближняя дума приказала долго жить. Ее собрания прекратились сами собой. Князь Михаил Воротынский и боярин Дмитрий Курлятев, старшие товарищи и сподвижники Алексея Адашева, превратились в обычных вельмож. Многие в те недели потирали руки, и крепче других – братья Данила и Никита Захарьины-Юрьевы. Они-то знали: свято место пусто не бывает. Какие перспективы открывались теперь перед ними!
Одного только братья не учли: не для чьего-то нового влияния на себя царь Иоанн Васильевич избавился от надоевших ему бывших советников – как праведников-старцев, так и мудрецов-ровесников. Нет. Новые приближенные, друзья-сотоварищи, нужны ему были, конечно, но – лишь как холопы верные. Потакающие любому царскому пожеланию.
Отныне Иоанн сам желал вершить судьбу своего государства. Своей волей, своими умом и сердцем.
Глава 2
Пред грозными очами
1
– Э-гэ-гэй! – заснеженное поле и холмы впереди, густо поросшие елями, так и прыгали перед глазами всадника, конь хрипел от тяжелой скачки по глубокому снегу, плюясь паром. – Ату их, ату! – Черные спины ливонцев тоже подпрыгивали впереди, расползаясь и собираясь на широком белом поле. Точно тараканье гнездо расшевелили! С пылающим лицом, держа в руке кистень, что яростно раскачивался и звенел цепью, молодой сотник зацепил взглядом товарища, летевшего рядом с ним. – Бери своих и скачи за теми, что вправо уходят! Лети к Мариенбургу, наперерез им! Слышишь?!
– Слышу, командир! – с удалью отозвался тот и тотчас стал выкрикивать команды своим новикам, после чего небольшой отряд резко взял вправо.
Там, далеко, за крепостными стенами, поднимались к небу красные башни Мариенбурга. Снег на их остроконечных крышах лежал так покойно, что казалось: нет и не может быть войны в этом мире! А если даже она и идет где-то, то разве что за тридевять земель отсюда. И поэтому каждый ливонец мечтал сейчас как можно скорее добраться до крепостных стен славного города Мариенбурга, укрыться за ними. Но русские палаши, увы, мало кому оставляли такой шанс…
Бегущих по снегу было сотни полторы, и все они страстно хотели преодолеть это поле и вскарабкаться на крутые и высокие холмы, откуда к зимнему небу уходили корабельные сосны. Многим уже повезло: утопая в снегу, они медленно ползли вверх. А еще сотни две их земляков так и остались лежать позади приближающейся под гиканье и улюлюканье дворянской конницы, состоявшей преимущественно из уже испытанных в боях новиков – отчаянных и бесстрашных бойцов, в полной мере успевших вкусить вражьей крови. Там, за спинами всадников, неподвижно лежали черными куклами жестоко перебитые во время отступления солдаты ордена, и их оружие уже тонуло в снегу, обильно забрызганном кровью посеченной ливонской пехоты.
Вот уже и первые из отставших солдат ордена, сжимаясь под налетающими всадниками, закрывали лица и головы руками. Но палаши русских дворян и сабли казаков, возбужденных скачкой, погоней и самой битвой, превратившейся в побоище, беспощадно рубили врага. Сотник еще издали заметил того сержанта, что давно уже улепетывал со всех ног, то и дело заваливался в снег, но меча не отпускал. Ливонец в кольчужном капюшоне, злой и напуганный до смерти, обернулся на хрип лошади. Вжав голову в плечи, он выставил вперед меч, желая пропороть конское брюхо, но командир дворянской сотни успел первым: размахнулся и ударил кистенем аккурат в темя сержанта. Еще одна черная кукла на фоне алой каши украсила растоптанный снег.
Самые расторопные сержанты ордена уже взбирались по пригорку к хвойному лесу, хватались за голые кусты, заиндевевшие под снегом, подтягивались на них. Ливонцы знали: сюда лошадям не подняться, а русские дворяне вряд ли станут спешиваться ради погони по снегу за и без того сокрушенным врагом. Около сотни ливонцев продолжали упорно ползти по белым холмам вверх. Некоторых разделяло с подоспевшими русскими уже не более двадцати шагов, но тем отчаяннее ливонцы карабкались к цели.
Это было даже весело! Сейчас бы сотню стрельцов – они мигом положили бы весь этот сброд на подъеме. Или лучше татар: стрела татарская бьет куда метче любой пищали!
Сотник оглянулся на смех за спиной – там, на замерших перед крутой преградой лошадях, звонко гоготали безусые русские дворяне, совсем еще юные, и матерые казаки гортанным гоготом вторили им, указывая саблями на беглецов. Улыбнулся и сотник. Такого противника и бить жалко! Гнев и жажда крови ослабевали. Азарт погони медленно угасал.
– Куда ползете? Снег сойдет, все равно достанем! – крикнул один из русских конных дворян. – Бить не будем, сползайте! А коли будем, то через одного!
Но ливонцы и не понимали его, и понимать не хотели. Русские медведи были страшны и кровожадны – они и убивали со смехом.
Заметив у седла одного из казаков аркан, сотник окликнул воина:
– Эй, малой, сможешь подловить во-он того басурманина? – он указал на ливонца, что уже второй раз едва не соскользнул вниз.
Ливонец был приметным – белая накидка с крестом и знаки отличия на плече говорили о том, что это офицер, может быть, даже рыцарь. Тем более был он молод, а значит, получил свои отличия в первую очередь за благородство крови. Шлем ливонец потерял, да и меч тоже: пустые ножны болтались у левого бедра, кинжал – у правого.
– Отчего ж не смочь? – зацепив веревку, кивнул казак. – Попробовать-то можно!
Когда рука ливонского рыцаря уже хваталась за очередную ветку, казацкая петля хлестко обвила его – и руку по самую подмышку взяла, и голову. Петля затянулась мгновенно, и ливонца тут же отбросило назад, в снег. Русские бойцы – казаки и дворяне – опять захохотали.
– Попался, голубчик! – крякнул расторопный казак.
– Тяни его, Михайло, – кричали другие. – Да смотри, чтоб не сорвался! Вон сом-то какой, все пять пудов потянет, если не больше!
Примеру Михайло последовали еще несколько его товарищей, что имели при себе аркан круглый год. Одни промахнулись, но трое уже сноровисто зацепили свою добычу и теперь тащили ее, упирающуюся, вниз. Им помогали и другие казаки, и молодые русские дворяне. Все равно что сети тянуть. Потеха! Один из казаков прицепил аркан к седлу, пока его ревущий от ужаса ливонец бился в снегу, и дал задний ход. Беглеца так и выбросило из снежной волны к самым копытам. Едва не затоптал его казацкий конь. Теперь в русские холопы идти – другой дороги нет! Но вот Михайле не повезло – он выудил лишь рассеченную петлю на конце веревки. Ливонец тотчас вынырнул из снега, огляделся, держа кинжал в руке, стремглав отправил оружие в ножны и вновь полез наверх.
Казак с досадой рыкнул и потащил из-за пояса топор.
– Приложу его! Приложу, окаянного! – повторял он. – Такой аркан испортить! Я ведь с ним от самого Днепра шел!..
Сотник с азартом следил за уползающим вверх ливонцем и разъяренным неудачей казаком. Но когда Михайло, прицелившись, уже замахнулся, ливонский офицер, точно чувствуя близкую гибель, оглянулся. Тогда-то русский сотник и поймал его взгляд – испуганный, растерянный, недоуменный. Лет девятнадцать было ливонцу, светлые волосы выбились из-под кольчужного капюшона. Погибать столь нелепо даже для простого ратника не дело, а уж для дворянина, да еще молодого, – тем более! Командир русской дворянской сотни – ровесник ливонца – знал точно: сам бы он ни за что не хотел погибнуть так глупо и… жалко.
– Не тронь! – крикнул он казаку, хватая за руку.
– Обожди, господин, – рванул тот плечом, высвобождаясь, – сказал, приложу, значит, приложу!
– Я сказал – не тронь! – рявкнул сотник. – Не заяц он! Бить – так в поле, а не в спину, слышишь? Сам упустил – никто не виноват. Мне он живым нужен да разговорчивым. Не палачи мы!
– Тоже мне, нежности, – проворчал казак, огрызаясь, но ослушаться дворянина и старшего по званию, хоть к сотне его и не принадлежал не решаясь.
– Вы дворянин? – на ломаном немецком крикнул сотник врагу.
– Да, – отряхивая снег с лица, прокричал тот в ответ, – я – Карл фон Штаден!
– Дайте мне слово, что не пойдете более против русских!
Ливонец понял: неправильный ответ – и топор казака повалит его. Не успеет он ни отпрянуть, ни скрыться.
– Даю! – выкрикнул решительно.
– Слово дворянина?
– Да!
Сотник кивнул.
– Пусть уходит, – бросил он казаку. – Не посмеет он слову своему изменить.
Михайло ослабил руку, чертыхнувшись, нехотя отправил топор обратно за пояс. Конники из дворян уже отходили, казаки волочили за собой заарканенных пленных. Молодой ливонский офицер был уже на вершине заснеженного холма, у кромки леса, когда обернулся – не смог не оглянуться.
– Кого я должен благодарить? – уже издалека крикнул он, но сотнику показалось, что крикнул с вызовом.
– Григорий Засекин, – назвал себя русский дворянин. – Князь Засекин!
– Благодарю вас, князь!
И сотнику вновь показалось, что вслед благодарности эхом полетела насмешка. Уже поворачивая коня назад, Григорий тоже не утерпел – обернулся. Молодой ливонский офицер, как и его люди, уходили в лес, рады-радехоньки, что избежали русских мечей. Здесь была их земля, тут они знали все тропинки и овраги и надеялись скрыться. Но русские, шествующие по Ливонии победоносным маршем, могли позволить себе милость отпустить их…
Григорий взглянул направо – приближался отряд русских конников. Впереди ехал Петр Бортников, его десятник, в кольчуге поверх короткого кафтана, в медвежьей шапке.
Петр улыбнулся другу:
– Часть посекли, других на холмы отпустили. Преследовать не стали – много чести! – он кивнул в сторону крепости. – Потом всех скопом возьмем.
Разговор друзей происходил 1 февраля 1560 года на подступах к ливонскому городу Мариенбургу.
В конце осени прошлого года закончилось полугодовое перемирие, нарушенное ливонской стороной. Этот короткий мир ничего не решил, за исключением того, что подарил все тактические выгоды Ливонии. Спор, рожденный давними распрями, только крепче врос в обильно политые кровью земли распадающегося ордена и в сердца враждующих государей.
Но даже под протекторатом Польши вступившие в битву с царем московским рыцари вновь сдавали позиции. Забыв о злых крымцах, Иоанн бросил на запад немалые силы – во что бы то ни стало он хотел залатать дыры, образовавшиеся после неосмотрительных действий Адашева и его политической партии, ныне оказавшейся в отставке. Зимой 1560-го сокрушительному артиллерийскому обстрелу подвергся осажденный Мариенбург, а вылазки ливонцев заканчивались преимущественно неудачами – подобными той, в которой участвовал помилованный сотником Григорием Засекиным офицер Карл фон Штаден.
9 февраля Мариенбург пал, открыв дорогу в западную и центральную Ливонию. Оставался последний орденский оплот: ливонская столица – неприступный Феллин. Весной на территории Ливонии шли редкие бои, но обе стороны знали, что рано или поздно именно там, под Феллином, произойдет решающая битва.
Тем временем на самой Руси, в царском доме, происходили события трагические. Но даже самый проницательный ум не смог бы предугадать катастрофических последствий…
В июне 1560 года царь и царица были на богомолье в Можайске, куда выезжали довольно часто. Там впервые Анастасия и почувствовала себя худо. Покачнулась в церкви во время вечерни да так и опустилась на колени. Иные подумали: сейчас осенит себя крестным знамением и поднимется, да не тут-то было. Царь первым метнулся к ней, окрикнул домашних так, что священник, читавший молитву, едва не поперхнулся. Царицу подхватили под руки и вынесли из церкви.
Иоанн долго потом смотрел на нее в опочивальне, спрашивал, не нужно ли чего, а сам думал: «Неужто кто злодейство против супруги моей венчанной сотворил? С чего бы молодой и здоровой женщине захворать ни с того ни с сего?» Не просто так роились подобные мысли в его голове: до сих пор стояло перед глазами бледное лицо матери, Елены Глинской, отравленной боярами-злодеями Шуйскими. Синие губы, запавшие глаза, черные тени под ними – в кого превратилась-то всего за несколько дней?! А ведь первой красавицей слыла царица Елена на Руси в свое время.








