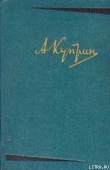Текст книги "Любовь куклы."
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
XV.
Брат Ираклий сидел у стола, облокотившись на стуле, как обезьяна. Его страшно интересовала дальнейшая исповедь Половецкаго, и он терпеливо ждал ея продолжения. – Да, у меня была девочка... звали ее Сусанной...– глухо заговорил Половецкий, подбирая слова.– Неправда-ли, какое красивое имя? Она росла как-то в стороне от нашей жизни, на попечении сначала бонны-швейцарки, а потом гувернантки-англичанки. Мать и отца она видела только утром, когда приводили ее здороваться, и вечером, когда она прощалась. Весь ея детский день проходил среди чужих, наемных людей... Что она думала, что она делала – отец и мать не интересовались. Ребенок рос хорошенький, здоровенький – и этого было достаточно. Но в одно прекоасное утро англичанка с большими предосторожностями обяснила мне, что замечает в девочке кое-какия ненормальности: безцельное упрямство, вспышки безпричиннаго гнева, несвойственную ея возрасту апатию... Мы, конечно, не обратили на это никакого внимания. Мало ли бывает детей упрямых, вспыльчивых и, вообще, несносных? Время шло, а вместе с ним разростались ненормальности, так что пришлось обратиться к специалисту-врачу, который дал нам понять, что положение девочки безнадежно... Половецкий сел на кровати, спустив босыя ноги... Он сильно похудел за последние дни и показался брату Ираклию даже страшным. Лицо осунулось, глаза округлились и казались больше. – Это был удар грома,– продолжал он, растирая колени рукой.– Т. е. удар для меня. Я смутно почувствовал какую-то вину за собой... Не помню, в который раз, но мне казалось, что я попал в детскую в первый раз и в первый раз увидел, что моя девочка сидит вот с этой самой куклой на руках, улыбается и что то наговаривает ей безсвязное и любовное, как живому человеку. Меня это почему-то кольнуло... Какая то безсмысленная кукла и безсмысленный детский лепет. Но больная не разставалась с своей куклой ни днем, ни ночью... Ее и за границу повезли лечиться с этой же куклой. Европейские корифеи науки только подтвердили диагноз нашего домашняго врача... Положение получалось самое безнадежное. Да... Жена воспользовалась им, чтобы изображать из себя жертву. Я ее возненавидел именно за эту последнюю ложь, хотя она и лгала целую жизнь... Ничего нет ужаснее лжи, которая, как ржавчина, разедает и губит живую душу. Говорят о святости материнства, но я, к сожалению, видел другое, и мою душу постененно захватывал ужас... Мне случалось участвовавать в сражениях, переживать очень опасные моменты, но удивительно то, что настоящий страх появлялся уже в то время, когда опасность миновала. Я хочу сказать, что жизнь, вообще, страшная вещь, но мы это не желаем замечать, а сознание является только задним числом... Мы идем, как лунатики, по карнизу и не замечаем окружающей со всех сторон опасности... Вы согласны со мной?... – Право, не знаю... Мне кажется, что ничего ужаснаго нет. – Нет, есть... Вы только подумайте, что каждый мог бы прожить свою жизнь на тысячу ладов иначе, чем живет. Нас опутывают те мелочи, которыя затемняют наш день и даже преследуют во сне. Брат Ираклий вскочил, но, взглянув на Половецкаго, опять сел. Он страдал галлюцинациями не аскетическаго характера, над чем смеялся Теплоухов. Половецкий не заметил его движения и продолжал, глядя на пол. – И этот ужас разростался... Я бросил свою службу, прекратил ненужныя знакомства и заперся у себя в квартире. Я был убежден, что одной силой любви могу снасти свою девочку, наперекор всем медицинским диагнозам. Ведь одна любовь творит чудеса... Мне стоило громаднаго труда принизиться до чарующей простоты детскаго миросозерцания, и я ползком добирался до архитектуры детских мыслей. Я сказал: принизиться – это не верно. Вернее сказать: возвыситься, потому что всякая простота – это снеговая вершина в каждой области. Но я опоздал... Огонь уже потухал... Отдельные всполохи детскаго сознания говорили о каком-то другом мире, неведомом, необятном и безгранично-властном... Маленькая душа шла навстречу этому миру, роняя только последния искры сознания для того маленькаго мирка, который оставляла. И я, такой большой и сильный, носил этот погасавший свет в маленьком существе... Полное безсилие сильнаго... И тут у меня вспыхнула страстная, безумная любовь к моему ребенку... До сих пор я не знал даже приблизительно, что такое любовь, потому что не понимал, что любовь есть правда жизни. То, что принято называть этим словом – одна мистификация... И тогда я полюбил вот эту куклу, которую держали холодевшия маленькия ручки, отдавая ей свою последнюю теплоту. Сделав паузу, Половецкий с удивлением посмотрел кругом, на сгорбленную фигуру брата Ираклия, на расплывавшееся пятно света вокруг лампы, на давно небеленыя стены, на свои босыя ноги... Ему казалось, что он где-то далеко-далеко от обительской странноприимницы, и что вместо брата Ираклия сидит он сам и слушает чью-то скорбную, непонятную для него исповедь. – Ваша дочка, как вы выражались раньше, изволила умереть? – почтительно решился прервать молчание брат Ираклий, исполнившийся уважением к Половецкому. – Ах, да...– отозвался Половецкий, точно просыпаясь от охватившаго его раздумья. – Да, изволила... И все этого желали. Я переживал молчаливое отчаяние, больше – я сходил с ума... На меня напал панический ужас, и я нигде не мог найти себе места. У меня не было даже слез, и я прятался от всех, чтобы не видели моего горя... Эта дорогая смерть точно открыла мне глаза на всю мою безобразную жизнь... Есть чудная русская поговорка: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Какое прекрасное слово: покойник... Мой маленький покойник стоял у моего сердца... Маленькия ручки точно указывали мне на все безобразие моей жизни. Ужас все сильнее охватывал меня, щемящая пустота, давящая темнота... Я плакал, я кричал – и ответа не было... Это ощущение заблудившагося в лесу человека, потерявшаго все силы и последнюю надежду когда-нибудь выбраться из этого леса... У меня явилось непреодолимое желание покончить с собой, чтобы разом прекратить невыносимыя муки. У меня было обдумано и приготовлено все до мельчайших подробностей, включительно до стереотипной записки: «В смерти моей прошу никого не обвивять», и т. д. – Да, да, я мысленно простился со всем и совсеми,– продолжал Половецкий.– В сущности, это был хороший момент... Жил человек и не захотел жить. У меня оставалось доброе чувство ко всем, которые оставались жить, даже к жене, которую ненавидел. Все было готово... Я уже хотел уйти из дома, когда вспомнил о детской, освященной воспоминаниями пережитых страданий. Я вошел туда... Комната оставалась даже неубранной, и в углу валялась вот эта кукла... Половецкий достал спрятанную под подушкой куклу и показал ее брату Ираклию. – Вот эта самая... да... Она смотрела на меня живыми глазами и сказала... Вы не смейтесь – она, действительно, сказала... «Безумец, я тебя люблю». Понимаете?.. Да, она сказала, я это слышал... Никто не разуверит меня в этом. «Безумец, я тебя люблю»... Мне трудно сейчас припомнить по порядку, что потом было, но у меня явилось такое чувство, точно от меня отвалилась каменная гора. И она действигельно меня любила, потому что спасла от самоубийства... Оставался всего один момент – и меня бы не было. Это со стороны и нелепо, и смешно, и даже глупо, но это было... Она меня любила, и я это чувствовал. Вы этому не верите? Вы слушаете меня, как человека, который бредит во сне? – Нет, проще: я не понимаю, в чем дело. – А, не понимаете... Ведь вы учили в вашей семинарии философию? Да? Вероятно, знаете, что был такой немецкий философ Фихте? – Очень просто... О нем у нас в записках была отдельная глава, которая начиналась так: "Фихте, замкнувшись в свое "я", разорвал всякую связь с действительностью"... – Вот, вот... этот философ праздновал день, когда его дочь в первый раз сказала "я". – Позвольте, при чем же тут кукла? – А вы подождите... Когда человек родится, он не отделяет себя от остального мира. Он – весь мир... А вся остальная жизнь заключается только в том, что человек постепенно отделяет себя от мира. Смерть – это заключительное звено этого рокового процесса. Рельефнее всего первый зародыш этого процесса проявляется у ребенка в его кукле, в которой он смутно начинает чувствовать своего двойника... Это величайший момент в жизни каждаго, хотя мы и не даем себе в этом отчета. Ведь все дети любят кукол. Из этих детей потом выростают и герои, и обыкновенные люди, и преступники... – Все-таки мы понимаю... – А почему дикарь лепит себе идола из глины, выстругивает из дерева, выдалбливает из камня, отливает из металла? Ведь это продолжение детской куклы, в которой человек ищет самого себя... Он помещает именно в ней самую лучшую часть самого себя и в ней же ищет ответа на вечные вопросы жизни. Вот и моя кукла помогла мне узнать хоть немного самого себя, оглянуться на свою безобразную жизнь, задуматься над самым главным... Ведь она говорит со мной... Вот почему она мне так и дорога. В ней мой двойник... Брат Ираклий все ждал вопроса о краже куклы, но Половецкий ни одним словом не заикнулся об этом трагическом обстоятельстве. – Ну, я устал... – говорил Половецкий, укладываясь снова на кровать.– До свиданья... Извините, что побезпокоил вас, брат Ираклий.
XVI.
Осень выдалась суше и холоднее обыкновеннаго, так что не было даже осенняго водополья, и между обителью и Бобыльском сообщение не прерывалось. Лист на деревьях опал, трава пожелтела, вода в озере сделалась темной. В обители веселья не полагалось вообще, но сейчас воцарилось что-то унылое и безнадежное. Братия отсиживалась по своим кельям. Приезжих было мало. Брат Ираклий чувствовал себя особенно скверно и успел перессориться со всеми, так что даже игумен счел нужным сделать ему серьезное впушение. – Так нельзя, Ираклий... Понимаешь? Ты скоро, пожалуй, кусаться начнешь. А еще умный и начитанный человек, философию учил... Брат Ираклий принял увещание с подобающим смирением и заперся у себя в келье. Он обложился книгами и что-то такое писал. По вечерам он уходил к Половецкому, и их беседа затягивалась за полночь. Раз вечером, когда брат Ираклий только-что собрался идти в странноприимницу, как к нему в келью вошел брат Павлин. Он был чем-то взволновав и, осторожно оглядевшись кругом, шопотом сообщил: – Ираклий, тебя желает видеть некоторая госпожа... – Какая-такая госпожа? – А такая... Дух от нея такой приятный... идет, как от мощей. Сейчас только приехала из Бобыльска, и прямо спросила тебя. "Мне, грит, необходимо переговорить с братом Ираклием"... Так и сказала. Она ждет в странноприимнице... Брат Ираклий тоже взволновался. Он наскоро переоделся, намазал редкие волосы деревянным маслом и отправился в странноприимницу. Кто была "некоторая госпожа" –он догадался сразу. В одном из номеров женской половины странноприимницы нетерпеливо ходила высокая красивая дама вся в черном. – Вы – брат Ираклий? – довольно строго спросила она и, подавая смятое письмо, прибавила. – Узнаете, кто это писал? – Точно так-с... Это я писал, но писал по злобе... – Мне это решительно все равно... Я желаю видеть мужа. – Михайло Петрович не здоровы и не могут сейчас принять. Впрочем, я могу к ним сходить... – Будьте любезны... Когда брат Ираклий уходил, "госпожа" невольно подумала: "Уродится же такой идиот"... "Вот это так кукла налетела... – думал брат Ираклий по дороге.– И дернуло меня тогда ей письмо написать про Михайла Петровича... Ох, грехи, грехи! А все виноват дурень Егорка... Ну, зачем он ей отдал мое письмо?" Половецкий выслушал брата Ираклия совершенно спокойно и также спокойно ответил: – Передайте m-me Половецкой, что я ее видеть не желаю... да. Она напрасно безпокоила себя, разыскивая меня. Я останусь жить в обители... Мне здесь нравится.
1902 год.