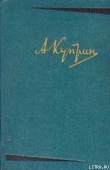Текст книги "Любовь куклы."
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
Любовь куклы.
(Повесть).
I.
Пароходный повар Егорушка волновался. Он, вообще, считал себя ответственным лицом за порядок на пароходе "Брат Яков", делавшим рейсы (по Егорушкину – бегавшим) по р. Камчужной, между уездным городом Бобыльском и пристанью Красный Куст. Ниже пристани начинались пороги, которые начальство старалось уничтожить в течение ста лет, собирало на это предприятие деньги, получало какия-то таинственныя субсидии и отчисления из каких-то еще более таинственных "специальных средств". На этих порогах воспитался целый ряд водяных и "канальских" инженеров. Самое дерзкое предприятие, совершенное этими неутомимыми тружениками, было то, что какой-то инженер Ефим Иваныч взорвал порохом один порожный камень. Камчужские сторожилы и сейчас вспоминают об этом удивительном событии. – И откуда он только взялся? – ворчал Егорушка, вытирая запачканныя стряпней руки о свою белую поварскую куртку.– Когда выбежали из Краснаго Куста, его и в помяне не было... Надо полагать, ночью сел на пароход, когда грузились дровами у Машкина-Верха. Егорушка морщиль лоб и усиленно моргал своим единственным глазом,– другой глаз вытек и был прикрыт распухшим веком. Ему было за шестьдесят, но старик удивительно сохранился и даже не утратил николаевской солдатской выправки. Он точно застыл в вечном желании отдать честь или сделать на караул какому-то невидимому грозному начальству. А «он» преспокойно разгуливал на палубе третьяго класса, ставя ноги по военному. По походке и по заметной кривизне ног Егорушка сразу определил отставного кавалериста. Видно птицу по полету... И ростом вышел, и здоров из себя, и вся повадка настоящая господская, хотя одежонка и сборная,– старый дипломат, какая-то порыжелая, широкополая половская шляпа, штаны спрятаны в сапоги. Большие усы и запущенная, жесткая борода с легкой проседью тоже обличали военнаго. И красив был, надо полагать, а вот до какого положения дошел. Много и из господ таких-то бывает. Того гляди, еще медную кастрюлю из кухни сблаговестит, и поминай, как звали. Последняя мысль пришла в голову Егорушки решительно без всякаго основания, но тем не менее сильно его безпокоила. – Наверно, лишенный столицы...– думал вслух Егорушка.– Другая публика, как следовает быть публике, а этот какой-то вредный навязался... Публика на пароходе, действительно, набралась обыкновенная. В первом классе ехал «председатель» Иван Павлыч в форменной дворянской фуражке с красным околышем, потом земский врач, два купца по лесной части, монах из Чуевскаго монастыря, красивый и упитанный, читавший, не отрывая глаз, маленькое евангелие, потом белокурая барышня, распустившая по щекам волосы, как болонка, и т. д. Из второго класса публика попроще: две сельских учительницы, о. дьякон из Бобыльска, ездивший на свадьбу к брату, мелочной торговец из Краснаго Куста, ветеринарный фельдшер и мелкотравчатые чиновники разных ведомств. Егорушке нужно было знать наперечет публику этих двух классов. А вдруг потребуют филейминьон или соус с трюфелями? Ступайка, угоди на одного Ивана Павлыча... Утробистый барин, одним словом. Стояла половина поля. День выдался жаркий, а река стояла, как зеркало. Хоть-бы ветерком дунуло. А тут еще в кухне, как на том свете в аду. Егорушка в последнем был сам виноват, потому что нещадно палил хозяйския дрова с ранняго утра. Да и кухня была маленькая, едва одному повернуться, и Егорушка выскакивал из нея, как ошпаренный. Впрочем, последнее обяснялось не одним действием накаленной плиты, а также и неосторожным обращением с монополькой. По поводу последней слабости Егорушка оправдывался тем, что николаевскому солдату полагается «примочка». – У нас как полагалось по артикулу? – обяснял Егорушка, вытирая потное лицо рукой. – Девять человек заколоти, а одного выучи... Каждый день вот какая битва шла, не приведи, Господи! Отдыхали-то на войне... Раэе нынешний солдат может что-нибудь понимать? Ну-ка, вытяни носок... ха-ха!.. Сегодня Егорушка особенно страдал от жары и на этом основании с особенным неистовством ракаливал свою плиту. Он вытаскивал жестяной чайник с кипятком на скамейку у водяного колеса и отдувался чаем. Ничего не помогало... Да и скучно как-то одному. В третьем классе ехал монашик из неважных, и Егорушка его пригласил. – Не хочешь-ли, батя, чайку? Монах имел необыкновенно кроткий вид. Высокий, сгорбленный, с впалой грудью и длипными натруженными руками. Худое и длинное лице чуть было тронуто боролкой, из под послушнической скуфейки выбивались пряди прямых и серых, как лен, волос. Он ответил на приглашение Егорушки немного больной улыбкой, но подошел и занял место на скамеечке. – В Чуевский монастырь ездил, батя? – допрашивал Егорушка, наливая стакан чая. – Так... вообще...– уклончиво ответил послушник, поправляя расходившияся полы заношеннаго подрясника. – Я видел, как ты вперед ехал... А как звать? – Павлин... – Значит, брат Павлин. Так... Я сам хотел поступить в монахи, да терпенья не хватило. Вот табачишко курю, монопольку пью... А грехов – неочерпаемо! Егорушка в отчаянии только махнул рукой... – Господь милостив, ежели покаяться...– робко посоветовал брат Павлин, отхлебывая горячий чай.– Все от Господа. – А ты из какого монастыря будешь? – У нас не монастырь, а обитель Пресвятыя Богородицы Нечаянныя Радости. – Это на Бобыльском? – Недалече... – И много братии? – Так, человек десяти не наберется. Я-то еще на послушании... Всего как три года в обители. – Строго у вас, как я слышал? – Нет, ничего... Для себя стараемся. За чаем Егорушка довольно хитро навел разговор на таинственнаго незнакомца, который шагал целое утро по палубе третьяго класса. – Он с тобой что-то разговаривал, брат Павлин? – А так... Разспрашивал об обителях... про нашего игумена... – Так... гм... Ну, а потом? – Потом ничего... – А из каких он будет, по твоему? – А кто его знает... Так, трезвый человек. Брат Павлин просто был глуп, как определил его про себя Егорушка. Овца какая-то... Прямо вредный человек, а он ничего не замечает. Эх, ты, простота обительская... Эта сцена мирнаго чаепития была нарушена появлением самого вреднаго человека. Он подошел как-то незаметно и спросил глуховатым баском: – Повар, можно у вас получить картофель? Егорушка вскочил и отрапортовал: – Сколько угодно-с... Картофель метер-дотель, картофель огратен, в сметане, о фин-зебр... – Нет, просто горячий вареный картофель...– довольно сурово перебил его вредный человек. – Значит, по просту вареная картошка? – Вот именно... – Этого никак невозможно, господин, а для буфетчика даже и обидно. Извините, у нас не обжорный ряд, чтобы на пятачок и картошка, и лук, и хлеб. У нас кушанья отпущаются по карточке. Ежели желаете, можно антрекот зажарить, сижка по польски приготовить... Другие господа весьма уважают филейминьён, баранье жиго... Можно соус бордолез подпустить, провансаль, ала Сущов... – Хорошо, хорошо... А кашу можно получить? – В каком смысле кашу-с, барин? – Ну, например, гречневую, размазню, из проса? – Тоже по карточке никак не выдет, господин. Вот ежели гурьевскую, с цукатом и миндалем, под сахарным колером с гвоздикой... Вредный человек по военному круто повернулся на каблуках и зашагал к себе на палубу, а Егорушка подмигнул своими единственным оком брату Павлину и проговорил: – Видел? – Что-же, человек, как человек... Уважает простую пищу. Давеча утром чай пил с ситным... – То да не то... Разе он не понимает, что такое буфет на пароходе? Оченно хорошо понимает... А вот ежели медныя кастрюли плохо лежат да повар ворон считает – ну, тогда и поминай, как звали. – Вы это напрасно... – Я?!.. Ого! Достаточно насмотрелись на тому подобных лишенных столицы... Скажите, пожалуйста, вареной картошки захотел и размазни?!.. Видалис и даже вполне таких фруктов и вполне можем их понимать-с. Картошка... размазня... Егорушка серьезно разсердился и даже начал плевать.
II.
"Он", повидимому, ничего не подозревал и спросил себе прибор для чая. Третьеклассный оффициант в грязной ситцевой рубахе и засаленном пиджаке подал чайник с кипятком и грязный стакан. "Он" брезгливо поморщился, не торопясь, достал из узелка полотенце и привел стакан в надлежащий вид. Из свертка выпал при этом узенький желтоватый конверт, на котором тонким женским почерком было написано: Михаилу Петровичу Половецкому. Он поднял его, пробежал лежавшее в нем письмо, разорвал и бросил в воду. – Михаил Петрович Половецкий...– повторил он про себя свое имя и горько улыбнулся.– Нет больше Михаила Петровича... Он мысленно еще раз перечитал строки брошеннаго женскаго письма, где каждая буква лгала... Да, ложь и ложь, безконечная женская ложь, тонкая, как паутина, и, как паутина, льнущая ко всему. А он так хорошо чувствовал себя именно потому, что ушел от этой лжи и переживал блаженное ощущение свободы, как больной, который встал с постели. Будет, довольно... Прошлое умерло. – Да, хорошо...– подумал вслух Половецкий, глядя на убегавший берег реки.– Хорошо потому, что ничего не нужно. Ни сама р. Камчужная, ни ея берега никаких особенных красот не представляли, но Половецкому все теперь казалось в каком-то особенном освещении, точно он видел эту бледную красками и линиями русскую северную природу в первый раз. Да, он любовался красотами Капри, венецианских лагун, альпийских ледников, прибоем Атлантическаго океана, а своей родной природы не существовало. А ведь она чудно хороша, если хорошенько всмотреться, она – широкий масштаб, по которому выстроилась русская душа. Что может быть лучше этих бледных акварельных тонов северной зелени, этих мягких, ласкающих линий и контуров, этого бледно-голубого неба? О, как он отлично все это понимал и чувствовал, и любил именно сейчас... Ему делалось даже жаль ехавших в первом классе пассажиров, которые так равнодушно относились к окружавшему их пейзажу. Это созерцательное настроение было прервано громким хохотом Егорушки, который хлопал себя по ляжкам и раскачивался всем корпусом. – Да не игумен-ли... а? – повторял он, задыхаясь. Брат Павлин сконфуженно улыбался. Половецкий подошел к нам и спросил, в чем дело. – Нет, пусть он сам разскажет...– отвечал солдат, продолжая хохотать.– Вот так игумен... Ловко!.. Ты, грит, с молитвой работай?!.. Ха-ха... – Это они даже совсем напрасно,– обяснял смущенный бhат Павлин.– Я им разсказал про обитель, а они смеются... – Ну, ну, разскажи еще разок? – У нас обитель небольшая, всей братии семь человек, а я, значит, восьмой,– заговорил брат Павлин уже без смущения.– И обител совсем особенная... совсем в болоте стоит, в водополы или осенью недель по шести ни пройти, ни проехать. Даже на лодках нет ходу... – Зачем же в болото забрались, батя, точно комары? – А это уж не от нас, а от божьяго соизволения. Чудо было... Это когда царь Грозный казнил город Бобыльск. Сначала-то приехал милостивым, а потом и начал. Из Бобыльскаго монастыря велел снять колокол, привязал бобыльскаго игумна бородой к колоколу и припечатал ее своей царской печатью, а потом колокол с припечатанным игумном и велел бросить в Камчужную. – Ловко! Ох-хо-хо...– заливался солдат. – Ну, и братию монашескую начал казнить немилостиво. Кому голову отрубит, кого в воду бросит. Из всего монашескаго состава спасся один старец Мисаил. Он убежал в болото и три дня просидел в воде по горло. Искали, искали и никак не могли сыскать... Господь сохранил блаженнаго человека, а он в память о чуде и поставил обитель Нечаянныя Радости. А царь Иван Грозный сделал в Бобыльскую обитель большой вклад на вечный помин своей царской души. – Ты, батя, про игумена-то своего разскажи,– перебил Егорушка.– Ведь тоже Мисаилом звать... – Что-же, игумен у нас хороший, строгий и милостивый, спокойно ответил брат Павлин.– Раньше-то я хаживал в обитель по сапожному делу, ну, а летом помогал сено косить, дрова рубить... Очень мне нравилось тихое монашеское житие. Место глухое, перед обителью озеро... Когда идет служба, так по озеру-то далеко несется дивное монашеское пение. Даже слеза прошибает... Так-то я лет пять ходил в обитель, а потом о. игумен и говорит: "Павлин, оставайся у нас... Будешь в миру жить – осквернишься". Я по первоначалу испугался, потому как монашеское послушание строгое. Боялся не выдержать... Однако, о. игумен по доброте своей уговорил меня. Только и всего. – А послушание-то? – допытывал Егорушка. – Какое же послушание; делаю то же самое, что и раньше. – Вот, вот... Только даром работаешь на всю обитель, а братия спит. Ха-ха... Ловко приспособил игумен дарового работничка. Обратившись к Половецкому, Егорушка добавил: – Да еще что делают с ним: не дают отдыха и в праздники. В церковь даже летом некогда сходить... "Работа на обитель, грит игумен-то, паче молитвы"! Павлин-то и трубит за всю братию... – Надо послушание до конца пройти,– кротко обяснял брат Павлид. – А потом-то? – А потом приму окончательный постриг, ежели Господь сподобит. Голубиная кротость брата Павлина очень понравилась Половецкому, и даже его некрасивое лицо казалось ему теперь красивым. Когда Егорушка с какой-то оторопью бросился к себе в кухню жарить антрекот для Ивана Павлыча, Половецкий разговорился с братом Павлином и узнал удивительныя новости. Разговор зашел о городе Бобыльске, история котораго являлась чем-то загадочным и удивительным. Он поставлен был на границе новгородской пятины и московскаго рубежа. На этом основании его постоянно зорили московские воеводы, а когда он попадал в московский полон – зорили и грабили сами новгородцы. Кроме того, приложила свою руку Литва немилостивая, и даже татары. – Татары не доходили до Бобыльска,– обяснял Половецкий, припоминая историю. – Сами-то они не приходили, а высылали стрелу... Значит, баскак наедет и заставляет выкупать стрелу. Много Бобыльских денежек набрала орда в разное время... – Откуда вы все это знаете? – Летописцы были и все записали. Первый-то был тот самый игумен, котораго Иван Грозный с колоколом утопил. Іоной Шелудяком назывался. У него про татарскую стрелу и было записано. Потом был летописец, тоже игумен, Іакинѳ Болящий. Он про Грознаго описал... А после Грознаго в Бобыльске обявился самозванец Якуня и за свое предерзостное воровство был повешен жалостливым образом. – Как это жалостливым образом? – А не знаю... Я ведь не грамотный, да и летописи все пригорели. У нас в обители живет о. келарь, древний старичок, так он все знает и разсказывает. – Были и еще летописцы? – Был один, уж последний – Пафнутий Хроменький. Ну,этот так себе был... Все о Петре Великом писал, как он наезжал в Бобыльск и весьма угнетал народ своим стремлением. Легко сказать, хотел оборотить Камчужную в канал, чтобы из Питера можно было проехать водой вплоть до Киева. Однако Господь отнес царскую беду... Ну, тогда царь Петр поступил наоборот. Полюбилась ему заповедная липовая роща под Бобыльском, которую развели монахи. Ну, он и велел всю рощу целиком перевезти к себе в Питер... Вот было горе, вот была битва, когда тыщи три дерев нужно было тащить по болотам верст триста. Сколько народу погибло, сколько лошадей – и не пересчитать. А царь Петр приехал в Бобыльск, поблагодарил жителей и на память посадил на месте липовой рощи жолудь. Теперь вот какой царский дуб растет... Царь Петр ездил по всему царству и всегда возил в кармане желуди. Если город ему понравится, он сейчас и посадит желудь, чтобы помнили его. Ну, а после царя Петра уж никакой истории не было, кроме пожаров да холерных годов. Брат Павлин с трогательной наивностью перепутывал историческия события, лица и отдельныя факты, так что Половецкому даже не хотелось его разубеждать. Ведь наивность – проявление нетронутой силы, а именно такой силой являлся брат Павлин. Все у него выходило как-то необыкновенно просто. И обитель, и о. игумен, и удивительная история города Бобыльска, и собственная жизнь – все в одном масштабе, и от всего веяло тем особенным теплом, какое дает только одна русская печка. – А знаете, господин...– заговорил брат Павлин после некоторой паузы.– Извините, не умею вас назвать... – Называйте просто: брат Михаил... Будущий инок посмотрел на Половецкаго недоверчивым взглядом и улыбнулся. – Да, просто брат Михаил,– повторил Половецкий и тоже улыбнулся. Странно, что улыбка как-то не шла к его немного суровому лицу. Вернее сказать, она придавала ему какое-то чуждое, несвойственное всему складу выражение. – А я хотел сказать... (Брат Павлин замялся, не решаясь назвать Половецкаго братом Михаилом). Видите-ли, у нас в обители есть брат Ираклий.. Большого ума человек, но строптивец. Вот он меня и смутил... Придется о. игумну каяться. Обманул я его, как неверный раб... – Как-же вы его обманули? – Ох, случился такой грех... Брат Ираклий все подзуживал. И то не так у нас в обители, и это не так, и о. игумен строжит по напрасну, и на счет пищи... и все хвалит Чуевскую обитель. Уж там все лучше... И смутил меня. Я и сказал, что у меня дядя помирает, а дяди-то и не бывало. Разве это хорошо? Ираклий-же и научил... Ну, о. игумен отпустил меня, благословил на дорогу... Ах, как это совестно вышло все!.. Вот я и поехал в Чуевскую обитель, прожил там три дня и даже заплакал... Лучше нашей обители нет, а только строптивость брата Ираклия меня ввела в обман. – Ну, это грех не велик. Всякий человек ищет, где лучше... – Грех-то не велик, а велика совесть.
III.
Ночь. Река точно застыла, и только оставляемыя пароходом гряды волн тяжело бьются в глинистые берега. Темное июльское небо точно усажено звездами, бледными, трепещущими в воде, не оставляющими после себя следа и вечно живыми. Как ничтожен человек, когда он смотрит на небо... Ведь от ближайшей звезды свет приходит только через восемь лет, и небо, в его настоящем виде, только блестящая ложь. И эти миры миров смотрят на нас светлыми глазами, и мы никогда не постигнем их тайны. Половецкий долго смотрел на реку и на небо и переживал такое ощущение, как будто он поднимается кверху, как бывает только в молодых снах. – Господи, ведь каждый день – чудо,– думал он.– И минута каждая – чудо... Каждый листочек на дереве – чудо, и травка, и козявка, и капля воды. Непрерывающееся вечное чудо, которое окружает нас, а еще большее чудо – внутри нас. Бездна бездну призывающая... Он долго стоял над люком, в который можно было разсмотреть работавшую пароходную машину. И пароход был скверный, старой конструкции, и машина дрянная, но в работе последней чувствовалась все-таки могучая сила. Ведь работала не машина, т. е. известная комбинация стальных, железных и медных частей, и не вода, превращенная в пар, а вечно живая человеческая мысль. Машинным отделением пароход делился на две половины – носовая часть для серой публики, а корма для привилегированной. Всего удивительнее было на этом утлом суденышке, как, впрочем, и на лучших волжских пароходах, распределение грязи, доведенное чуть не до математической точности, так что если бы разница в цене билета составляла всего одну копейку, то и грязи получилось бы в одном классе на копейку больше, а в другом меньше. Кажется в этой системе распределения грязи заключается единственная аккуратность русскаго человека. Эта грязь коробила Половецкаго, когда приходилось вечером пить чай за грязным столиком и укладываться потом спать на грязной пароходной скамейке. Брат Павлин поместился напротив и наблюдал за Половецким улыбавшимися глазами. Он понял, что барину претит непролазная пароходная грязь. – Серый народ едет...– обяснял он, точно стараясь оправдаться.– Привыкли к грязи сызмала. – Да, но все-таки... Мне кажется, что можно бы обойтись и без грязи. Это ведь совсем нетрудно. Например, вымыть вот этот столик, нашему официанту вымыть руки, повару не вытирать грязных рук о свою куртку. – Да, оно конечно... Только уж привычка... У нас крестьяне даже избу не метут, чтобы теплее было. – А в обители у вас чисто? – Даже весьма строго по этой части... Половецкий и брат Павлин уже улеглись спать, как неожиданно явился повар Егорушка. В одной руке он нес жестяную лампочку, а в другой чайник с горячей водой. – Батя, погоди спать... Давай, чайку попьем. Ух, умаял же меня сегодня Иван Павлыч! Прямо без ног меня сделал... За каждым соусом меня раз по пяти гонял. А я унесу соус-то, постою с ним за дверью и назад "Ну вот теперь хорошо", хвалит Иван Павлыч. Ха-ха... Страшный привередник. – А как его фамилия? – спросил Половецкий. – Ну, этого уж не знаю, господин... Мы его председателем зовем. – Где же он преседательствует? – А кто его знает... Просто председатель города Бобыльска. Егорушка был заметно навеселе, хотя и держался на ногах твердо. Он несколько раз хлопал брата Павлина по спине, безпричинно хихикал и, вообще, находился в хорошем расположении духа. – Вы какой губернии-то, батя?– спрашивал он.– Да, из Ярославской... так... Всем бы хороши ваши ярославцы, да только грибов боятся... х-ха! Ярославец грибы не будет есть, потому как через гриб полк шагал... Тоже вот телятины не уважают... потому как теленок выходит по ихнему незаконорожденный... Мы, значит, костромские, дразним их этим самым. Барин, чайку с нами? – предлагал он Половецкому. – Нет, спасибо, я уже пил... Неугомонный солдат продолжал болтать, поддразнивая брата Павлина. – Хороша ваша обитель, батя, правильная, а только одно не хорошо... Зачем у вас девка была игуменом? Положим, не простая девка, а княжиха, ну, а все-таки как будто не ладно... – Это не у нас, а в женской Зачатиевской обители действительно был такой случай. Там игуменьей лет тридцать состояла княжиха... Она прямо с балу приехала в монастырь, как была, во всей бальной одеже. Ее на балу жених обидел, ну, она не стерпела и сейчас в монастырь. Ндравная, сказывают, была, строгая. Померши уж теперь лет с десять... – А за помин души графа Евтихия Ларивоныча молитесь? – Молимся... От него у нас вклад на вечныя времена. – Больше молитесь, батя. Много на ем наших солдатских грехов... Ох, трещала солдатская спинушка!.. – Давно это было... Еще при Александре Благословенном. – Давно-то оно давно, а память осталась. Вон на берегу, сейчас за мысом его хоромины стоят... И солдаты только были. Тридцать пять лет выслуга, а верстали мужиков сорока лет иногда... До смерти солдат. Я пятнадцать годов отбыл. Поляка замирял... – Страшно на войне? – полюбопытствовал брат Павлин. – Это только думать страшно, а там и бояться некогда. Ты палишь, в тебя палят... х-ха! – И... и вы убивали человека? – робко спросил брат Павлин, с трудом выговаривая роковое слово. – И даже очень просто... Отечество, первое дело, а потом начальство. Так, ежели сосчитать, душ пять порешил... – И... и вам не страшно, т. е. тогда, когда вы... – Чего бояться-то? Мы, напримерно, их на острову устигли, польшу эту самую. Человек с четыреста набралось конницы, а нас лазутчик провел... Ночь, дождь – ну, ни одного не осталось живого. В темноте-то где разбирать, убил или не убил... Меня по голове здорово палашом хлопнули, два месяца в больнице вылежал. Лицо Егорушки оставалось добродушным, точно он разсказывал самую обыкновенную вещь. Именно это добродушие и покоробило Половецкаго, напомнив ему целый ряд сцен и эпизодов из последней турецкой войны, в которой он принимал участие. Да, он видел все ужасы войны и тоже был ранен, как Егорушка, но не мог вспомнить о всем пережитом с его равнодушием. – Главное, неприятель... – обяснял Егорушка. – Он, ведь, меня не жалеет, ну, и я его не жалею... – Все-таки живой человек, и вдруг... – Ну, про это начальство знает. Известно, все люди-человеки. У нас свое начальство, у них – свое... А там уж Господь разберет, кто и чего стоил. – Бог один у всех...– тоскливо заметил брат Павлин, – А как же сказано: христолюбивое воинство? Бог-то один, а вера, значит, разная... Вот и вы молитесь по своим обителям об одолении супостата. И даже очень просто... Мы воюем, а вы за наши грехи Богу молитесь... Егорушка долго еще что-то разсказывал, но Половецкий уже дремал, не слушая его болтовни. В ночной тиши с особенной резкостью выдавались и глухая работа машины, и шум воды. Тянулась смешанная струя звуков, и, прислушиваясь к удушливым хрипам пароходной машины, Половецкий совершенно ясно слышал картавый, молодой женский голос, который без конца повторял одну и у же фразу: ...А хр-рам оставленный – все хр-рам. Кумир-р поверженный – все Бог. – Нет, не правда!..– хотелось крикнуть Половецкому. Разве вода может говорить? Машина при всей ея подавляющей физической силе не может выдавить из себя ни одного слова... А слова повторялись, он их слышал совершенно ясно и даже мог различить интонации в произношении. Он в каком-то ужасе сел на своей скамейке и удивился, что кругом никого не было, а против него мирно спал брат Павлин. Половецкий вздохнул свободно. – Милый брат...– подумал он, прислушиваясь к ровному дыханию будущаго инока. Начинало светать. Все кругом спали. Шум пароходной машины разносился далеко по реке. На луговом берегу Камчужной бродил волокнистый туман. Половецкий долго ходил по палубе. Спать не хотелось. Он в последнее время, вообще, спал плохо, а сегодня просто задремал и проснулся от слуховой галлюцинации, которая, как молния, осветила все прошлое. Боже мой, как он жил, если бы можно было разсказать... И разве это был он? Какое-то полуживотное состояние, затемнение сознания, полная разнузданность дурных инстинктов, отсутствие задерживающих нравственных основ. День шел за днем, как звенья роковой цепи. Не являлось даже мысли о том, что необходимо проверить себя, подвести итог, просто подумать о другой жизни. И крутом все другие жили так-же, т. е. люди известнаго обезпеченнаго круга. У всех порядок жизни и логика были одинаковы. Сытая тоска, мучительная погоня за удовольствиями, пресыщение, апатия и недовольство жизнью. Мужчины искали развлечения на стороне, женщины – тоже. Это были два вечно враждовавших лагеря, и семейная жизнь держалась только приличиями. Да и какая могла быть семейная жизнь при таких условиях... Прибавьте к этому дешевенький скептицизм, презрение к остальным людям, которые не могут так жить и в лучшем случае – общественная деятельность на подкладке личнаго самолюбия. А главное, никакой серьезной работы и серьезных интересов в жизни... – И это был я...– повторил Половецкий в каком-то ужасе. Смысл и цель жизни были затемнены, красота окружающаго проходила незаметной. А сколько можно было сделать хорошаго, добраго, честнаго, любящаго... – Папа, а как другие живут? – спрашивал его детский голос. – Каждый живет по своему,– уклончиво отвечал он, потому что нечего было отвечать. Он лгал перед ребенком и не сознавал этого. Нужно было ответить так: – Твой папа, милая девочка, дрянной человек и не знает, как живут другие, т. е. большинство, потому что думает только о себе и своей легкой жизни. Ах, как мучил его временами этот детский голос... И он его больше не услышит на яву, а только во сне. Половецкаго охватила смертная тоска, и он едва сдерживал накипавшия в груди слезы. Убедившись, что все кругом спят, Половецкий торопливо развернул котомку, завернутую в клеенку, вынул из нея большую куклу и поцеловал запачканное личико со слезами на глазах. – Милая... милая...– шептал он, прижимая куклу к груди.
IV.
Утром пароход долго простоял у пристани Гребешки. Сначала грузили дрова, а потом ждали какую-то важную чиновную особу. Брат Павлин начал волноваться. "Брат Яков" придет в Бобыльск с большим опозданием, к самому вечеру и придется заночевать в городе, а всех капиталов у будущаго инока оставалось четыре копейки. – Задаст тебе жару и пару игумен,– поддразнивал повар Егорушка. – Это ничего... По делом вору и мука. А лиха беда в том, что работа стоит. Какое сейчас время-то? Страда стоит, а я целую неделю без всякаго дела прогулял. – В том роде, как барыня... Ах, ты, горе луковое!.. Егорушка продолжал все время следить за Половецким, даже ночью, когда тот бродил по палубе. – Ох, не прост человек...– соображал Егорушка.– Его и сон не берет... Сейчас видно, у кого что на уме. Вон председатель, как только проснулся и сейчас подавай ему антрекот... Потом приговаривался к пирожкам... А этот бродит, как неприкаянная душа. За время стоянки набралась новая публика, особенно наполнился третий класс. Чувствовалась уже близость Бобыльска, как центра. Ѣхали поставщики телятины, скупщики яиц, сенные подрядчики и т. д. Между прочим, сели два солидных мужичка и начали ссориться, очевидно продолжая заведенный еще в деревне разговор. – Дураки мы, и больше ничего,– повторял рыжебородый мужик в рваной шапке.– Прямо от своей глупости дураки... Его спутник, оборванный, сгорбленный мужичок, с бородкой клинушком угнетенно молчал. Изредка он подергивал левым плечом и слезливо моргал подслеповатыми глазами. – Да, дураки,– повторял рыжий.– Сколько берлогов мы оказали барину Половецкому? На, получай сотельный билет... Помнишь, как он ухлопал медведицу в восемнадцать пудов? А нынче цена вышла-бы по четвертному билету за пуд... Сосчитай-ка... восемнадцать четвертных... двести пятьдесят да двести – четыреста пятьдесят и выйдет. А мы-то за сотельный билет просолили медведицу... Половецкий даже покраснел, слушая этот разговор. Мужички – медвежатники, обкладывавшие медвежьи берлоги, конечно, сейчас не узнали-бы его, хотя и говорили именно о нем. Ах, как давно все это было... Да, он убил медведицу и был счастлив этим подвигом, потому что до известной степени рисковал собственной жизнью. А к чему он это делал? Сейчас он решительно не мог бы ответить. Рыжий медвежатник только делал вид, что не узнал Половецкаго, и с расчетом назвал его фамилию. Ишь, как перерядился, точно собрался куда-нибудь на богомолье. Когда пароход, наконец, отвалил, он подошел к Егорушке и спросил: – А давно вон тот барин едет? – А ты его знаешь? – обрадовался Егорушка. – Случалось... На медведя вместе хаживали. Михайлой Петровичем звать. Ловкий, удалый барин... Он тогда служил офицером, жена красавица, все было по богатому. – Так, так... А я то и ни весть чего надумался о нем. Сел он прошлой ночью за Красным Кустом. Так-с... Ах, ты грех какой вышел... – У него большущее имение в Тверской губернии, да у жены два в нашей Новогородской. Одним словом, жили светленько... – Проигрался в карты – вот и все,– решил Егорушка, махнув рукой. А я то, дуралей, всю ночь караулил... Думаю, сблаговестит он у меня кастрюли. – Куда бы ему, кажется, ехать,– соображал мужичок, подергивая бородку. – И с котомкой едет... Не спроста дело. Егорушка только крутил головой. Нынче мудреные и господа пошли, не то, что прежде. Один председатель из настоящих господ и остался. Половецкий видел особу, из-за которой пароход простоял на пристани целых пять часов. Это был брюзглый, прежде времени состарившийся господин в штатском костюме. Он шел с какой-то особой важностью. Его провожали несколько полицейских чинов и какие-то чиновники не из важных. Вглядевшись в этого господина, Половецкий узнал своего бывшаго приятеля по корпусу. Боже мой, как он изменился и постарел за последние года, когда бросил Петербург и посвятил себя провинциальной службе. По жене Половецкий призодился ему дальним родственником. Перед отездом из Петербурга Половецкий прочел в газетах о назначении Палтусова на выдающийся пост, но не знал, котораго из братьев. «Председатель» Иван Павлыч так и вытянулся пред особой, но Палтусов едва отдал ему поклон. Это было олицетворение чиновничьяго тщеславия. – «Ведь и я мог быть таким же»,– с улыбкой подумал Половецкий, припоминая по ассоциации идей целый ряд пристроившихся по теплым местам товарищей. Ему почему-то сделалось даже жаль этого важничавшаго господина. Сколько тут лжи, а главное – человек из всех сил старается показать себя совсем не тем, что он есть на самом деле. Все это видят и знают и стараются пресмыкаться. Быть самим собой – разве это не величайшее счастье? О, как он доволен был теперешним своим настроением, той согревающей душевной полнотой, о которой еще недавно он не имел даже приблизительнаго представления. И все кругом было так тесно связано между собой, представляя собой одно целое. Вот и повар Егорушка с его красным носом близок ему, и мужички медвежатники, и брат Павлин. Здесь все так просто и ясно... Кстати, Егорушка несколько раз подходил к нему и как-то подобострастно и заискивающе спрашивал: – Не прикажете-ли чего нибудь, ваше благородие? – Почему ты думаешь, что я благородие? – Помилуйтес, сразу видно... В кирасирском полку изволили служить? – В кавалерии... – Так-с. Лучше военной службы ничего нет. Благородная службас... У всякаго свой гонор-с. Егорушка уже успел сообщить брату Павлину все, что выспросил у медвежатника про Половецкаго, но брат Павлин даже не удивился. – У нас в обители жил один барин в этом роде,– кротко обясяял он. – Настоящий барин. Даже хотел монашество принять, но игумен его отговорил. Не господское это дело... Послушание велико, не выдеряш. Тяжело ведь с гордостью-то разставаться... Ниже всех надо себя чувствовать. – Да, трудновато...– согласился Егорушка.– Вот хоть до меня коснись – горд я и никому не уступлю. Игумен бы мне слово, а я ему десять. Половецкий заказал чай и пригласил брата Павлина, который счел долгом отказаться несколько раз. – Мне скучно одному,– обяснил Половецкий. За чаем он подробно разспрашивал брата Павлина о всех порядках обительской жизни, о братии, игумене и о всем обительском укладе. – У нас обитель бедная, и все на крестьянскую руку,– обяснял брат Павлин. – И сам игумен из крестьян... Один брат Ираклий из духовнаго звания. Ну, и паства вся тоже крестьянская и работа... – А посторонние бывают? – Конечно, наезжают. Купчиха одна живет по целым неделям. О муже покойном все убивается... Страсть тоскует. А, ведь, это грешно, т. е. отчаяние, когда человек возлюбит тварь паче Бога. Он хоть и муж ей был, а все таки тварь. Это ей игумен обяснял при всей братии. Он умеет у нас говорить. До слез доводит... Только с одним братом Ираклием ничего не может поделать. Строптивец и постоянно доносы пишет... И про купчиху архиерею жаловался, и меня тут же приплел... А я его все-таки люблю, когда у него бывает просветление души. – А новых братьев принимают в обитель? – спросил Половецкий. – А этого я уж не могу знать. Все зависит у нас от игумена... Так приезжают и живут. Только больше месяца оставаться игумен не позволяет. Когда вечером пароход подходил уже к Бобыльску, Половецкий спросил брата Павлина: – А если я приду к вам в обитель, меня примут? – Даже очень хорошо примут... Игумен будет рад. – Вы будете ночевать в городе? – Придется... Одному-то ночью как-то неудобно идти. – Пойдемте вместе. Брат Павлин недоверчиво посмотрел на Половецкаго и кротко согласился. Когда Половецкий выходил с парохода, на сходнях его догнал повар Егорушка и, задыхаясь, проговорил: – А, ведь, Павел-то Митрич, г. Половецкий, померши... Ах, что только и будет!.. – Какой Павел Митрич? – А Присыпкин... Какой человек-то был!.. – Какой человек? – А наш, значит, природный исправник... Семнадцать лет выслужил. Отец родной был... – А как вы узнали мого фамилию? – Помилуйте, кто-же вас не знает... Мужички медвежатники все обсказали. Да... Ах, Павел Митрич, Павел Митрич... Половецкому было очень неприятно, что его фамилия была открыта. Егорушка страдал старческой болтливостью и, наверно, разскажет всему пароходу. – Егорушка, вы молчите, что видели меня,– просил он. – Помилуйте, барин, да из меня слова-то топором не вырубишь... Так, с языка сорвалось. Ах, Павел Митрич... В подтверждение своих слов Егорушка бросился на пароход, розыскал «председателя» Ивана Павлыча и разсказал ему все о Половецком, с необходимыми прибавлениями: – В обитель они пошли с братом Павлином... Надо полагать, пострижение хотят принять. – Половецкий... да, Половецкий... гм...– тянул из себя слова Иван Павлыч.– Фамилия известная... А как его зовут? – А вот имя-то я и забыл... Михайлой... – Михаил Петрович? – Вот, вот... В кирасирах служили, а сейчас с котомочкой изволят идти на манер странника... А Павел то Митрич? – Да, приказал долго жить... – Какой человек был, какой человек... – Да, порядочный негодяй,– отрезал Иван Павлыч, ковыряя в зубах. Егорушка даже отступил в ужасе, точно «председатель» в него выстрелил, а потом проговорил: – Действительно, оно того... да... Можно сказать, даже совсем вредный был человек, не тем будь помянут. Половецкий и брат Павлин остановились переночевать в Бобыльске на постоялом дворе. И здесь все было наполнено тенью Павла Митрича Присыпкина. Со всех сторон сыпались всевозможныя воспоминания, пересуды и соображения. – И что только будет...– повторял рыжебородый дворник, как повар Егорушка. Проезжаго нарола набралось много, и негде было яблоку упасть. Брат Павлин устроил место Половецкому на лавке, а сам улегся на полу. – Вам это непривычно по полу валяться, а мы – люди привычные,– обяснял он, подмащивая в головы свою дорожную котомку.– Что-то у нас теперь в обители делается... Ужо завтра мы утречком пораньше двинемся, чтобы по холодку пройти. Как раз к ранней обедне поспеем... Половецкий почти не спал опять целую ночь. В избе было душно. А тут еще дверь постоянно отворялась. Входили и выходили приезжие. На дворе кто-то ругался. Ржали лошади, просившия пить. Все это для Половецкаго было новым, неизвестным, и он чувствовал себя таким лишним и чужим, как выдернутый зуб. Тут кипели свои интересы, которых он в качестве барина не понимал. На него никто не обращал внимания. Лежа с открытыми глазами, Половецкий старался представить себе будущую обитель, суроваго игумена, строптивца Ираклия, весь уклад строгой обительской жизни. Он точно прислушивался к самому себе и проверял менявшееся настроение. Это был своего рода пульс, с своими повышениями и понижениями. И опять выплывала застарелая тоска, точно с ним рядом сидел его двойник, от котораго он не мог избавиться, как нельзя избавиться от собственной тени. Половецкий не знал, спал он или нет, когда брат Павлин поднялся утром и начал торопливо собираться в дорогу. – Ох, не опоздать-бы к обедне...– думал он вслух.– Брат Ираклий вот какое послушание задаст... – Ведь он не игумен,– заметил Половецкий. – Он и игумну спуску не дает... Особенный человек. Так смотреть, так злее его нет и человека на свете. А он добрый. Чуть что и заплачет. Когда меня провожал – прослезился... А что я ему? Простец, прямо человек от пня... Не смотря на раннее утро, город уже начинал просыпаться. Юркое мещанство уже шныряло по улицам, выискивая свой дневной труд. Брат Павлин показал царский дуб и мост, с котораго Иван Грозный бросал бобыльцев в реку. – Несчетное множество народу погубил,– обяснял он со вздохом.– Года с три город совсем пустой стоял, а потом опять заселился. Миновав грязное даже в жаркую пору предместье, они пошли по пыльному, избитому тракту. Кругом не было видно ни одного деревца. Сказывался русский человек, который истребляет лес до последняго кустика. Тощий выгон, на котором паслись тощия городския коровенки, кое-где тощия пашни. Брат Павлин шагал какой-то шмыгающей походкой, сгорбившись и размахивая длинными руками. Он теперь казался Половецкому совсем другим человеком, чем на пароходе, как кажутся в поле или в лесу совсем другими лошади и собаки, которых глаз привык видеть в их домашней обстановке. – А вот и наша монастырская повертка,– радостно проговорил брат Павлин, когда от тракта отделилась узенькая проселочная дорожка.– Половину дороги прошли... Впереди виднелся тощий болотный лесок с чахлыми березками, елочками и вербами. Почва заметно понижалась. Чувствовалась близость болота. Луговая трава сменилась жесткой осокой. Пейзаж был незавидный, но он нравился Половецкому, отвечая его настроению. Деревья казались ему живыми. Ведь никакое искусство не может создать вот такую чахлую березку, безконечно красивую даже в своем убожестве. В ней чувствовалось что-то страдающее, неудовлетворенное... Тощая почва, как грудь голодной матери, не давала питания. Ведь у такой голодной березки есть своя физиономия, и она смотрит на вас каждым своим бледным листочком, тянется к вам своими исхудалыми, заморенными веточками и тихо жалуется, когда ее всколыхнет шальной ветерок. И сколько в этом родного, сколько родной русской тоски.. А бледные, безымянные цветики, которые пробивались из жесткой болотной травы, как заморенныя дети... Ведь и в душе человека растет такая жесткая трава, с той разницей, что в природе все справедливо, до последней, самой ничтожной былинки, а человек несет в своей душе неправду. Чахлый лесок скоро сменился болотными зарослями. Дорожка виляла по сухим местам, перебегала по деревянным мостикам и вела вглубь разроставшагося болота. – Слава Богу! – проговорил брат Павлин, откладывая широкий кресть. – Что такое? – А звонят к заутрени... Половецкому нужно было остановиться, чтобы разслышать тонкий певучий звук монастырскаго колокола, протянувшийся над этим болотом. Это был медный голос, который звал к себе... Половецкий тоже перекрестился, не отдавая себе отчета в этом движении. – Радость-то, радость-то какая...– шептал брат Павлин, ускоряя шаг.– Это брат Герасим звонит. Он у нас один это понимает. Кажется, чего проще ударить в колокол, а выходит то, да не то... Брат Герасим не совсем в уме, а звонить никто лучше его не умеет. Они прошли болотом версты четыре, пока из-за лесного островка блеснул крест монастырской колокольни. Брат Павлин начал торопливо креститься, а Половецкий почувствовал, как у него сердце точно сжалось. Возвращающийся из далекаго, многолетняго странствования путешественник, вероятно, испытывает то же самое, когда увидит кровлю родного дома. – Скоро будем и дома... – ответил на его тайную мысль брат Павлин. В дороге люди настолько сближаются, что начинают понимать друг друга без слов. Брат Павлин прибавил шагу и несколько раз оборачивался, глядя на Половецкаго улыбавшимися глазами, как будто желал его ободрить. Обитель точно утонула в болоте. Дорога колесила, пробираясь сухими местами. Перекинутые временные мостики показывали черту весенняго половодья. Неудобнее места трудно было себе представить, но какая-то таинственная сила чувствовалась именно здесь. Есть обители нарядныя, показныя, которыя красуются на видных местах, а тут сплошное болото освещалось тихим голосом монастырскаго колокола, призывавшим к жизни. – Хорошо...– ответил брат Павлин на тайную мысль Половецкаго.– Лучше места нет... Отишие у нас. Очень уж я возлюбил нашу тишину... Душа радуется к молитве. Самая обитель показалась как-то сразу. Старинная белая церковь занимала центр, а вокруг нея жались в живописном безпорядке низенькия каменныя и бревенчатыя пристройки. Была и монастырская стена с узенькими оконцами, обрешетченными железными прутьями. Виднелась немного в стороне другая церковка, низенькая, с плоской крышей, тонкими главами и стоявшей отдельно колокольней. Хозяйственныя постройки помещались за монастырской оградой, образуя отдельный двор. Из-за монастыря, через редкую сетку сосен и елей, блестело озеро. Чем-то тихим и забытым веяло от этой обители, и Половецкий облегченно вздохнул. У открытых монастырских ворот стояла крестьянская телега, в которой лежала какая-то исхудалая баба с лихорадочно горевшими глазами. – Одержимая... – обяснил брат Павлин. – У нас много таких бывает, которые ищут благодати. – «Ведь и я тоже одержимый»...– невольно подумал Половецкий.– «И тоже пришел искать благодати»...