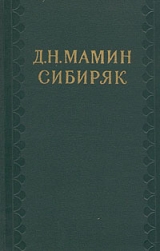
Текст книги "Том 7. Три конца. Охонины брови"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
После обеда Груздев прилег отдохнуть, а Анфиса Егоровна ушла в кухню, чтобы сделать необходимые приготовления к ужину. Нюрочка осталась в чужом доме совершенно одна и решительно не знала, что ей делать. Она походила по комнатам, посмотрела во все окна и кончила тем, что надела свою шубку и вышла на двор. Ворота были отворены, и Нюрочка вышла на улицу. Рынок, господский дом, громадная фабрика, обступившие завод со всех сторон лесистые горы – все ее занимало.
– Берегись, замну!.. – крикнул над ее головой знакомый голос.
Нюрочка даже вскрикнула со страха. Это был Вася, подъехавший верхом на гнедом иноходце. Он держался в седле настоящим молодцом, надвинув черную шапочку из мерлушки-каракулки на ухо. Синий бешмет перехвачен был кавказским серебряным поясом.
– Что, испугалась? – весело спрашивал Вася, блестя глазами. – Не хочешь ли прокатиться верхом?
Не дождавшись ответа, он круто повернул лошадь на одних задних ногах и помчался по площади. Нюрочка еще в первый раз в жизни позавидовала: ей тоже хотелось проехать верхом, как Вася. Вернувшись, Вася на полном ходу соскочил с лошади, перевернулся кубарем и проговорил деловым тоном:
– А я у вас на Ключевском был… к вам заходил, да не застал дома. Отцу нужно было нарочного посылать, ну, он и послал меня.
– Ты один ездил?
– Конечно, один… Няньку, что ли, мне нужно? Эх ты, плакса!..
Нюрочка разговаривала с Васей и чувствовала, что нисколько не боится его. Да и он в этот год вырос такой большой и не смотрел уже тем мальчишкой, который лазал с ней по крышам.
– Я тебе своих голубей покажу, Нюра, – прежним серьезным тоном заявил Вася, но, подумавши, прибавил: – Нет, сначала сбегаем вон туда, где контора… Там такая штука стоит.
Дети, взявшись за руки, весело побежали к лавкам, а от них спустились к фабрике, перешли зеленый деревянный мост и бегом понеслись в гору к заводской конторе. Это было громадное каменное здание, с такими же колоннами, как и господский дом. На площадь оно выступало громадною чугунною лестницей, – широкие ступени тянулись во всю ширину здания.
– Вот смотри, какие у нас пильщики! – крикнул Вася, подбегая к решетке стоявшего посреди площади памятника.
Это был великолепный памятник, воздвигнутый благодарными наследниками «фундатору» заводов, старику Устюжанинову. Центр занимала высокая бронзовая фигура в костюме восемнадцатого века. Ее окружали аллегорические бронзовые женщины, изображавшие промышленность, искусство, торговлю и науки. По углам сидели бронзовые музы. Памятник был сделан в Италии еще в прошлом столетии.
– Это памятник, а не пильщики, – заметила Нюрочка, с любопытством оглядывая необыкновенное сооружение.
– Говорят тебе: пильщики… Один хохол приехал из Ключевского ночью, посмотрел на памятник, а потом и спрашивает: «Зачем у вас по ночам пильщики робят?»
– Неправда!.. Это ты сам придумал…
Вместо ответа Вася схватил камень и запустил им в медного заводовладельца. Вот тебе, кикимора!.. Нюрочке тоже хотелось бросить камнем, но она не посмела. Ей опять сделалось весело, и с горы она побежала за Васей, расставив широко руки, как делал он. На мосту Вася набрал шлаку и заставил ее бросать им в плававших у берега уток. Этот пестрый стекловидный шлак так понравился Нюрочке, что она набила им полные карманы своей шубки, причем порезала руку.
– Мне отец обещал купить ружье, – утешал ее Вася. – А кровь – это пустяки.
Петр Елисеич вернулся из господского дома темнее ночи. Он прошел прямо в кабинет Груздева и разбудил его.
– А, это ты… – бормотал Груздев спросонья. – Ну, что?..
– Ничего…
– Как ничего?
– Да так… От службы отказали.
– Не может быть!.. Постой, расскажи, как было дело.
Шагая по комнате, Петр Елисеич передал подробно свой разговор с Лукой Назарычем. Широкое бородатое лицо Груздева выражало напряженное внимание. Он сидел на диване в драповом халате и болтал туфлями.
– Вообще все кончено, – заключил свой рассказ Петр Елисеич. – Тридцать лет работал я на заводах, и вот награда…
– Да ведь прямо он не отказывал тебе?
– Чего же еще нужно? Я не хочу навязываться с своими услугами. Да, я в этом случае горд… У Луки Назарыча давно намечен и преемник мне: Палач… Вот что обидно, Самойло Евтихыч! Назначь кого угодно другого, я ушел бы с спокойным сердцем… А то Палач!
– Ну, это все равно, по-моему: кто ни поп, тот и батька… Эх, говорил я тебе тогда… Помнишь? Все это твой проект.
Петр Елисеич весь вспыхнул.
– Нет, я не раскаиваюсь в этом, – ответил он дрожащим голосом. – Каждый порядочный человек должен был сделать то же самое.
– Сила солому ломит, Петр Елисеич… Ну, да что сделано, то сделано, и покойников с кладбища назад не носят. Как же ты теперь жить-то будешь, голубчик?
– Я? А, право, и сам не знаю… Есть маленькие деньжонки, сколочены про черный день, так их буду проедать, а потом найду где-нибудь место на других заводах. Земля не клином сошлась…
– Невозможно, Петр Елисеич! – спорил Груздев. – Не такое это дело, чтобы новые места нам с тобой разыскивать… Мохом мы с тобой обросли, вот главная причина. Знаешь, как собака: ее палкой, а она все к хозяину лезет…
– Ну, уж извини: ты меня плохо знаешь!
– Да ты говоришь только о себе сейчас, а как подумаешь, так около себя и других найдешь, о которых тоже нужно подумать. Это уж всегда так… Обидно, несправедливо, а других-то и пожалеешь. Фабрику свою пожалеешь!..
– Что делать, а я все-таки не могу иметь дела с мерзавцами.
– Да ведь и Лука-то Назарыч сегодня здесь и велик, а завтра и нет его. Все может быть…
Вечер прошел в самом грустном настроении. Петр Елисеич все молчал, и хозяева выбивались из сил, чтобы его утешить и развлечь. Особенно хлопотала Анфиса Егоровна. Она точно чувствовала себя в чем-то виноватой.
– Ах, какое дело!.. – повторял время от времени сам Груздев. – Разве так можно с людьми поступать?.. Вот у меня сколько на службе приказчиков… Ежели человек смышленый и не вороватый, так я им дорожу. Берегу его, а не то чтобы, например, в шею.
– Ну, уж ты расхвастался с своими приказчиками, – заметила Анфиса Егоровна. – Набрал с ветру разных голышей… Не стало своих-то, так мочеган нахватал…
– А что же, околевать ему, мальчонке, по-твоему?.. Что кержак, что мочеганин – для меня все единственно… Вон Илюшка Рачитель, да он кого угодно за пояс заткнет! Обстоятельный человек будет…
– Оберут они тебя, твои-то приказчики, – спорила Анфиса Егоровна. – Больно уж делами-то раскидался… За всем не углядишь.
– Только бы я кого не обобрал… – смеялся Груздев. – И так надо сказать: бог дал, бог и взял. Роптать не следует.
За ужином, вместе с Илюшкой, прислуживал и Тараско, брат Окулка. Мальчик сильно похудел, а на лице у него остались белые пятна от залеченных пузырей. Он держался очень робко и, видимо, стеснялся больше всего своими новыми сапогами.
– Брат Окулка-то, – объяснил Груздев гостю, когда Тараско ушел в кухню за жареным. – А мне это все равно: чем мальчонко виноват? Потом его паром обварило на фабрике… Дома холод да голод. Ну, как его не взять?.. Щенят жалеют, а живого человека как не пожалеть?
– Доброе дело, – согласился Петр Елисеич, припоминая историю Тараска. – По-настоящему, мы должны были его пристроить, да только у нас такие порядки, что ничего не разберешь… Беда будет всем этим сиротам, престарелым и увечным.
Анфиса Егоровна примирилась с расторопным и смышленым Илюшкой, а в Тараске она не могла забыть родного брата знаменитого разбойника Окулка. Это было инстинктивное чувство, которого она не могла подавить в себе, несмотря на всю свою доброту. И мальчик был кроткий, а между тем Анфиса Егоровна чувствовала к нему какую-то кровную антипатию и даже вздрагивала, когда он неожиданно входил в комнату.
Когда ужин кончился, Анфиса Егоровна неожиданно проговорила:
– А что вы думаете, Петр Елисеич, относительно Самосадки?
– То есть как «что»? – удивился Мухин.
– Да так… У нас там теперь пустует весь дом. Обзаведенье всякое есть, только живи да радуйся… Вот бы вам туда и переехать.
– В самом деле, отличная бы штука была! – согласился Груздев с женой. – Дом отличный… Живи себе.
– Вместо караульщика? – ответил Мухин с печальною улыбкой. – Спасибо… Нужно будет подумать.
– И думать тут не о чем, – настаивал Груздев, с радостью ухватившись за счастливую мысль. – Не чужие, слава богу… Сочтемся…
– А как старушка-то Василиса Корниловна будет рада! – продолжала свою мысль Анфиса Егоровна. – На старости лет вместе бы со всеми детьми пожила. Тоже черпнула она горя в свою долю, а теперь порадуется.
– Нужно серьезно подумать, Анфиса Егоровна, – говорил Мухин. – А сегодня я в таком настроении, что как-то ничего не понимаю.
Присутствовавшие за ужином дети совсем не слушали, что говорили большие. За день они так набегались, что засыпали сидя. У Нюрочки сладко слипались глаза, и Вася должен был ее щипать, чтобы она совсем не уснула. Груздев с гордостью смотрел на своего молодца-наследника, а Анфиса Егоровна потихоньку вздыхала, вглядываясь в Нюрочку. «Славная девочка, скромная да очестливая», – думала она матерински. Спать она увела Нюрочку в свою комнату.
В доме Груздева ложились и вставали рано, как он привык жить у себя на Самосадке. Гости задержали дольше обыкновенного. Петру Елисеичу был отведен кабинет хозяина, но он почти не ложился спать, еще раз переживая всю свою жизнь. Вот налетело горе, и не с кем поделиться им… Нет ласковой женской руки, которая делает незаметным бремя жизни. Участие Груздевых и их семейная жизнь еще сильнее возбуждали в нем зарытое в землю горе. Чужое семейное счастье делало его собственное одиночество еще печальнее… Но он был не один, и это еще сильнее беспокоило его. Он теперь чувствовал то, что было недосказано тою же Анфисой Егоровной.
Петр Елисеич ложился на диван и не мог заснуть. Он как-то всегда не любил Мурмос, и вот беда налетела на него именно здесь. Но что значит он, прогнанный со службы управитель, когда дело идет, быть может, о тысячах людей? Думать о других всегда лучшее утешение в своем собственном горе, и Петр Елисеич давно испытал это всеисцеляющее средство. В вентилятор доносился к нему шум работавшей фабрики. Как он любил это заводское дело, которое должен оставить неизвестно для чего! Между тем он еще в силах и мог быть полезным. Мысли в его голове путались, а фантазия вызывала целый ряд картин из доброго старого времени. Господи, сколько было совершено в том же Мурмосе ненужных и бессмысленных жестокостей сначала фундатором заводов, а потом своими крепостными управляющими! И для чего все это делалось?.. А что даст будущее?.. Неужели будут только повторяться старые ошибки в новой форме?
IIIВозвращаясь на другой день домой, Петр Елисеич сидел в экипаже молча: невесело было у него на душе. Нюрочка, напротив, чувствовала себя прекрасно и даже мурлыкала, как котенок, какую-то детскую песенку. Раз она без всякой видимой причины расхохоталась.
– Что с тобой, крошка? – невольно улыбнулся Петр Елисеич.
– Ах, папа… какой этот Вася смешной!.. Пильщики…
Задыхаясь от нового прилива смеха, Нюрочка рассказала анекдот, как хохол принял памятник Устюжанинову за пильщиков. Петр Елисеич тоже смеялся, поддаваясь этому наивному детскому веселью. Потом Нюрочка вдруг притихла и сделалась грустной.
– Ну, что ты молчишь, девочка? – спрашивал Петр Елисеич.
– Так.
– Это не ответ… Тебе весело было в Мурмосе?
– Очень.
– О чем же ты сейчас так задумалась?
– Так… Я думаю вот о чем, папа: если бы я была мальчиком, то…
– То не была бы девочкой, да?
– Нет, не так… Мальчик лучше девочки. Вон и Домнушка хоть и бранит Васю, а потом говорит: «Какой он молодец». Про меня никто этого не скажет, потому что я не умею ездить верхом, а Вася вчера один ездил.
– Ах ты, моя маленькая женщина! – утешал ее Петр Елисеич, прижимая белокурую головку к своему плечу. – Во-первых, нельзя всем быть мальчиками, а во-вторых… во-вторых, я тебе куплю тоже верховую лошадь.
– Живую лошадь?
– Настоящую лошадь и с седлом… Сам буду с тобой ездить.
– И серебряный пояс, как у Васи?
– Можно и пояс.
Это обещание совершенно успокоило Нюрочку, хотя в глубине ее детской души все-таки осталось какое-то неудовлетворенное, нехорошее чувство. В девочке с мучительною болью бессознательно просыпалась женщина. Вращаясь постоянно в обществе больших, Нюрочка развилась быстрее своих лет. Маленькое детское тело не поспевало за быстро работавшею детскою головкой, и в этом разладе заключался источник ее задумчивости и первых женских капризов, как было и сейчас. Петр Елисеич только тяжело вздохнул, чувствуя свою полную беспомощность: девочка вступала в тот формирующий, критический возраст, когда нужна руководящая, любящая женская рука.
Дома Петра Елисеича ждала новая неприятность, о которой он и не думал. Не успел он войти к себе в кабинет, как ворвалась к нему Домнушка, бледная, заплаканная, испуганная. Она едва держалась на ногах и в первое мгновение не могла выговорить ни одною слова, а только безнадежно махала руками.
– Что с тобой, Домнушка? – спросил Петр Елисеич. – Что случилось?
– Ох, смертынька моя пришла, барин! – запричитала Домнушка, комом падая в ноги барину. – Пришел он, погубитель-то мой… Батюшки мои светы, головушка с плеч!..
– Какой погубитель? Говори, пожалуйста, толком.
– Да солдат-то мой… Артем… В куфне сейчас сидел. Я-то уж мертвым его считала, а он и выворотился из службы… Пусть зарежет лучше, а я с ним не пойду!
– Что же я могу сделать, Домнушка? – повторял Петр Елисеич, вытирая лицо платком. – Он муж, и ты должна…
– Поговорите вы с ним, барин! – голосила Домнушка, валяясь в ногах и хватая доброго барина за ноги. – И жалованье ему все буду отдавать, только пусть не тревожит он меня.
Нюрочка слушала причитанье Домнушки и так напугалась, что у ней побелели губы. Бежавшая куда-то опрометью Катря объявила на ходу, что пришел «Домнушкин солдат».
– О чем же Домнушка так плачет? – недоумевала Нюрочка.
– Ах, ничего вы не понимаете, барышня! – грубо ответила Катря, – она в последнее время часто так отвечала. – Ваше господское дело, а наше – мужицкое.
Любопытство Нюрочки было страшно возбуждено, и она, преодолевая страх, спустилась на половину лестницы в кухню. Страшный «Домнушкин солдат» действительно сидел на лавке у самой двери и, завидев ее, приподнялся и поклонился. Он не показался ей таким страшным, а скорее жалким: лицо худое, загорелое, рубаха грязная, шинель какая-то рыжая. Решительно ничего страшного в нем не было. Нюрочка постояла на лестнице и вернулась. Навстречу ей из кабинета показался Петр Елисеич: он шел в кухню объясниться с солдатом и посмотрел на Нюрочку очень сурово, так что она устыдилась своего любопытства и убежала к себе в комнату.
Спустившись в кухню, Петр Елисеич поздоровался с солдатом, который вытянулся перед ним в струнку.
– Садись, любезный…
– Можем и постоять, вашескородие.
– Что же, ты хочешь взять у меня кухарку?
– Точно так-с.
– Но ведь она живет на месте, зачем же ее отрывать от работы?.. Она жалованье получает…
– Много благодарны, Петр Елисеич, за вашу деликатность, а только Домна все-таки пусть собирается… Закон для всех один.
– Какой закон?
– А касаемо, то есть, мужних жен… Конечно, вашескородие, она по своей бабьей глупости только напрасно вас беспокоила, а потом привыкнет. Один закон, Петр Елисеич, ежели, например, баба… Пусть она собирается.
Сколько Петр Елисеич ни уговаривал упрямого солдата, тот по-горбатовски стоял на своем, точно на пень наехал, как выражался Груздев. Он не горячился и даже не спорил, а вел свою линию с мягкою настойчивостью.
– Мое дело, конечно, сторона, любезный, – проговорил Петр Елисеич в заключение, чувствуя, что солдат подозревает его в каких-то личных расчетах. – Но я сказал тебе, как лучше сделать по-моему… Она отвыкла от вашей жизни.
– Пустое это дело, Петр Елисеич! – с загадочною улыбкой ответил солдат. – И разговору-то не стоит… Закон один: жена завсегда подвержена мужу вполне… Какой тут разговор?.. Я ведь не тащу за ворот сейчас… Тоже имею понятие, что вам без куфарки невозможно. А только этого добра достаточно, куфарок: подыщете себе другую, а я Домну поворочу уж к себе.
Домнушка так и не показалась мужу. Солдат посидел еще в кухне, поговорил с Катрей и Антипом, а потом побрел домой. Нюрочка с нетерпением дожидалась этого момента и побежала сейчас же к Домнушке, которая спряталась в передней за вешалку.
– Солдат ушел, Домнушка.
Это известие нисколько не обрадовало Домнушку, и она опять запричитала:
– Придет он опять, Нюрочка… Ох, головушка моя спобедная!
Это происшествие неприятно взволновало Петра Елисеича, и он сделал выговор Домнушке, зачем она подняла рев на целый дом. Но в следующую минуту он раскаялся в этой невольной жестокости и еще раз почувствовал себя тяжело и неприятно, как человек, поступивший несправедливо. Поведение Катри тоже его беспокоило. Ему показалось, что она начинает третировать Нюрочку, чего не было раньше. Выждав минуту, когда Нюрочки не было в комнате, он сделал Катре замечание.
– Так нельзя, Катря, – закончил он с невольною ласковостью в голосе.
– А мне усё равно… – грубо ответила Катря, не глядя на него. – Раньше усем угодила, а теперь с глаз гоните…
– Никто тебя не гонит, с чего ты взяла?
– Несчастная я, вот что!..
Для полноты картины недоставало только капризов Катри. Петр Елисеич ушел к себе в кабинет и громко хлопнул дверью, а Катря убежала в кухню к Домнушке и принялась голосить над ней, как над мертвой.
Петр Елисеич долго шагал по кабинету, стараясь приучить себя к мысли, что он гость вот в этих стенах, где прожил лет пятнадцать. Да, нужно убираться, а куда?.. Впрочем, в резерве оставалась Самосадка с груздевским домом. Чтобы развлечься, Петр Елисеич сходил на фабрику и там нашел какие-то непорядки. Между прочим, досталось Никитичу, который никогда не слыхал от приказчика «худого слова».
– Бог с тобой, Петр Елисеич, – пристыженно говорил Никитич, держа шляпу в руках. – Напрасно ты меня обидел.
– Ты со мной разговаривать?.. – неожиданно накинулся на него Петр Елисеич. – Я тебе покажу… я… я…
Опомнившись вовремя, Петр Елисеич только махнул рукой и отправился прямо в сарайную к старому другу Сидору Карлычу. Тот сидел за самоваром и не выразил ни удивления, ни радости.
– Ну что, как поживаешь? – спрашивал Петр Елисеич. – Как здоровье? Хорошо?
– Пожалуй.
Петр Елисеич зашагал по комнате, перебирая в уме ряд сделанных сегодня несправедливостей. Да, очень хорош… Ко всем придирался, как сумасшедший, точно кто-нибудь виноват в его личных неудачах. Пересилив себя, Петр Елисеич старался принять свой обыкновенный добродушный вид.
– Вот что, Сидор Карпыч… – заговорил он после некоторой паузы. – Мне отказали от места… Поедешь со мной жить на Самосадку?
– Пожалуй.
Петр Елисеич с каким-то отчаянием посмотрел на застывшее лицо своего единственного друга и замолчал. До сих пор он считал его несчастным, а сейчас невольно завидовал этому безумному спокойствию. Сам он так устал и измучился.
Вечером, когда Нюрочка пришла прощаться, Петр Елисеич обнял ее и привлек к себе.
– Нюрочка, нужно собираться: мы переедем жить в Самосадку, – проговорил он, стараясь по лицу девочки угадать произведенное его словами впечатление. – Это не скоро еще будет, но необходимо все приготовить.
Нюрочка осталась совершенно равнодушна к этому известию, что удивило Петра Елисеича.
– Ты слышала, о чем мы говорили вчера за ужином? – спросил он.
– Да… Мы будем жить у Самойла Евтихыча, – отчетливо ответила Нюрочка.
– Не у Самойла Евтихыча, а только в его доме… Может быть, тебе не хочется переезжать в Самосадку?
– Нет, я хочу… Там бабушка Василиса… лес…
У Нюрочки что-то было на уме, что ее занимало больше, чем предстоявший переезд в Самосадку. На прощанье она не выдержала и проговорила:
– Папа, солдат будет очень бить Домнушку?
Сразу Петр Елисеич не нашелся, что ей ответить.
– Это не наше дело… – заговорил он после неприятной паузы. – Да и тебе пора спать. Ты вот бегаешь постоянно в кухню и слушаешь все, что там говорят. Знаешь, что я этого не люблю. В кухне болтают разные глупости, а ты их повторяешь.
Выдастся же этакий денек!.. Петр Елисеич никогда не сердился на Нюрочку, а тут был даже рад, когда она ушла в свою комнату.
Можно себе представить удивление Никитича, когда после двенадцати часов ночи он увидал проходившего мимо его корпуса Петра Елисеича. Он даже протер себе глаза: уж не блазнит ли, грешным делом? Нет, он, Петр Елисеич… Утром рано он приходил на фабрику каждый день, а ночью не любил ходить, кроме редких случаев, как пожар или другое какое-нибудь несчастие. Петр Елисеич обошел все корпуса, осмотрел все работы и завернул под домну к Никитичу.
– Ну что, Никитич, обидел я тебя давеча? – заговорил он ласково.
– Што ты, Петр Елисеич?.. Не всякое лыко в строку, родимый мой. Взъелся ты на меня даве, это точно, а только я-то и ухом не веду… Много нас, хошь кого вышибут из терпения. Вот хозяйка у меня посерживается малым делом: утром половик выкинула… Нездоровится ей.








