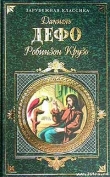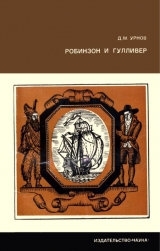
Текст книги "Робинзон и Гулливер
Судьба двух литературных героев"
Автор книги: Дмитрий Урнов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Власть саморазвивающегося вымысла действует по-ноздревски. Излагая залихватские россказни Ноздрева, Гоголь говорит: «Сами собой представились такие интересные подробности, что удержаться не было никакой возможности». И Ноздрев начал выдумывать и рассказывать. Он перебарщивает. Если бы Ноздрев способен был выдержать меру, то именно благодаря «интересным подробностям» достоверность обрели бы все его выдумки.
Почти всему верят перепуганные чиновники, что ни скажет Ноздрев. И тому, что замышлялось похищение губернаторской дочки и что Ноздрев был в том главный соучастник: он ведь предоставил для этого свою бричку. Мало этого, Ноздрев пускается в сугубые уточнения: «поп, отец Сидор, деревня Трухмачевка, за венчание 75 рублей». Ноздрев, казалось бы, разоблачает сам себя, допуская мелкие несоответствия и вызывая вопрос: «Кому же, наконец, ты отдал бричку – попу или лабазнику?» Однако вопрос обозначает ту же степень доверия рассказчику, когда читатель, завороженный небылицами про лилипутов и великанов, оказывает робкое сопротивление: «Кое-что малодостоверно». Ноздрев, известно, не писатель. Он обладает лишь долей дарования ко «вдохновенной лжи», к тому «нас возвышающему обману», без которого настоящее творчество также не обходится. В творчестве «обман» под контролем. Робинзон или Гулливер, фантазируя, не дадут читателю застать себя врасплох каким-нибудь неудобным вопросом. Капитан Гулливер сам, опережая вопрос, ответит, почему не захватил с собой нескольких лилипутов и почему не укажет он путь в удивительные страны. У Дефо это называлось «правдивой ложью». Робинзон по мановению Дефо расскажет больше и прежде того, чем успеет о том же подумать и спросить читатель. «Помните мою собачку?» – вдруг спросит он, заботясь о репутации правдивого рассказчика. И будет толковать про собаку до тех пор, пока наш внутренний голос не признается: «Верю всему!»
Дефо точно чувствует меру читательского доверия. Молль Флендерс плывет через океан и рассказывает вместо бури про белье. И это естественно по характеру Молль Флендерс. Но когда Робинзон, отправляясь в третьей части живым на тот свет, отказывается сообщить местоположение ада и рая, говоря: «Не мое дело», – уловка не удается Дефо, и все по той же причине: не таков Робинзон, чтобы не определить, хотя бы приблизительно, долготы и широты, даже если речь идет о преисподней. Робинзон на том свете потому и не получился у Дефо, что это был не Робинзон. Если в первой части Робинзон чего-то не знал или не мог, это была умелая игра автора в неумение героя.
Замечено: легко и просто, в двух словах, удается Робинзону все, чего не умел Дефо. Напротив, в чем Дефо хорошо разбирался, тому Робинзону пришлось учиться: Дефо мог это хорошо показать. Долго не получалась у Робинзона глиняная посуда: Дефо затевал в молодости черепичную фабрику и знал глиняный обжиг как специалист. «Я уже говорил, – рассказывает в другой раз Робинзон, – что у меня сохранялись шкурки убитых мной животных. Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Только вначале я по неопытности слишком долго держал их на солнце, поэтому первые шкурки были так жестки, что едва ли могли на что-нибудь пригодиться…» Такой ошибки не совершил бы бывалый купец Даниэль Фо, через руки которого прошло много всякого товару. Когда ему повествовательно нужно было, он ведь сразу определил, из какого материала платье носило привидение: чистый шелк. Наконец, шляпа готова. «Я сделал ее мехом наружу, чтобы она не боялась дождя». А мы уже давно поверили в сообразительность Робинзона, в его сметку, верим вообще во все его действия и, следовательно, верим в шапку, тем более что на нее затрачено столько лишних усилий. Лишние с точки зрения скорняжного искусства, те же усилия повествовательно необходимы.
Точно запущен механизм выбранного автором характера, и дальше повествование движется как бы само собой.
Следует указать и на предел правдоподобия, который Дефо не преодолевает. Ясно, что лишь на расстоянии в целый океан мог Дефо сделать интересным каждый шаг Робинзона. А чтобы заинтересовать персоной Молль Флендерс или проходимцем Джеком, их надо опустить на «дно» людского моря. Дистанция оказывается необходимой. О белье рассказывается на фоне бушующего океана. А если такой возможности Дефо не видит, он вовсе уклоняется от подробностей. «Не могу сообщить ничего особенного, – замечает Робинзон, пересекая всю Францию с юга на север, – ничего, кроме того, о чем рассказывали другие путешественники, и притом гораздо интереснее, чем я».
Эго момент принципиальный. Ничего примечательного не находит Робинзон на том отрезке своего пути, который мог быть в действительности пройден самим Дефо. Ведь в молодости он, как представитель торговой фирмы, бывал в континентальных европейских странах, предпочитая передвигаться именно так, как это делает под конец книги Робинзон: грузы идут морем, а он – сухим путем, и лишь там, где морской переезд неизбежен, он садится на корабль. Для Робинзона, рисковавшего пускаться в океан на утлом челноке, это, конечно, странно, и он этой странности вразумительно не растолковывает. Что же касается Дефо, то возможную причину его робости перед морем биографы ищут, опираясь на те страницы его книг, где весьма натурально и прочувствованно изображаются муки «морской болезни». Положим, это способно объяснить, почему воздерживался Дефо от морских путешествий, но почему не описывал он тех мест, какие все же видел собственными глазами, понять труднее. Даже его «Путешествие по Великобритании» основано в значительной мере не на личных впечатлениях, а на литературных источниках, хотя по своей стране он исколесил тысячи миль в поисках сведений для высоких патронов. Сколько «материала» попадалось ему на дороге! Лица, пейзажи, всевозможные бытовые мелочи, эпизоды и целые сюжеты – все это использовал Дефо в своих книгах сравнительно скупо. Как ни странно, именно способ повествования, им избранный и вообще наиболее развитый в его время, то есть «путешествия», не позволял ему быть подробным. Путешествуя и повествуя, легче «ездить далеко», а чем ближе к «дому», тем автору становится все труднее. Речь идет не о каких-то острых предметах, от которых Дефо предпочитал держаться подальше. Имеются в виду буквально различные бытовые мелочи, столь занимательные на острове, они у родных берегов утрачивают всякий интерес. То ведь не цензура чинила препятствия – литература сама по себе еще не способна была стать ближе к обыденному быту, чтобы извлечь из него материал для искусства.
Вот, кажется, с могильщиком в «Дневнике чумного года» читатель встречается лицом к лицу…
Шекспир холод смерти создал по контрасту: роя могилу, человек с заступом в руках поет песню о любви, а Гамлет, наблюдая его, произносит: «Неужели он не чувствует, чем занят?» Горацио высказывает соображение о привычке, притупляющей чувствительность. «Пожалуй, – откликается Гамлет, – стало быть, рука, мало делающая, более восприимчива». Этот случай, как и все окружающее, Гамлет примеривает, конечно, к своему состоянию: подобная логика ему, если так можно выразиться, на руку. Повествовательное же искусство, всегда находящееся в известном смысле в положении гамлетовском, то есть между замыслом и выполнением, мыслью и делом, предпочитает по природе своей междудействие. «Действуя, ведь уже не задумываются!» – так говорят, считая, что перу и зацепиться не за что, когда человек занят делом, не требующим к тому же особенной духовной работы. Но вот Дефо перед этой трудностью не остановился. И не пользуется он никакими резкими тонами и переходами. Шекспир рассматривал своего могильщика несколько свысока хотя бы потому, что Гамлет стоит на краю смертной ямы, а могильщик на дне ее. У Дефо же повествователь встречается с кладбищенским возницей лицом к лицу…
Желая и читателя поразить этой встречей, Дефо ничем этого желания не обнаруживает и нигде в сущности не действует в повествовательном отношении напрямую. Внешность, конечно, не описывается. Названо имя. Род занятий. Впрочем, оговорено, человек этот числится не только могильщиком, но и… Рассказано, что входило в его обязанности. Возить… нет, не обязательно возить, но помогать возить мертвых. Словом, следуют специфические уточнения. Тон простой и вместе с тем заправский. Подробно излагаются трудности процедуры: надобно прежде вытащить тело из дома да погрузить на тележку, а тележка в том месте, где работал этот возчик, не всюду могла проехать из-за узких улиц, так что тела приходилось тащить волоком, тащить надо было далеко и долго, потому что улицы были не только узкие, но и очень длинные и было их порядочно, – следует перечисление улиц. Все излагается до того деловито, как если бы надо было научить читателя тому же занятию. И, не видя вовсе этого возчика, читатель втягивается в круг его интересов и верит в него, мрачного возницу телеги мертвых, движение которой сопровождается звоном сигнального колокола, привязанного к ней.
Сам возница вовсе не мрачен, но и не беззаботен. Дефо умеет без нажима показать человека дела, вот это он знал по себе! С умением ставит он в центр стихийного бедствия простую фигуру, спокойно и мужественно выполняющую свое дело. И смерть его не берет! Дефо никакого чуда в этом не видит. Не берет – и все тут.
Но Дефо знает также, что есть мера читательского доверия, и он это доверие эксплуатирует с расчетом. Как только мы поверили в могильщика, он тут же отводится на второй план и сам служит опорой для убедительности еще одного персонажа. Это от него, от могильщика, ведет рассказ шорник, слышали о некоем дудочнике… «Представьте себе, этот дудочник играл в то время» и т. п., – казалось бы, естественно именно так приступить к рассказу. Но это и есть все равно, что просить читателей: «Верьте мне!» Никогда этого не станет делать Дефо, читательского доверия он не заискивает, но лишь не упускает случая подкрепить его.
«Говорят, дудочник был слепой, но я-то слышал от того могильщика, что он вовсе не был слепой, а просто то был темный, хворый бедняк, ходил он обычно часов около десяти вечера со своей дудкой по улицам, люди приглашали его с собой в кабаки, где его хорошо знали, подносили ему выпить и закусить, а бывало и деньгами давали, а он за это играл, пел и забавлял всех немудреной болтовней; так он и жил. Ну, в то время, как я вам уже изложил, дела обстояли так, что не до развлечений было, но дудочник все-таки шатался по улицам, как обычно, хотя он еле держался на ногах от голода, а если его спрашивали, как он живет-может, отвечал, что пока его на кладбище не свезли, но сказали, что на следующей неделе захватят». И вот как-то дудочник заснул прямо на улице от чрезмерного угощения: то ли слишком полную чарку ему поднесли, то ли живот он себе набил слишком и с непривычки наедаться до отвала заснул. Могильщик решил, что он-таки умер, положил его на тележку и повез обычным путем на кладбище. По дороге еще подбирали мертвых и клали поверх казавшегося бездыханным дудочника. Помню, заметит шорник, ехали они на кладбище у Мельничного холма. Так, между прочим он это уточнит, на всякий случай, но все-таки скажет, чтобы умели мы вообще ценить правдивые слова, когда речь ведут люди сведущие.
Ужасный груз могильщик хотел было уже свалить в яму, и тут дудочник проснулся. Выбравшись из-под груды тел, он спросил: «Эй, где это я?» Могильщик с напарником порядочно перепугались, но все же могильщик заметил: «Помилуй бог, тут есть и не совсем еще мертвые!» «Кто ты такой?» – спросил тогда смелее помощник у дудочника. Этот парень и сказал: «Я бедный дудочник. Да где я?» «Как тебе сказать, – отвечал ему могильщик, – ты ведь на телеге мертвых, а мы уж собрались хоронить тебя». «Я вроде и не умер?» – спросил дудочник, чем несколько развеселил их.
Ни урока, ни поучения не станет извлекать из этого эпизода Дефо, но лишь позаботится о том, чтобы в рассказанное поверили. Для убедительности им все сделано, и так, на всякий случай он добавит: «Рассказывают, будто дудочник, как слез с повозки, так сразу заиграл на дудке. Нет, про дудку могильщик ничего не сказывал. Он говорил просто, что живого дудочника везли на кладбище. И я ему вполне поверил», – скажет от себя шорник. А что остается сказать читателю?
Читателю не надо упускать из виду расстояния во времени: желая напугать лондонцев чумой, Дефо с придуманной им позиции очевидца изложил события более чем шестидесятилетней давности. Робинзон родился в начале 30-х годов XVII века – читали об этом почти столетие спустя. «Написано в 1683 году» – датирована исповедь Молль Флендерс: сорок лет разницы между временем действия и эпохой, когда появилась книга. В узком смысле слова Дефо и не написал ни одного «современного» романа.
Таким образом, положение рассказчика у Дефо всегда несколько осложнено; непосредственного соприкосновения с предметом в сущности нет. Всесильная мощь пера, способного схватить будничную жизнь, накопится лишь к исходу XIX века, когда, например, Чехов возьмет в руки пепельницу и скажет: «Хотите, завтра будет рассказ – заглавие „Пепельница“?» Нет, в руки взять во времена Дефо писатель еще ничего не мог. Приходилось «ездить далеко», чтоб заставить читателей видеть обычный предмет. Повествование движется с места на место, иначе автор и читатель с ним вместе попадет в положение Гулливера, разглядывающего великанов вблизи: сплошная кожа, даже не кожа, а какие-то отвратительные волдыри и язвы, и не волдыри, а вовсе бесформенные бугры и провалы. «Не написано, а наворочено», – скажет критик, наблюдающий нагромождение бытовых подробностей, остающихся потугами на правдоподобие. Но такого мнения о прозе Дефо и держался Свифт.
Естественно вспомнить Дефо и Робинзона, а потом Свифта и Гулливера, однако Свифт сказал о Дефо… трудно даже повторить, но Свифт о создателе «Робинзона Крузо» сказал: «Безграмотный писака».
Записки капитана Гулливера
Запамятовал я, как его звали.
Свифт о Дефо
Соперничество столкнуло, таким образом, две крупнейшие литературные величины своего времени, хотя они невольно прокладывали дорогу друг другу. Их обоих формировала журналистская среда, запросы периодики оттачивали их приемы и стиль. Они начинали фактически вместе, в одном и том же органе, называвшемся «Афинский Меркурий, или Казуистическая газета». Газета пользовалась спросом, читали ее люди простодушные, любившие чтение поучительное и вместе с тем забавное. Именно с этими читателями беседовал Дефо обо всем на свете – о страшном суде и о семейной жизни, сохраняя внушительный тон, хотя в сущности он шутил. Этот тон воспринял от него Свифт, подкрепив его ученостью, игрой в ученость. Дефо, который был старше и, главное, держался другого направления, со своей стороны пробовал и подражать ему, и смеяться над ним. Ни то, ни другое ему не удалось. «Это тип, что стоял у позорного столба, я забыл его имя», – решил уничтожить соперника Свифт. Однако и ему победа не далась так легко. «Обозрение», которое редактирует, вернее, пишет из номера в номер от начала и до конца Дефо, имело вес. Газета Дефо и журнал «Зритель», пока в нем сотрудничал Свифт, представляли равновеликие полюсы.
Причину ссоры биографы толкуют так: не кто иной как Свифт, начал теснить Дефо в авторитете перед правительством. Историки считают возможной даже такую символическую картину: когда в приемной государственного секретаря встречают доктора Свифта, в это же время через запасную дверь из его кабинета выходит «наемный писака» Дефо.
Объясниться и найти общий язык мешали им, возможно, качества личные, натуры в самом деле безудержные. Однако, взяв за скобки личное, мы все же получим конфликт принципиальный, исторический. С презрением Свифт отмахнулся от Дефо, и в этом сказалось его высокомерие, нетерпимость, его дурной характер. Однако был тут и не случайный жест великого ума, опасавшегося движения «дна» кверху, натиска «низов».
Понятие «ум» в этом смысле принесено было эпохой Возрождения и обозначало как раз природную сообразительность, личное преимущество, в противовес сословно-наследственным достояниям. Со временем все чаще этот Ум писали с большой буквы, возвышая его над умом собственно, признавая его исключительно с особой просвещенностью, разносторонними познаниями, остротой, гибкостью – «игрой ума». С высот такого Ума, силой и сверканием которого Свифт приводил современников в трепет, он и постарался сокрушить Дефо.
В средоточии шекспировской эпохи уже оформился этот конфликт, хотя и между друзьями: Шекспир и Бен Джонсон. Шекспир в отличие от Дефо был доброжелателен, а Бен Джонсон в отличие от Свифта, глядевшего на Дефо свысока, не мог так взглянуть на Шекспира. К чести своей, он понимал это. Они были друзьями-соперниками, приятелями-противниками, воплощая разные принципы творчества и разные социальные начала. Бен Джонсон, у которого достало дружеского достоинства, проницательности и слов сказать о значении Шекспира для своего века так, что этого хватило на все времена, Бен Джонсон все же выразил великому собрату претензию, совершенно ту же самую, что Свифт Дефо, только спокойно:
Хотя твои писанья, признаюсь,
Достойны всех похвал людей и муз,—
То правда. Но по этому пути,
Хваля тебя, я б не хотел идти,
Не то пойдет невежество за мной.
Пер. В. Рогова
«Шекспиру не хватало искусства», – говорил Бен Джонсон, так же как сказал он о том, что Шекспир «знал мало по-латыни и еще меньше по-гречески». То не педант упрекает истинного творца, не Сальери завидует Моцарту, хотя есть тут, конечно, противостояние, нам понятное из пушкинской «маленькой трагедии». Все же Бен Джонсон доказал свое благородство в отношении к Шекспиру. «Не хватало искусства» он говорит с интонацией «О, если бы этому гению еще и отделку!» Неистовая гениальность Шекспира представилась ученому другу лишь стихийной одаренностью, силой непросвещенной и, подобно всякой «темной» силе, настораживала его.
Как ни хотел быть Бен Джонсон объективным в хвале и критике, у него все же не нашлось столько проникновенности, чтобы вполне охватить шекспировский масштаб и увидеть, насколько сам Шекспир пристально и настороженно наблюдал за игрой «природы». Ведь им создан Отелло, невольно обнаруживающий источник своей трагедии в том, что «любил не мудро». Ведь среди последних строк Шекспира, воспринимаемых как завещание, слышен и устрашающий вопль дикаря Калибана: «У-у, свобода! У-у, свобода!» Шекспир ли не говорил постоянно о «музыке в душе», о начале облагораживающем, без которого все «бесчувственно, сурово, бурно» и человек «способен на грабеж, измену, хитрость, темны, как ночь, души его движенья». Кто же, если не Шекспир, исследовал до глубин «темноту души»!
Исследовал Шекспир и силу Ума.
Не принадлежа, безусловно, к такого рода Умам, Шекспир имел их в виду, когда советовал слушать суд знатока. Он даже обозначил в меру требований таких Умов идеальное создание, образцовую пьесу, где «сцены прекрасно отобраны и сделаны столь же сдержанно, сколь и мастерски». Ни одной броской строки нет в этой пьесе, ничего, что давало бы повод упрекнуть автора в искусственности. «То был, – заключает Шекспир, – честный метод, от начала и до конца выдержанный, изящный, скорее просто приятный, чем изысканный».
Однако сам Шекспир подобных пьес не писал, и понятно почему: их никто не хотел смотреть. Эту образцовую пьесу, припоминает Гамлет, поставили, кажется, всего один раз. Зрители зевали, если только их критика не выражалась каким-нибудь более чувствительным способом. Нет, хозяин театра «Глобус» писал так, что партер, где помещалась публика попроще, неистовствовал от восторга. Еще бы! По сцене расхаживал, отпуская шуточки, сам Джон Фальстаф с дружками. Завсегдатаи лож, законодатели вкусов, внимательно вслушивались. Актеры играли с удовольствием: исполнители и публика как бы подзадоривали друг друга[22]22
Эта обстановка шекспировского театра замечательно воскрешена Лоуренсом Оливье в фильме «Генрих V» (1945).
[Закрыть]. Положим, какой-нибудь знаток морщился, находя в пьесе шероховатости и несообразности, в особенности по части истории и географии. Но, как говорили о Шекспире, «он писал для народа», сразу для всех, всякий находил в его творениях что-нибудь по своему разуму и вкусу. Королевский двор требовал целую пьесу о Фальстафе, которого так полюбил простой партер. Шекспир, как и всякий гигант, писал, выполняя программу, обозначенную символом его театра: Геркулес подымает земной шар.
Спор между стерильным совершенством и живым творением всегда в конечном счете разрешают исполины. Цельность традиции устанавливается в масштабах истории. Современникам, даже выдающимся, такой мерой пользоваться трудно, и они, оказываясь рядом в веках, при жизни часто сталкиваются, как это было между Дефо и Свифтом. Тут возможна ситуация, которой историки придают символический смысл: приходит Свифт, уходит Дефо.
Метавший громы и молнии в защиту простого люда, Свифт, конечно, и подумать не мог о том, чтобы снизойти в своих писаниях до более или менее широкой публики. Он презирал Дефо даже за его популярность. Но «Путешествия Гулливера» прочли все, кто тогда мог и имел привычку читать. То был решительный шаг Свифта к сближению с Дефо, не в личных отношениях, конечно, но в принципе, в истории, в перспективе литературного развития: по одному пути пошли моряк из Йорка Робинзон Крузо и корабельный врач Лемюэль Гулливер.
Свифт хотел смести с лица земли все эти россказни о «приключениях», в том числе робинзоновых. Прекрасно понимая, как это делается, он взялся писать «Путешествия Гулливера» с той же, так сказать, «достоверностью». «Все произведение, несомненно, дышит правдой», – обещает на первой странице «Гулливера» фиктивное лицо, вымышленный издатель. Под его пером все тот же повествовательный способ начал действовать как бы сам собой, и в Гулливера поверили, как верили и в Робинзона.
Припомните для примера шляпу Гулливера. Ведь Свифт взялся играть мнимой достоверностью мелочей, чтобы разоблачить такую достоверность. Простодушно-доверчивых он терзает видом подробностей вовсе излишних. Но, говорит Гулливер, поступить иначе он не может, коль скоро им взята на себя роль правдивого рассказчика. Лилипуты доказаны, через множество последовательных мелких ощущений и замечаний выстроен лилипутский мир и в нем – Гулливер, пропорционально, материально-достоверно. Уже составлена лилипутами опись всех предметов по карманам Гулливера, и завершилась эта процедура особенно убедительно опять-таки «обратным ходом»: лилипуты осмотрели все досконально, за исключением, правда, одного заднего кармана Гулливеровых брюк, куда не сочли возможным их пустить, там лежали очки и еще некоторые предметы, существенные для надобностей обычного человека и не представлявшие вместе с тем никакого интереса для лилипутов. Чего же еще? Какой еще убедительности нужно? Мы уже готовы, веря всему, всмотреться пристальнее в лилипутскую жизнь, обретшую в наших глазах объем, цвет, движение, словом, жизнь, как вдруг: найден черный округлый предмет неподалеку от того места, где незадолго перед тем нашли лилипуты спящим самого Гулливера. «Я сразу понял, о чем идет речь… Моя шляпа».
Конечно, Робинзон и Гулливер – люди разные, хотя одна и та же эпоха, поставив на них свою печать, сделала их похожими. Гулливер на протяжении всей книги не меняется, он лишь постепенно, от плавания к плаванию, показывает, что он за человек – отважный, спокойный, пристальный наблюдатель. Иное дело Робинзон, который, как и все герои Дефо, пройдя жизненный искус, делается другим или, по крайней мере, хочет стать другим. Оба повествуют о своих злоключениях довольно невозмутимо, только у Гулливера позиция заведомо прочная с самого начала. Себе самому Гулливер ничего не доказывает, он лишь сверяет путевые впечатления со своим ясным, глубоким взглядом на вещи, изначально дарованным ему судьбой, общественным положением. Сын состоятельного джентльмена, прошедший выучку на нескольких европейски прославленных факультетах, Гулливер отправляется путешествовать, понимая свою участь, осознавая судьбу. Совершив несколько плаваний и обзаведясь капиталом, Гулливер покупает в Лондоне дом и женится на дочери состоятельного торговца трикотажем – в точности такого, как Дефо[23]23
Доказано, что это у Свифта намек на Дефо. Таким образом, Гулливер – родственник автора «Робинзона» и Дампьера.
[Закрыть]. О, для Дефо Гулливер был бы желанным зятем! Дефо был счастлив, когда любимую дочь ему удалось выдать за книготорговца, образованного и даровитого молодого человека: ступень в достижении жизненной цели Дефо. Он мечется, ищет, добивается, утверждает себя, и тем же намерением утвердить себя, доказать всему свету, каков ты, движимы герои Дефо. А Гулливер таких людей рассматривает спокойно, вроде как лилипутов, лапутян или, еще хуже, иеху. Человек-пигмей перед ним или великан, образованный тупица или дикарь, Гулливер прежде всего зажимает нос и принимает прочие меры предосторожности, чтобы не оказаться к этому существу в чрезмерной близости.
Но мизантропия Гулливера не односторонняя, она имеет своим источником необычайно требовательную меру во взгляде на человеческий материал. Просмотрев панораму истории, Гулливер выбрал ровным счетом шесть истинно достойных фигур – ядро разума, чести, доблести, немногочисленную, но отборную фалангу героев, начинаемую республиканцем Брутом и завершенную (ко времени Свифта) Томасом Мором, автором «Утопии», который поднимаясь за свои убеждения на эшафот, подбадривал палача.
Та же требовательность является и подоплекой поступков Гулливера и создает двойственность впечатлений от них: легкость, ненатужность, с какой делает все Гулливер – берет ли в плен целый флот или рассуждает, – и в то же время его постоянная несвобода.
Психологи, точнее, психоаналитики, для которых Свифт – благодатный материал, разобрали до наивозможных подробностей его натуру, но почему-то не обратили внимания на постоянство этого мотива в книге: Гулливер все время привязан или, по крайней мере, соединен множеством связей с окружающим. В комментариях отмечается лишь, что у Гулливера на левой ноге, когда его приковали к стене, «тридцать шесть висячих замков»: по числу политических группировок, в пользу которых Свифту пришлось писать свои памфлеты[24]24
Подмечено, что иносказания, скрытые в символах у Свифта, можно понимать и не понимать: «Соль не в них». – В. Муравьев. Джонатан Свифт (М., «Просвещение», 1968, стр. 137). Символика Свифта разобрана у нас также В. Дубашинским в книгах «Путешествия Гулливера» (М., «Просвещение», 1969) и «Памфлеты Свифта» (Рига, «Звайгзне», 1968).
[Закрыть]. Но ведь прикованным, привязанным, связанным на разные лады Гулливер оказывается во множестве случаев. «Я хотел встать, но не мог пошевельнуться, – рассказывает он о своем пробуждении у лилипутов, – я лежал на спине и чувствовал, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы; а все мое тело, от подмышек до бедер, опутано целой сетью тонких бечевок». Чтобы перевезти Гулливера с морского берега в город, лилипуты тянут его бесчисленными канатами на телегу и привязывают к ней. Точно так же и лапутяне поднимают неутомимого путешественника на свой летающий остров с помощью веревок и блоков. Дважды Гулливер оказывается в руках у морских разбойников, и они скручивают его по рукам и ногам. Великанам незачем связывать ничтожное существо, однако у них, в Бробдингнеге, Гулливер ежеминутно подвергается опасности быть стиснутым, прибитым, раздавленным; он тонет в молоке, вязнет в коровьем помете, великанский карлик запихивает его в обглоданную кость; с самого начала сажают его в ящик, а в итоге Гулливера страшит перспектива, что ему подыщут супругу, женят и детей их, словно диковинных зверушек, будут показывать в клетках. У великанов, в огромном мире, Гулливеру в сущности так же тесно, как и на улочке лилипутской столицы.
Все это путы, тиски буквальные, видимые, а сколькими обстоятельствами, обязательствами Гулливер связан символически, формально, какое давление, пусть нематериальное, но могучее и всестороннее, он испытывает! Постоянный надзор, толпы любопытных, угрозы нападения, интриги; его могут или отравить, или ослепить, или съесть. У лилипутов Гулливер «получает свободу» на основе договора из девяти пунктов, где с той же определенностью, что и длина цепи, означено: «Человек-гора не имеет права… должен… обязуется…» Опасности, да и небывалые звуки, запахи, новизна впечатлений, которые накапливаются у Гулливера во время удивительных странствий, держат его зрение, обоняние, слух, нервы в постоянном и до крайности повышенном напряжении. Наконец, Гулливеру суждено испытать неудобство и стыд еще от одной связи – его уличают в очевидном родстве с ужасными йеху. И это сходство тяготит его настолько, что он, вроде Мюнхаузеновой лисицы, только добровольно, готов выскочить из собственной шкуры и отречься от своего естества.
Однако если оставить пока в стороне этот последний, особенный случай, то надо сразу же признать, насколько просто и мужественно переносит Гулливер всевозможные стеснения. Стрелы тучей летят в него, выпущенные лилипутами, и жалят булавочными уколами. Характерен в этот момент жест Гулливера: он поднимает руку, стараясь сберечь глаза. Ни напряжения, ни отчаяния нет в его движении, он держит ладонь у лица так, словно решил заслониться от чересчур резкого солнца всего-навсего, а не спасти себя от тысячи чувствительных уязвлений. Свою историю Гулливер излагает обстоятельно и методически, мы тем более верим всему в его устах, что он не забывает ни событий, ни мелочей. Как проходило плавание, как очутился он в неведомой земле, как мог спастись, объясниться с туземцами, как он ел, пил и пр. В то же время Гулливер ни о чем особенно, прежде всего о своих лишениях, не распространяется и всякий раз с тактом опускает подробности, которые могут причинить читателю хотя бы подобие им самим испытанных неудобств, так же, как великодушно освобождает он от веревок отданных ему на расправу лилипутов. Выразительный, однако немногословный в речах, Гулливер не указывает прямо на источник такой нравственной выдержки. Но, кажется, можно догадаться, где он: в глубоком сознании своего положения – судьбы Гулливера, если взять это имя в значении, сделавшемся нарицательным. И вот Лемюэль Гулливер, корабельный врач, а потом капитан, подымается, как настоящий «Гулливер», как гигант, во весь рост, несмотря на то, что, таким образом он становится удобной мишенью для стрел, для насмешек, хотя ему и приходится, раз он Гулливер, влачить за собой груз бесчисленных обязанностей, долженствований, забот. Ни о прощении, ни о сочувствии, даже терпя позор, Гулливер не просит читателей, полагая, что его, по крайней мере, поймут, как вполне понимает совершающееся с ним он сам, Гулливер.
Человек-Гора должен тянуть разом все, отзываясь каждым нервом, каждым мускулом на новые и новые контакты с окружающим. Нужда, обстоятельства, наконец, страсть к путешествиям гонят Гулливера в очередное плавание, тоска по родине и семье зовет его обратно – домой, а между этими полюсами, там, в неведомых странах, он под натиском новизны едва успевает поворачиваться, чтобы во всяком случае встретить неожиданность, злую или добрую, лицом к лицу. Мысль его пульсирует четко и без устали. Вот какая-то невероятная сила подняла Гулливера в игрушечном домике над землей. Гулливер осмотрелся, прислушался, подумал: «Должно быть, орел…» И тотчас, едва успел он, насколько возможно, освоиться с новой сферой своего движения, все изменилось: наверху раздался шум, удары (Гулливер еще раз удостоверился: «орел»), и ящик со страшной быстротой начал падать. Оглушительный всплеск, мрак, потом вновь подъем и – в окнах свет. «Тогда я понял, – отмечает Гулливер, – что упал в море». Он подумал и понял, а между тем дважды кряду от немыслимого подъема и падения у него, как он сам говорит, захватывало дух. Мало ли что! Гулливер должен успеть обо всем подумать – еще одно бремя Гулливера. На протяжении книги Гулливер не однажды поддается несколько неопределенному колебанию чувств, однако он вскоре овладевает собой и обдумывает происходящее.