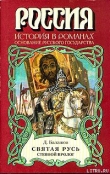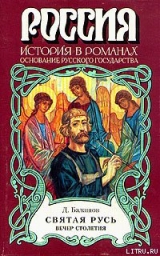
Текст книги "Святая Русь. Книга 3"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
– Пятнадцатый год парню! – отозвался Иван. – Воин уже! Слышно, в поход ходил с князем Юрием!
Алешка рос весь в родителя своего. Иван, изредка встречая племянника, кажный раз вспоминал Семена. На годах был трудный разговор, когда десятилетний парень, склонив лобастую голову, спросил у Ивана:
– Как мой батя погиб?
Соврать было не можно, а и прямо сказать: мол, меня собою прикрыл,
– как? Парень-то с того без отца растет!
– А Любавин мужик серебро копит! – сказал Иван. – Деревню купили, слышь, другую хотят… Детей бы делали!
– А и без земли-то каково! Служилому человеку инако и не прожить!
– нежданно вступилась Мотя за неведомого ей Любавина мужика. – Поход ли, посольское дело, хошь, а тут – пахать да косить надоть, хошь разорвись! Без деревни да без мужиков и ратной справы не добыть, а уж дети пойдут – чем и кормить? Пущай уж, раз такая стезя у их!
И Иван вновь подивил рассудительности этой вечно захлопотанной крестьянской жонки. К первой выти стали собираться соседи. Пришли, изрядно постаревшие, Лутонин тесть с тещею. Приплелся какой-то, незнакомый Ивану, старик. Не разболокаясь, сел на лавку, медленно оттаивая. Пришел сябер с бельмом на глазу, хитро и косо оглядевший стол. В предвкушении хмельного! – понял Иван, и не обманулся. Сябер оказался завзятым пьяницей. Влезали в избу, в облаках пара, разматывая шали и платки, молодые и старые жонки, мужики, парни. Скоро Паша с родителем вынесли из холодной второй стол и две лавки – уместить всех гостей. Лутоня сам вынес жбан с пивом, Мотя поставила на стол дымные ароматные щи с убоиной и полезла в печь за пирогами. Явился кувшин со стоялым медом, хрусткая квашеная капуста, брусница, моченые яблоки, копченый медвежий окорок – затевался пир.
Гости прошали Ивана о новгородской войне, о делах ордынских. Всех интересовала молодая литвинка, жена князя Василия, и, узнавши, что Иван видал ее не раз на Москве и в Литве, его закидали вопросами: какова сама да в совете ли с князем? Да как там Витовт, Васильев тесть? Не станет ли через дочерь давить на Русь излиха?
Иван растерялся даже, не поспевая отвечать, чувствуя, что здесь, в убогой деревне, судьбы страны интересуют людей едва ли не более, чем на Москве, в самом княжом тереме, где бояре порою больше мыслят о местах и кормленьях, чем о грядущих судьбах отечества.
Бельмастый меж тем, осторожно протягивая руку, шевельнул затычку глиняного жбана, торопливо наплескав ковш пенистого пива, и, воровато озрясь, опрокинул себе в рот. Лутоня заметил, однако, схмурив брови, повел глазом, и Мотя, будто случайно поправляя расставленные блюда, отодвинула тяжелую корчагу от настырного соседа. Двое-трое глянули насмешливо. Тут все всех знали, и взаимные слабости были у всех на виду.
Под щи всем налили пива, и бельмастый, обиженный было, теперь, вожделея и жмурясь, держал обеими руками полный ковш, медленно поднося его к мохнатым устам и заранее сладостно вздрагивая.
Избранным гостям – родителям жены, себе и Ивану Федорову Лутоня налил меду. Серьезно глянул:
– Ну! За то, што никого не убил… И за Василия!
Выпили. Верно, что в этом походе Иван будто никого и не убил. Подумал и подивился себе, тому, какою привычною стала ему казаться теперь смерть на бою, своя ли, чужая, почти не останавливавшая внимания. Рати без мертвых не бывает!
«Старею», – подумалось вдруг, и стало грустно на миг, и жизнь, полная событий, показалась пустою, промчавшейся словно единый миг. Он поскорее выпил свое и, кивнув головою, подставил чару под новую терпкую струю веселящей влаги.
– В княжую службу приехал тебя созывать! – проговорил он негромко, полуобнявши Лутоню за плечи. – По тому же делу, по своему, будешь уже не крестьянином, а бортником княжьим! А там, глядишь, кого из детей и в дружину возьмут… Ну? Ты же и медовар знатный! Оногды пробовал у тя такое, что и на княжом дворе не пьют!
Лутоня повел плечом, освобождаясь от Ивановой длани, покачал головою, помолчал задумчиво, потом прямо глянул в глаза Ивану, и Иван, хмурясь, опустил взгляд.
– Ты мой мед пил?
– Ну, пил, хороший мед!
– Дак вот! Ето мед вареный, а на княжую потребу доселе делают мед ставленный. Тот выдерживают, быват, и по тридесяти годов. И из пуда сырого меда едва четвертая часть остается, хмельного-то пития! Так-то вот!
Соседи слушали, уложив локти на стол. Лутоня не часто и не всякому сказывал о секретах своего ремесла. Даже захмелевший сябер примолк, перестал тянуться к корчаге с пивом и только изредка взглядывал на нее, двигая кадыком.
– И пошто… – не понял было Иван.
– А пошто? Пото! – возвысил голос Лутоня. – Требоватце сперва изготовить кислый мед! Ето, значит, сырой мед рассытити ключевой водой, один к четырем, так! Затем снять вощину, процедить, накласть меру или хоть полмеры хмеля на кажный пуд меда, так! Затем уваривать до половины объема, да все время пену снимать, пока варишь. Опосле остудить до теплоты, заквасить, хошь закваской, хошь недопеченным хлебом аржаным; патоки положить, опосле поставить в теплую печь, штобы мед закис, да не прокис! Затем слить в бочки, на лед поставить, и ето будет «кислый мед». Из ево уже какой хошь, боярский, паточный, обварный, белый, зельевой тамо, – много разных! Словом, в котел с ягодами кладу кислый мед, ягоды должны забродить, потом развариваю, ночь отстаиваю, на другой день процеживаю и ставлю в погреб на выдержку, а того лучше – в землю зарывать! И тут от пяти и до тридцати, и до сорока летов должон выстаиватьце он, а выходит, опосле всего, из девяти десятков ведер меда одна бочка сорокаведерная! Да еще карлук купи! Без карлука, рыбьего клея, переквасишь, тово! А карлук дороже икры осетровой не в двадцать ли пять раз! Вота и считай теперича! У меня стоит, восьмой год стоит бочонок! Павла буду женить – достанем! А только так мед изводить – ето не дело! И никаких бортей не хватит! Енти твои бортники на один княжой двор и работают! И я, коли, в тот же хомут? А прочие люди как? Неисполненный квас пить станут? От коего дуреешь токмо! Али пуре мордовское? То самое, коего на Пьяне наши горе-воины напились! А и на Москве, при Тохтамышевом набеге, не греческим вином, не романеей так-то упились, не ставленными медами! Квасом неисполненным, што на скору руку сварен! Пото и сдурели так, што ворота татарам открыли! А я мед варю! Тута воды в семь раз более, и патока добавлена, да еще пивное сусло, да еще вываренное с хмелем, да дрожжи. А там уже и переливашь, да ставишь в лагуны, на лед… Ну, тут кажный мастер свои тайности блюдет… Пиво-то проще варить, да его и варят сразу много… А штобы сохранять, дак ето вареный мед!
– Повестил бы ты о том!
– Без меня знают! А ищо скажу я тебе, Иване, по всему сужу, – и вареного меду скоро недостанет, учнут из муки из аржаной хмелево гнать, а то и из смеси: ржаной, ячменной, овсяной там, – што есь! Ну, опять же, хмель, полынь, зверобой, тмин, для запаху… Да и… Видал, как деготь гонят?!
– Деготь? Ну…
– Вота и ну! Та же бочка, тот же отвод, желоб крытый, тут накапает тебе чистого хмеля, токмо разводи водою опосле! Вот, с аржаного зерна и пойдет… А иные заварят сусло, а сроков не выдержат, получаетце неисполненный квас, али пиво, называй, как хошь! Тот, от коего дуреют! Не ол, словом, не сикера, а незнамо што!
И ищо скажу: как наладят ето дело, так князь его в свои руки возьмет! Вот тогда, хошь не хошь, и мне, доживу коли, в княжью службу нужда станет идти! А пока, Иван, я сам себе господин и варю мед уж как мне самому любо! Мед, а не хлебное вино! Так што не зови! Под княжьим дворским ходить не хочу, да и указов тех: делай то, не делай ето, – слушать мне не любо.
Здесь я при деле. Да и… воля дорога! Кормы справил, об ином и голова не болит. Ты воин, я – мужик! Мужиком и умру, и не нать мне иной судьбы. В Царьград там, да в Краков мне так и сяк не ездить, а дело свое я люблю. И не унимай доле! – остановил он Ивана, готового снова вступить в спор. И еще тише, уже едва слышно за гомоном упившегося застолья, добавил: – Мне и то любо, што вот я мужик, а ты – ратный муж, почти боярин, а вместе сидим, родня! И дети вон вместях играют! Всем бы русичам век роднёю быть, дак тогда нас никоторый ворог ни в каких ратях не одолеет!
И два людина, два русича, два брата, мужик и воин, молча крепко поцеловались, взасос. Слова тут были не надобны – ни Ивану Федорову, ни Лутоне.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Осенью на Москве крестились трое ордынских татаринов – постельников самого Великого хана, приехавших в Русь и пожелавших принять православие: Бахтыр-Ходжа, Хыдырь-Ходжа и Мамат-Ходжа, по русскому тогдашнему произношению «Хозя» (Бахтыр-Хозя, Хыдырь-Хозя и Мамат-Хозя). И потому, что это были люди государева двора – Тохтамыша, как-никак, величали на Руси государем! – и по той еще причине, что переходили они в службу к самому великому князю московскому, Киприан порешил придать обряду крещения вид всенародного праздничного действа, словно бы и не трое постельничих, а чуть ли не пол-Орды переходит в православную веру. Сам для себя Киприан, не признаваясь себе в этом, крещением сим, всенародным, на Москве-реке, при стечении толп посадских, торговых гостей, ратников и бояр, перед лицом самого великого князя, отплачивал туркам-мусульманам, захватившим его родину. Жалкая, ежели подумать, отплата, но и все-таки…
Надежда на крещение Золотой Орды в православную веру доселе не гасла на Руси. Постельничим были даны имена святых мучеников, трех отроков, в пещи не сожженных: Ананьи, Азарии и Мисаила, – и все было очень торжественно, очень! Золото риз духовенства, берег, усыпанный народом, бояре в дорогом платье, ратные на конях, князь Василий, коему на возвышении поставили золоченое креслице. И хор, и освящение реки, и купание… Малость ошалевшие татарины отфыркивались, кося по сторонам черными глазами, получив по золоченому нательному кресту, неуклюже влезали в дареные русские порты. А хор пел, и подпевали многие из народа. Очень было торжественно и красиво!
Как раз, днями, отпустили назад послов Великого Нова Города с Киприановым послом, греком Дмитроком. (Новгородцы согласились «подрать» клятую грамоту, а послу на подъезд выдали «полчетверта ста рублев» и великому князю обещали черный бор по волости.)
В Новый Город отправлялось посольство во главе с самим Федором Андреичем Кошкою, Иваном Удой и Селиваном. Такого посольства удостаивались лишь государи соседних земель, и то не все, и казалось, мир будет закреплен… Казалось, пока сам Киприан не прибыл в Новгород и вновь не получил от упрямого города причитающихся ему судебных церковных пошлин. Впрочем, и великий князь не спешил возвращать республике захваченные им новгородские пригороды.
И все-таки, во всяком случае пока, был заключен мир. Вновь двинулись по дорогам купеческие обозы, зашумел по-старому великий торг на Москве-реке, а каменных дел мастера, кузнецы и изографы-иконописцы спешили завершить возводимую в Кремнике княгиней Евдокией каменную церковь Рождества Богородицы, поставленную на месте малой и ветхой рубленой церковки Воскресения Лазарева (от нее в новом храме был оставлен придел во имя Воскресения Лазаря).
Церковь освящали первого февраля. Как раз завернули крещенские, небывалые доселе, морозы, продержавшиеся почти до апреля, в храме стояла морозная мга, паникадила, священные сосуды, пелены, все многоценное узорочье, коим вдова великого князя Дмитрия повелела украсить новую церковь, были в морозном инее, лики святых икон гляделись как сквозь туман. Евдокия стояла в соболином опашне, грея руки в бобровой, украшенной жемчугом муфте, замотанная в пушистый пуховой плат, изредка, отай, постукивая чеботами нога о ногу. Вокруг пламени свечей плыли радужные кольца, из уст духовных, что правили службу, вместе со словами вырывались облака пара, и все-таки торжество вершилось, и церковь была полна, и освящал храм сам Киприан, и посадские, проходя площадью, оглядывали придирчиво новое каменное строение и толковали, соглашаясь, что Москва хорошеет и скоро, де, не станет уступать даже Владимиру!
Пережив зимние холода, закопав трупы странников, погибших в декабре-январе на дорогах (найденные уже по весне расклеванными и объеденными волками), московляне начинали хлопотливо готовиться к новой страде, чинили упряжь, сохи и бороны, насаживали косы (нынче уже многие отказывались от горбуш, предпочитая косить стоя, а не в наклонку), а по дорогам страны вновь поскакали княжеские гонцы с наказами воеводам окраинных городов. Софья вновь писала родителю, получивши послание с поминками из Литвы. Дмитрий Александрович Всеволож доносил из Нижнего о тамошних делах. Из Орды доходили противоречивые и смутные вести о тамошних спорах Тохтамыша с Железным Хромцом, Тимуром. Новгородцы, не успевши замириться с Москвой, рассорились со своим «младшим братом» и ходили под Псков ратью, но были отбиты с большим уроном. На Москве затеяли копать ров от Кучкова поля до Москвы-реки, порушили множество посадских хором, наделали разору и ничего так и не свершили. Словом, жизнь продолжалась.
Намечался, вскоре и состоявшийся, брак Марьи Дмитревны, сестры великого князя Василия, с литовским князем Семеном Ольгердовичем Лугвенем.
Родству с литовским княжеским домом на Москве придавали важное государственное значение. Перед самою Пасхою Василий впрямую говорил с сестрой Машей, согласна ли она пойти за князя Семена? И Маша, опуская голову, смахнув непрошеную слезу с долгих ресниц, несмело кивнула головой. Василий глядел, прихмурясь:
– Коли не люб, не неволю!
– Што ты! – Сестра кинулась ему на шею, прошептала в самое ухо: – Боязно… Чужая земля… А князя Лугвеня я помню, приезжал на Москву! Хороший он…
Василий сам вытер сестре тафтяным платом слезы и нос:
– Ну, дак не плачь! Лугвень сватов шлет, а я не ведал, што и баять. Неволить тебя не хочу!
Сестра, не снимая рук с его плеч, улыбнулась солнечно. Какая девка в поре не хочет замуж! И на злую свекровь идут, и на болящего свекра, коего переворачивать надобно ежеден. А тут – княжеский двор, прислуги, поди, не менее, чем на Москве, да и свекор со свекровой уже в могиле давно, сама себе будет госпожа!
А теперь уже, на июнь месяц, и свадьбу назначили, и дарами поменялись. Все шло, как говорится, ладом.
Лето, после суровой зимы, настало доброе. Дружно взошли хлеба, хоть и пришлось кое-где перепахивать и пересеивать ярицей вымерзшие на взлобках озимые. В срок пали дожди, хорошо отроилась пчела. Неволею Иван вникал теперь во все эти мало интересовавшие его доселе, но кровно надобные Лутоне дела, отмечая с удивлением, что не только косы-стойки, но и ставленные ульи-колоды, заместо древних бортных ухожеев, сильно распространяются по ближним волостям, и даже о трехполье, с последовательною сменою злаков, начали толковать все более. Мать и то порешила на боярской запашке в Островом ввести трехполье вместо того, чтобы сеять кажен год хлеб по хлебу. На то, чтобы заново выжигать лес, забрасывая старые пахотные поля, уже не оставалось места: густо прибавляло народу в московском княжестве!
Одно продолжало тревожить князя Василия после замирения с Великим Новгородом – суздальские дела.
Василий все круче и круче вникал в дела правления. Все более становился великим князем всей русской земли. К тому толкал и Киприан, паки озабоченный судьбою церкви после крушения Болгарского царства, за которым проглядывалась уже и скорая гибель Византии, ныне осажденной султаном Баязетом. А тогда – с кем останет он и на кого сможет опереться православная церковь, ежели и в Литве возобладают католики? На возвращение Витовта в лоно православия надежды, конечно, еще теплились, но… Слишком ведая тамошние дела, Киприан не был склонен тешить себя излишне радужными надеждами! И оставалась единая Русь. Единая, скажем точнее, Владимирская Русь. И единый великий князь московский, способный защитить и отстоять от гибельного поругания православную церковь! Так что вовсе не безразличен Киприану был молодой князь Василий с его далеко идущими замыслами. Да и дума государева, те самые бояре, что при нынешнем раскладе имели право и власть родниться с княжескими домами той же Твери, Ярославля, Ростова, не склонны были ограничивать или удерживать князя своего в его намереньях наложить лапу на оба Новгорода.
С Новгородом Великим, однако, на этот раз не получилось. Мир был зело непрочен, княжеские данщики не ушли ни из Волока Ламского, ни из Торжка, но и прямых военных действий не творилось ни с той, ни с другой стороны. А посему…
Василий переменил отцову поваду сиднем сидеть в тесном покое княжом. Расхаживал, сделав своею, по верхней палате, где собирались избранные думцы отцовы. Расхаживал, веля никого не пускать к нему в этот час.
Соня, прежняя сероглазая красавица, а теперь почти королева, соперничающая с далекой Ядвигой… Не ради нее ли и часозвон на Фроловской башне повелел учредить? Мастер был приглашен иноземный, фрязин, великий хитрец по часовому устроению. Предлагал князю фигуры устроить, чтобы двигались, да князь, по совету бояр, отвергся того, Зазорно показалось творить на немецкий лад, да и, с русскими-то зимами да вьюгами, оледенеет весь тот прехитрый механизм! Нет уж, пусть будут часы как часы, а к ним – колокольный бой на каждый час, дабы издали знатье было, какое нынче время. Бой тот помогали иноземцу сооружать свои, русичи. Получилось складно. Теперь где хошь на Москве мочно по числу ударов сосчитать, который час… Соня и русский распашной сарафан ухитряется носить на иноземный лад, и рогатую кику себе, как словно у немецких да польских тамошних дам, измыслила переделать. А ему? Замок сооружать на Москве? А опосле не знать, как и натопить те фряжские палаты да залы! Нет, Сонюшка, придет тебе на русский салтык переходить! Не в той земле не в том краю живешь, да и бояре тебя, не ровен час, понимать перестанут!
Василий уже начинал чувствовать вкус власти. По молодости не понимал иногда, что иной какой безлепицы не содеют и по его приказу. Покойный Данило Феофаныч так точно и поступал. Честь княжью берег, а не давал сотворять какой неподоби. «И мне, высшему властителю, надобна узда?! » – удивленно вопросил себя Василий, вспомнив покойного Данилу. «И еще какая! – честно ответил сам себе. – У отца был владыка Алексий, был Сергий из Радонежа… Что ж, а у меня – Киприан! И бояр толковых хватает: тот же Кошка, да у него и сын растет дельный, и Всеволожи… Да мало ли! И помимо ненавистного Федьки Свибла хватает советчиков! »
… И все то даром, ежели он сам не решит, что ему деять с суздальским княжеством и, паки того, с князьями, с дядьями своими: Василием Кирдяпою и Семеном! Прихвостень ордынский! И все то возникает теперь! Теперь, когда шестого мая, почитай, почти месяц тому назад, умер в Суздале Борис Костянтиныч, последний, с кем он, Василий, должен был считаться, даже и сажая его в железа! Но не с братьями матери, предателями, подарившими Москву Тохтамышу! Пущай они и дядья ему, пущай, по лествичному счету, имеют… имели… право на Владимирский престол… Покойный Дмитрий Костянтиныч отрекся от тех прав на великий стол и за себя, и за них! И Борис Костянтиныч, последний из материных дядьев, умер нынче! И плевал он, Василий, на то, о чем толкуют теперь в Нижнем Новгороде! Пущай толкуют! В городе сидит наместником великого князя Владимирского Дмитрий Всеволож, и пущай сидит! Грабит? Мытные сборы, лодейное и весчее доставляет на Москву исправно! И татарскую дань, и пятно конское… Берет то, что дадено по закону, не более! Это все Акинфичи никак покоя себе не найдут! Белоозеро новгородским воеводам сдали, почитай, без бою, вояки сраные! Свою же волость, Ергу, от погрома не уберегли! А дядьев-предателей надобно из Нижнего отослать куда подале, в Городец, али в Суздаль, али вообще на Устюг… Оттоль уже никуда не денутся! И Тохтамыш не зазрит, не до того ему теперь! Да и… На Кондурчу, к бою, Кирдяпа не поспел? Не поспел! Дак вот пущай татары и помыслят, чью руку держит отай Василий Дмитрич Кирдяпа, старший сын покойного Дмитрия Костянтиныча Суздальского! Сидевший так же, как и он, Василий, в нятье в Орде! Пущай помыслят! Авось и не станут вызволять князя из далекого Устюга!
Скрипнула дверь. В горницу просунулся Иван Дмитрич Всеволож, красавец, при взгляде на коего Василию почему-то каждый раз вспоминался Краков и заносчивые польские паны в их жупанах и кунтушах…
– Плохие вести, князь!
– Што там?
– Отец со скорым гонцом грамоту прислал…
Боярин помедлил, и Василий, уже почти догадывая, о чем сказ, гневно шагнул ему встречь.
– Василий Кирдяпа с Семеном из Нижнего бежали в Орду!
Горница, лицо Ивана Всеволожа – все потекло, понеслось, заструилось в волнах охватившего Василия бешенства.
– Мерзавцы! Упустили! Догнать!
– Послано уже! – не отступая и не страшась, возразил Иван Всеволож. – А токмо… – Он вновь помедлил, внимательно глядя в побелевшие от ярости глаза молодого Великого князя. – А токмо боярина Федора Свибла упреждали о том допрежь… Не внял! С того у родителя и силы ратной недостало! А так бы разом мочно было и задержать… Еще как вести дошли о смерти Бориса Кстиныча! По лествичному праву, они ить теперь наследники и Нижнему, и Суздалю с Городцом. Сыну Бориса Кстиныча…
– Грамоту дай сюда! – перебил Василий. – Бояр! Кто есть! Ратных! Догнать беспременно! Воротить! Они в Орде невесть што и наворотят, а нам опять с татарами ратитьце!
А в дальнем уголке сознания, где-то, как в запечье, сверчок: неужто и тут, и с Нижним, как с Новгородом Великим, не выйдет ничего? Какой же он Великий князь после того! Софье и то в глаза поглядеть будет соромно! А все Свибл виноват, все Свибловы пакости! Грамота дадена на Нижний мне, да что с того! Ханскими грамотами нынче можно Муравский шлях мостить!
Дружину сбивали наспех, из тех, кто случился в княжом терему. Иван Федоров не успел даже проскакать до дому, предупредить мать об отъезде. Торопливо заглатывая какую-то снедь, выводили, седлали и торочили коней. Уже через час передовая сторожа мчалась, протопотав по наплавному мосту, в заречье, исчезая в неоглядных лугах, по дороге на Коломну. Суздальских князей велено было похватать и поковать в железа, хотя бы за Сурою. Иная большая рать шла в сугон за передовою сторожей.
Скакали не останавливаясь, на подставах меняя лошадей. Кто и не выдерживал, падал с коня. Хрипящих полуживых кметей без жалости оставляли на дороге – опосле подберут! И все-таки надежды перенять суздальцев было мало: три дня потеряли на пересылках с нижегородским наместником, да за Рязанью ждали запаздывающих слухачей из Нижнего.
Ночью спали вполглаза, не спали, дремали скорей, через два часа уже подымали качающихся ратных в седла. Иван, соскочивши с седла, провел рукою по потемнелой конской шее. Конь был мокр, и неясно было даже: доскачет ли до очередной подставы? Тем паче, подставы тут были уже не свои, а великого князя рязанского, а дальше пойдут татарские ямы, где без серебра и вовсе не добудешь коней. Молодой ратник, дотянувший досюда, тоже сползши с седла, хватал воздух ртом, как галчонок. Истекающий смолою бор молчаливо стоял окрест. Кони, освобожденные от железа удил, умученно хватали зубами клочья травы. Тут уже острова леса чередовались с лугами, и стояла тишина, гулкая, сторожкая тишина ничьей земли, где и купцы-то, едучи, сбивались в великие караваны, дабы оберечь себя от татей да диких татар, бродников ли, – кого только нет здесь, на неясном рубеже русских земель и Дикого поля!
– Не можешь скакать, вертай к дому! – предложил Иван. – Назади наша рать, подберут!
Воин потряс головой: не хочу, мол! И сил уже нет, а гордость не дозволяет отстать от полка! Иван уже безразлично кивнул ратнику, вдел железо в губы коню, полез в седло. Ежели и догоним, как будем ратитьце? Догнать!
Глухо гудела от топота копыт дорога. Чей-то конь, попав ногой в сусличью нору, рухнул. Всадник стремглав перелетел через голову коня, тяжело шмякнувшись оземь. Не остановили, не помогли подняться на ноги, лишь задние, отворачивая голову от клубящейся пыли, скользом взглядывали на неудачника, что, хромая, шел к своей сломавшей ногу лошади, на ее обреченное призывное ржанье, намеривая перерезать горло коню и, облегчив торока поводной лошади, скакать вослед уходящей за окоем рати.
Раз пять теряли и вновь находили след суздальских беглецов. По остаткам костров, по вытоптанной земле виделось, что у Кирдяпы с Семеном немалая дружина с собою. Пришлось подождать своих, не то и самим в полон угодить было бы мочно, по пословице: пошли по шерсть, а вернулись стриженые. И Иван Федоров втайне радовался, что не он воеводою этого, почти безнадежного преследованья.
Черные, спавшие с лиц, на изможденных конях, выбрались они к Волге, и только затем, чтобы обозреть догоравшие костры суздальцев, брошенную изорванную упряжь, остатки шатров и иного незанадобившегося добра да обезножевших одров, что разбрелись теперь, хромая, вдоль берега, опасливо взглядывая на новых всадников, что, толпясь, смотрели с угора на отбегавшие, в дали дальней, смоленые челны, явно заготовленные заранее. И, с сердитым ропотом на осрамившихся воевод, не поспевших всего-то на несколько часов, нарастало, ширилось тайное облегчение. Теперь уже казалось, что и лишнего дня этой сумасшедшей гоньбы не выдержали бы ни кони, ни люди… И только одно долило и кметей, и воевод: как, после позорного многодневного пути домой, глянуть в очи великому князю, как сказать, что не выполнили службы и не поймали ворогов его, ушедших в Орду?
Василий, впрочем, встретил злую весть относительно спокойно. В Сарай уже ускакал Федор Кошка с сыном, с дарами и поминками, заверивши великого князя, что сделает все возможное, дабы сохранить Нижний за Москвой, и что заранее уверен в успехе.
– Дарами пересилим! Да и не до того ему, княже!
Иные дела отвлекли. Надвинулась наконец свадьба сестры. Справили ее Петровками, четырнадцатого июня, невзирая на пост. Василий впрочем, дабы не грешить самому, сразу после торжеств, проводивши сестру с мужем до границ княжества, отправился объезжать волости, всюду выслушивая одно и то же: жалобы на Литву и опасения Витовтовых набегов. Иные, говоря о том, отводили глаза, и Василий понимал их: ему не верили, опасаясь, что женатый на дочери Витовта князь будет теперь мирволить захватам литовского тестя.
Он возвращался в Москву (о неудаче с суздальцами ему уже донесли) ясным летним днем начинающегося покоса. В лугах громоздились кучи голубого свежего сена, ходили рядами, извилистой цепью, бабы с граблями, мужики, покрикивая, вершили стога. До дороги, до покрытых пылью и потом княжеских всадников доносились звонкие песни из полей, и в небе, над древнею и вечно молодою землею таяли в голубом мареве призрачные облачные башни, растворяясь в жарком сиянии солнечных лучей. Ехали приотпустивши поводья, и на многих лицах было: слезть бы с коня, добраться до косы да рогатых тройней, которыми сейчас вон тот мужик с парнем, в очередь, подают душистые копны сухого сена на стог! И князь ехал задумчив, гадая: не предстоят ли ему скорые споры с тестем? О том же Новгороде, или Пскове, или Северских землях, Смоленских ли, и как будет вести себя тогда Соня, его любовь, его печаль?
Он представил себе Соню в супружеской постели и тряхнул кудрями непокрытой головы, отгоняя грешное видение.
Витовт пока еще не подступал с войском к русскому рубежу, хватало дел с немцами! А подступит? Думать не хотелось! Чертили воздух длинными крылами стрижи. Жаворонок висел где-то там, в разбавленной молоком синеве неба, невидимый летний певец. Разноцветные потыкухи донимали коней, и начищенное железо ратной охраны сверкало так, что слепило глаза.
Второго июля у Владимира Андреича родился сын Василий, и великий князь, три дня как воротившийся из пути, с супругою были на крестинах. Они сидели «как два голубка», по выражению одной из боярынь, тихие и умиротворенные, поминутно взглядывая друг на друга. Софья встретила мужа на этот раз безо всякой игры и поддразниваний. Оставшись наедине, молча, жадно приникла к его устам, потом, побросавши одежду, ласкала его так же молча, неистово. Даже заплакала под конец от сладкой муки, а потом, раскрывши смеженные очи, строго поглядев в близкие глаза Василия, высказала глухо и твердо:
– Забеременею нынче! Сына тебе рожу!
И теперь, взглядывая на Владимирова крепкого малыша, оба молча переглядывались, и Соня, едва заметно улыбаясь краем губ, чуть-чуть склоняла украшенную жемчугами голову: да, сына! Такого же, вот! И Василий, склоняя голову в ответ, верил: будет сын, наследник, продолжатель рода великих князей владимирских! И для него должен он, Василий, оставить княжество окрепшим и осильневшим, и пусть Кирдяпа с Семеном не надеются ни на что! Нижнего он им не отдаст!