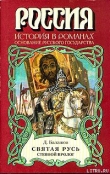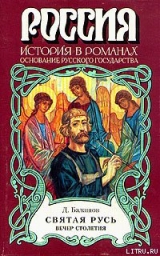
Текст книги "Святая Русь. Книга 3"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц)
Дмитрий Михайлович Балашов
Святая русь. Книга 3
Часть седьмая. ВЕЧЕР СТОЛЕТИЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Смеркалось. На угасающей желтизне вечерней зари прилегла, огустевая и лиловея, дымчатая череда облаков, словно усталые странники из дали дальней, из земель незнаемых бредущего небесного каравана. Трапезная со своим вознесенным шатром уже вся была залита тенью и вздымалась молчаливой громадою, готовая раствориться в сумерках ночи. Белые столбы дымов из Заречья, еще недавно розовые, тоже посерели и смеркли, ловя неслышно подкрадывающуюся темноту. Кельи, осыпанные снегом, мерцали редкими огоньками волоковых окон, никак не нарушая медленной вечерней тишины. Молчал лес, уже трудно различимый, слитною темною массою обступивший монастырь. Жалобно прокричал невдали филин, ночной тать монастырских ворон. Ему ответил едва слышимый далекий волчий вой. Нынче и по зимам уже волки остерегались, как когда-то, подходить к самой Троицкой обители, и Сергий, совершающий свой ежевечерний обход монастыря, вовсе не опасался серых разбойников. Он рассеянно слушал лесные голоса, безотчетно уносясь мыслью к делам московским: болезни великого князя, долгожданному возвращению княжича Василия из Ляшской земли и безлепому доселе состоянию русской митрополии…
Иноки были сейчас заняты многоразличными работами: кто тачал сапоги, кто шил, кто резал посуду, кто переписывал книги, и лишь в келье иконописного мастера Конона творилась какая-то неподобь, судя по шуму, доносящемуся оттуда. Услыхав излиха громкие голоса, Сергий подошел под окошко, дабы, по обыкновению своему, постучать в колоду окна, и остоялся. Поднятая было рука с посохом застыла в воздухе, а потом медленно опустилась долу. В келье шел богословский спор.
– Да не в том дело, сколь тамо статей противу католиков! Не в статьях, пойми, духовная суть! – кричал молодой злой голос. («Конон, иконописец! – разом определил Сергий. – А еще кто? »)
– Эдак ты договоришься и до ереси стригольнической! – рассудливо отвечал ему второй, и этого Сергий определил далеко не сразу, пока не понял, что в келье гости из Андрониковой обители. («И значит, отрок Рублев с ними, слушает! » – догадал Сергий.)
– Договорюсь! – не отступал Конон. – Хошь и все твои шесть статей владыки Продрома перечислю: и о посте в субботу, и о Великого поста умалении, и о безбрачии ихних прелатов, и о двойном помазании для епископов и мирян, и об опресноках, иже суть служение иудейское, и о пресловутом возглашении от Отца и Сына… Но, однако, глубинная основа не в том! Не в том тайна! Тайна в духовном! В том, что церковь Божию, горний Иерусалим, низвели на землю, что папу своего заместо Христа поставили!
– Папа наместник не Христа, а святого Петра в Риме! – подал голос гость из Андрониковой обители.
– Пусть! Да еще доказать надобно, был ли в Риме и сам святой Петр!
– Евсевий…
– Евсевий твой ничевуху баял! О Петре в Риме и речь-то зашла токо через двести лет! Да и опять: кабы и был? Сам Христос земной власти отвергся; соборно штоб, всем миром! Так-то! Да и не в папах одних зло, а в отвержении свободы воли, вот в чем! В том, что почитают одних обреченными свету от самого рождения своего, других же – тьме. Сие есть ересь манихейская! И жидовство к тому! Ибо жиды сугубо утверждают, яко все предречено человеку Господом до рождения его!
– Апостол Павел…
– Мало что апостол Павел! Он ить говорил и так, и другояк! И сам Иисус вопросил: суббота для человека али человек для субботы? Так-то!
– Конон прав! – раздался голос доныне молчавшего Епифания. – Ежели все предопределено, то где грех? Что ни сверши – заповедано, мол, переже рождения моего! Без свободной воли не мочно быти ни греху, ни воздаянию! Это и преподобный Сергий баял!
Сергий не успел улыбнуться заглазной похвале Епифания, как вновь загремел глас Конона:
– Оттого и церковь латынская обмирщела: поместья там, бани, то, се… С королем у папы война, сожигают еретиков, а того нету в них разумения, что сего тоже не заповедал Христос, ни богатств стяжания, ни мучительств! Разве ж мочно насилием приобщать ко Господу!
– А Стефан Храп?
– А што Храп? Рубил идольские капища? Дак и Владимир Святой свергал Перуна! Храп в ту землю дикую явился один, безоружен, без силы воинской, убеждал словом, а не мечами, как те рыцари в славянском Поморье! Дак и не путай тово! И филиокве пото и возглашают, дабы на небесах устроить, яко же и на земле! Видал, как пишут иконы ихние? Да и сказывали наши, кто в Кракове сидел! От византийского чина отошли, святые у их – яко рыцари в латах, Мария-Дева в золоте, да в жемчугах, да в пышных платьях, што та паненка какая али королева сама! Иной пан попросит да пенязей даст изографам, его и напишут в свиту к апостолам! Дак вот и пойми! Сами в миру – и святых в мирскую скверну за собой тянут! Пото и ереси! Да и енти, во франках которые, бают, на самого Христа замахнулись!
Сергий уже было двинулся продолжить свой обход, но тут заговорил доныне молчавший, неведомый троицкому игумену гость, и по въедливому вопрошанию, не по словам даже, а по излиха сладкому голосу говорившего понял Сергий, что гость, возможно, тайный католик, а то даже и еретик, стригольник или манихей, и сурово сжал губы. Но – пусть! Сам Феодосий Великий у себя в Киеве не гнушался ходить и прилюдно спорить с жидами. Верным надобно уметь владеть словом истины, дабы побеждать в спорах врагов веры Христовой.
– Рыцари храма Соломонова, рекомые «тамплиеры»…
– Ето которых круль франков огнем пожег?
– Которы на крест плевали?! – уточнили сразу несколько голосов.
– Они самые… Дак вот, они отрицали божественность Иисуса, пото и плевали на крест, считая его простым орудием казни. А что касаемо самого Христа, то в отреченном Евангелии от Варфоломея сказано, что были у него родные братья, Иисус лишь старший из них, и, более того, что был у него брат-близнец Фома, Таома, что по-еврейски и означает: брат-близнец. И что дети они вовсе не Иосифа, а отцом их был Иуда из Гамалы, или Иуда Галилеянин, создавший братство зилотов. Иуда же Искариот, предавший Христа, – сын его брата Симона, то есть племянник Спасителя.
– Ну и что ж, что у Христа были братья! Эка тайна! – тотчас возразил Конон. – Прочти Евангелие от Марка, не надо и отреченных искать! Иосиф жил с Марией после рождения Христа? Не отослал от себя, стало – жил! И детей она ему, уж как должно, рожала! Чего чудного в том? Уж как снизошел в мир, дак ничто мирское не было чуждо! Эку нашли, пра-слово, укоризну Сыну Божию! Што мать его, понимашь, с мужем честно жила, как должно супружнице, в законе, и детей от супруга рожала! А Иосиф тоже не ксендз какой, чтобы на стороне грешить да подкидывать кому младеней незаконнорожденных… Бают еще, брат у ево был единоутробный? Близняк, стало? Тому не поверю! Близняки – они, вишь, у их все единакое… Да и как же тогда одного-то Мария во храм принесла? О другом ведь и речи не было с Симеоном-то богоприимцем… Был бы близняк у Спасителя, дак и принесла бы обоих во храм! Да и то не причина, чтоб Господа отрицать! Для Вышняго все возможно! Сказано: вочеловечился, родился в мир, нашего ради спасения! А как уж там, как еще Мария рожала… Не грешила ведь, от мужа законного детей принесла!
– Жиды бают, – подал голос Епифаний. – Мария была портомойка и понесла от римского солдата Пентеры…
– То – лжа! – тотчас взорвался Конон. – Что ж он, Иосиф, али какой он там, Гамала ентот, шлюху подзаборную в жены взял? Да и как узналось, как запомнили, што полторы тыщи лет тому назад было с какой-то портомойницей? Сами сочинили сплетку ту, да и доселе талдычат! Им признать Спасителя – беда сущая! Выходит, сами чаяли, ждали прихода Мессии, а пришел – и на Голгофу ево! Им Христа признать, дак каяти во грехе непростимом придет! Уже и не отмолиться до Страшного суда! Тут не то что портомойницу тамо да римского ратного, а кого хошь присочинят! И вовсе, скажут, не было Христа-то! А уж коли припрет, дак опеть скажут: мол, он иудей, из наших, стало! А какой иудей, когда Сын Божий, а родичи из Галилеи! И пришел в мир в Иудее токмо затем, что там, у жидов, дьявол наибольшую власть забрал! Пожар тушат не где тихо, а где огнь яр! Да што баять о том опосле Златоустовых слов! У ево все сказано, и полно о том глаголати! А кто Иисусов отец, дак о том рассуждать токмо безбожник может! Иосиф али еще кто… Иисус от Бога рожен! От Духа Свята! Речено бо есть: непорочное зачатие! Дак при чем тут какой-то отец, окроме Отца Небесного?! Другие-то, рожденные от Иосифа али от Гамалы там, обычные были люди, как ты да я! Из них небось никоторый Нагорной проповеди не баял и мертвых не воскрешал! Сами твои рыцари с жидами порешили, что Спаситель не Бог, дак и ищут ему земного родителя побезобразнее… Дьяволово учение! И правильно круль франков с има поступил, што огнем пожег! Не сверши он того, дак они бы весь мир захапали и издевались надо всема, как им ихняя вера скажет! Знаем, ведаем! Не первый снег на голову пал! Вона как божьи дворяне над пруссами диковали! Истребили, почитай, всю ихнюю землю! Какой малый прок пруссов осталси, дак в Новгород Великий перебежал, недаром тамо целая улица так и доселева зовется Прусская! Дьявол, во-первых, отымет свободну волю, а тамо, без воли-то, дак кого хошь голыми руками возьми! Злато-серебро, бабы там лихие, да всякая срамота содомская, да чины-звания, да и самое сладимое: над братьей своей во Христе галиться, как хошь! То и будет, егда придет ихняя власть! Нет, лучше наврозь, да на воле! А коли нужа ратная прихлынет, дак честно на борони главы свои положить не зазорно то! На том стоит земля! И наш игумен благословил рать, что пошла на Дон противу Мамая! Сколькие из той рати не вернулись домой! А устояла земля! И вера Христова не изгибла в русичах! Так-то!
– Но Тохтамыш…
– Што Тохтамыш! Пьяны перепились! Кабы на тверезую голову да с молитвой, николи б не взяли ироды Москвы! Опеть сами виноваты, и неча на Бога валить! Неделю б токмо выстояли, Тохтамыш и сам ушел! А то – сперва срамные уды татарам казать, а опосле и побежали кланяться: прости, мол, нас! Больше не будем… Воины! Не в монастыре бы, еще и не то слово молвил про их!
– Ну дан и мочно ли называть Русь святою, коли мы без пьяни никакого дела вершить не можем, а во хмелю способны ворогу родину продать?! – не выдержал кто-то из молодых иноков.
– А пото! Да, не безгрешны мы, никоторый из нас не свят, но сама Русь свята! Пото, што держим Христово учение без отмены, безо всяких там латынских скверн, што такие есть среди нас, как игумен Сергий, как покойный владыка Алексий, да мало ли! Что мы добры! Что русская баба накормит голодного татарина, что в избе, куда ты зайдешь напиться, тебе нальют молока вместо воды, что страннику николи не откажут в ночлеге, что среди нас всякий людин иного племени принят как равный, как гость – будь то мордвин, мерянин, чудин ли, вепс, вогул, фрязин – кто хошь! Что из Поморья, от немцев, бегут к нам, что со степи при всяком ихнем розмирье опять же к нам бегут: сколь крещеных татар ноне в русской службе! И никоторый нами не обижен! А осильнеем – поди, и всему миру станем защитою! Еще и пото Русь свята, что в православие никого не обращают насильно, что святых книг не жгут на Руси! Да, храмы, быват, и горят – дерево дак! Но нету того, чтобы с намерением жечь, как ксендзы творят на Волыни! И чужие языки мы не губим, как те орденские рыцари, за то только, что не нашей веры! Пото мы и великий народ! Пото и вера наша – вера не скорби, а радости! Наш Бог прежде всего благ! Прибежище и пристань! Ибо добром и любовью, а не страхом ставилась наша земля. Да, да! И страшен Господь, и премудр, но заглавнее – благ! Мир сотворен любовью, а не ужасом! Ты баешь – Стефан Храп. Дак Храп вон для зырян грамоту создал! Стало, у нас всяк язык славит Господа своим ясаком, а не то что латынь, тамо и не моги иначе! И – попомни слово мое! Погинет Орден – и Русь возглавит совокупное множество народов, отселе и до Каракорума, ну хоть до Сибири самой!
Как только дело коснулось Святой Руси, спор возгорелся с новою силой. Заговорили сразу несколько голосов, среди которых опять выделился резкий голос Конона:
– Духовная власть выше мирской!
И снова вмешался тот, кого Сергий окрестил тайным католиком: мол, чем же тогда виновен папа, желающий упрочить свою власть над королями и императорами?
И опять ему начал возражать Епифаний, который тут, в споре, словно бы замещал отсутствующего епископа Федора:
– Потребно не обмирщение церкви, как в Риме, но надстояние ее над мирскою властью!
– Почто наш игумен и отверг сан митрополита русского! – поддержал Конон.
– Ради Пимена?!
– О Пимене речи не было тогда!
– Дак ради Митяя!
– Не в том суть! Люди смертны! Греховен может оказаться и бездуховный глава, но как раз безопаснее, когда недостойный пастырь не облечен мирскою властью. А достойный все одно будет почтен от людей, даже и не имея высокого сана, опять-таки как наш игумен!
– Соборность полагает согласие, а не власть силы, в том и тайна нераздельности божества, на которую потешились замахнуться католики со своими филиокве!
– А как же тогда писать Троицу? – вдруг прозвучал отроческий голос, и Сергий тотчас понял, что то Андрейка, сын Рубеля, возвращает противников к началу спора, и он медленно улыбнулся в темноте.
– Как… – Конон задумался, посопел. – Одно скажу: не Авраам тут надобен, не пир, а сама Троица! Я того не дерзаю, пишу по подлинникам, а токмо сердцем чую: что-то здесь не так! Еще не весь толк воплощен… Вона, игумен наш о Троице день и нощь мыслит! Тут и начала и концы, исток всего, всей веры Христовой! – И, одобрев голосом, видно повернувшись сам к отроку, довершил: – Вырастешь, Андрейша, станешь мастером добрым, сам и помысли, как ее, Троицу, сугубо писать!
В келье засмеялись, потом загомонили вновь, но Сергий, застывший на морозе, уже не внимал спору. Он тихо отошел от окна, улыбаясь про себя. В далеких, юных, уже почти невзаправдашних годах, когда он ратовал здесь один, отбиваясь от волков, хлада и бесовских наваждений, знал ли он, верил ли наступлению нынешнего дня? Тогда одно лишь блазнило: уцелеть, выстоять! И вот теперь есть уже кому пронести свечу духовную во мрак и холод грядущих столетий! Он воспитал, взрастил смену себе и уже вскоре сможет отойти в тот, горний мир, к которому смертный обязан готовить себя во всякий час в течение всей жизни. Ибо вечная жизнь на земле была бы остановом всего сущего, гибелью юности, препоною всяческого движения бытия. Вечная жизнь на земле стала бы смертью человечества! И Господь, всегда все разумеющий лучше творения своего, во благости своей предусмотрел, создавая ветхого Адама, неизбежность конца и обновления. И не так важно теперь, напишет ли Конон, или кто другой, или этот отрок Андрейка Троицу такою, какой она видится ему, Сергию. Когда-нибудь кто-то обязательно напишет ее! Слово суетно. Мысль, выраженная в письме иконном, больше скажет сердцу прихожанина. Да и можно ли словами изобразить веру Христову? Всю жизнь он не столько говорил, сколько показывал примером, что есть истинное служение Господу, следуя, насколько мог, заветам самого Спасителя. И вот теперь у него множатся ученики, как было обещано ему в давнем чудесном видении…
Не изменит ли Русь высокому назначению своему? Не прельстится ли на соблазны латинского Запада, на роскошества бытия, на искусы богатства и власти, не падет ли жертвою натиска грозных сил – всей мощи папского Рима, губящего днесь древнюю Византию и алчущего погубити Русь? Поймут ли далекие потомки, что иной путь, кроме предуказанного Спасителем, путь незаботного земного бытия, путь похотей власти губителен для языка русского?
Дай, Господи, земле моей разумения и воли, дай пастырей добрых народу моему!
Небо померкло. Одна только пурпуровая полоса еще горела на закатной стороне стемневшего небесного свода, и по густому окрасу ее виделось: завтра будет мороз.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Пока продолжались пышные встречи, пока кормили и поили ляшских и литовских вельмож, Василию все не удавалось поговорить с родителем с глазу на глаз. Братья и сестры за время его долгого отсутствия выросли, стали почти чужими. Юрий фыркал заносчиво, не желая близости с воротившимся братом. Только сестра Маша с Настей сразу приняли обретенного старшего брата и ходили за ним хвостом, расспрашивая, как там и что. Какова королева Ядвига, да как одеваются польские паненки, да как себя ведут? Пришлось показать и даже поцеловать руки тотчас зардевшимся девочкам.
Все родное, домашнее было ему теперь как-то внове. С гульбища теремов глядючи на раскинувшийся у ног Кремник, тотчас вспоминал он игольчатые готические соборы Кракова, крепостные белокаменные башни и стены ревниво сравнивались с каменными замками и стенами польских городов, и порою свое казалось и проще, и хуже, а порою – узорнее и милей. Он даже от великой трудноты душевной обратился к Даниле Феофанычу, и старый спутник княжой подумал, помедлил, ухватив себя за бороду, и ответил наконец так:
– Свое! Вона, татары в шатрах, в юртах ентих весь век живут, и не забедно им! Свое завсегда милей, да и привычнее. У нас ить дожди, сырь! Выстрой себе из камяни замок-от, дак простудной хвори не оберешься! Русскому человеку без бревенчатой сосновой хоромины, без русской печи с лежанкой да без бани – не жисть!
Объяснил, а не успокоил. Только месяцы спустя, когда поблекли воспоминания о пышных краковских празднествах, начал Василий понемногу чуять свое, родное по-должному – как неотторжимо свое до и помимо сравнений, хоть с восточною, хоть с западною украсою…
Отец позвал его на говорю неделю спустя. До того, понял Василий, присматривался к сыну, и не просто так, а для чего-то крайне надобного родителю. И первый вопрос, когда остались наконец вдвоем в горнице верхних теремов, в тесной, жарко натопленной, застланной не ковром, а косматой медвединой, загроможденной огромным расписным сундуком и обширной постелью с пологом, увешанной по стенам иконами и оружием (дареным, ордынским), – первый вопрос был у отца к сыну:
– Не обесерменился тамо, в ляхах? («Обесермениться» в Польше было не можно, но Василий смолчал, дабы не прекословить отцу.) В латынскую ересь не впал? – уточнил Дмитрий, подозрительно глянув на сына. – Как Киприан твой…
О Киприановом «латынстве» Василий тоже не стал спорить. Ни к чему было! Отец все одно не хочет и не захочет, пока жив, видеть возле себя болгарина.
– Киприана твоего видеть не хочу. Трус! – с нажимом продолжил отец. – Умру – тогда поступайте как знаете! Москвы сожженной простить ему не могу. Батько Олексей разве ушел бы? Да ни в жисть! И бояр бы взострил, и народ послал на стены! Ты баешь, книжен он и все такое прочее… А ведаешь, сколь тех книг погибло, дымом изошло, кои батько Олексей всю жисть собирал! Тамо такие были… что мне и не выговорить! Грецки, сорочински, халдейски, всяки там… коих и твой Киприан не читал! Сочти и помысли: сколь могло на тех книгах вырасти ученого народу!
– Митяй… – начал было Василий.
– А што Митяй! – оборвал отец. – И книжен был, и разумен!
– А галицки епархии… Кабы не Киприан…
Но отец и тут не дал ему говорить:
– Не верю! Я вон мыслил Соню за Ягайлу отдать, а ни лысого беса не вышло бы все одно! Прелаты латынски не позволили бы, передолили! Ульяна вон и та не сумела Ольгерда на православие уговорить, обадить… Так и помер! Кто бает – язычником, кто бает – христианином, а Литву все одно католикам отдали! И Витовтовой дочери, сын, боюсь!
Дмитрий сидел большой, тяжелый, оплывший, с нездоровыми мешками в подглазьях, и Василию вдруг горячо, по-детски стало жаль родителя. Захотелось обнять его, прижаться, как когда-то в детстве, расцеловать, утешить. Видимо, и Дмитрий что-то понял, скоса глянув на сына, утупил очи, вздохнувши во всю жирную грудь, произнес тихо:
– Овогды не чаял, дождусь ли… Тута колгота в боярах, Юрко прочили в место твое. Не подеритесь, сыны, на могиле моей, не шевельните костью родительской!
(«Не кто иной, как Федька Свибл! – с тайной злостью на отцова возлюбленника подумал Василий. – То-то Юрко зверем на меня глядит! »)
Дмитрий помолчал, вновь поднял на сына глаза, требовательные, взыскующие:
– Доносят, с дочерью Витовтовой слюбились тамо? Я ить прочил Софьюшку за князя Ягайлу отдать, дабы и Литву… – Он не договорил, задумался. Вопросил вдруг тревожно: – Не съест тебя Витовт твой?
– Не съест! Литовски жены, почитай, никого еще не съели! Ни Семена Гордого, ни нашего Владимира Андреича, ни Бориса Кстиныча, ни Ивана Михалыча Тверского, ни Ваню Новосильцева, – отмолвил Василий, прикровенно улыбнувшись. Не над отцом. Вспомнилась Соня, и словно теплом овеяло.
Дмитрий помолчал, понял. Опять свесил голову.
– Ну, тогда… А все одно, пожди! Как тамо и што. Ноне не вдаст ю замуж, Ягайло воспретит, круль дан! – Отец отмахнул головой, отвердел ликом: – Хочу, сын, великое княжение тебе оставить в вотчину, по заповеди Олексиевой. Пора! Не все нам ордынски наказы слушать! Кошка доносит, царю нонь не до нас, уступит… Ну, и я… Батько Олексей, покойник, того и хотел! К тому половину моих московских жеребьев тебе одному отдаю, на старейший путь. Да Коломну, да волости, да прикупы… В грамоте все писано! Братья не обездолены тоже… Ну и – велю мелким князьям на Москве жить! За доглядом твоим штоб и под рукою всегда. Без того – двору умаление. У царя ордынского вон подручные царевичи тоже под рукою живут, не грех перенять!.. Владимир Андреич будет тебе, как и мне, младшим братом. Началуй! Великую власть тебе вручаю, не урони! А уж коли Господь отымет… Али деток не станет у тя, тогда Юрко… А до того ты ему в отца место. Помни! Не задеритесь, сыны! – вновь требовательно повторил он и замолк, свесил голову. Видимо, затем только и звал: повестить о завещании.
Василий лишь потом понял, постиг всю глубину отцова замысла и размер ноши, свалившейся ему на плечи с этим решением родительским. Всю Русь – эко! Великое княжение, за которое столетьями дрались князья Киевской, потом Владимирской Руси – в вотчину и род! Ему одному, старшему! И такожде наперед – вся власть старшему сыну! Не было того ни в Литве, ни в Орде. Не было и в Византии самой! Пока же просто выслушал, склонивши чело, принял почти как должное. Досыти и прежде того было с отцом о вышней власти.
– Нижний надобно не упустить. Семена с Кирдяпой смирить – тебе поручаю. Я уже не успею того. С Рязанью ноне мир, чаю, и тверской князь не станет никоторой пакости творить. А Нижний – надобен!
– Москву из-за Кирдяпы сдали? – решился подать голос Василий.
– Бают, роту давал один Семен, он и в особой чести у хана. Василий, слышь, токо рядом стоял.
– Словом, не воровал, а за чужой клетью хозяина сторожил, пока дружки добро тянут! – недобро уточнил Василий.
Дмитрий воздохнул:
– Так-то оно так! Да Василий Кирдяпа к тому еще и старший сын! С им оттого и докуки поболе… На Кирдяпу особо не налегай! Тохтамыш его в железах держал, бают. Авось поумнел с того! А с Семена за Москву спросить надобно полною мерой!
Оба задумались. В комнате копилась тишина, потрескивало дерево, ровно горели свечи, огоньки их плавали, дробясь, в слюдяных оконцах горницы.
– Иди! – наконец разрешил отец.
Василий двинулся было к выходу, остоялся, быстро подошел к отцу, взял руку родителя, тяжелую, бессильную, горячо и молча облобызал. И отец чутко, легко огладил сына по волосам. У обоих защипало в глазах в этот миг.