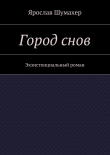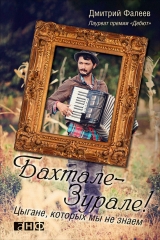
Текст книги "Бахтале-зурале! Цыгане, которых мы не знаем"
Автор книги: Дмитрий Фалеев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Кушайте этого человека!»
В нашем сознании цыганский табор – это волчье логово, живым не уйдешь. Забора нет, но никто из русских туда не сунется, не придет и в голову. А мне вот пришло. Я тут же и сунулся – просто наобум, не имея понятия о том, как буду подбирать к ним ключик. Хотел составить стратегический план действий, но в голову лезла сплошная чушь. Мне было ясно, что ни одна из привычных схем тут не сработает. Что же делать? Решил, что любовь сокрушает все преграды, а я цыган люблю, и, значит, у меня все получится само собою.
Купил колбасы и бутылку перцовки. На всякий случай.
Вот уже и табор.
Ста шагов не сделал – меня окружает цыганское секьюрити: молодые ребята с золотыми зубами, решительные, собранные, с очень серьезным выражением на лицах. Я среди них, как ромашка в поле – лиричный и беленький. Не оплошать бы, не поскользнуться.
И вот объясняю – я, мол, писатель, мне бы хотелось поговорить с бароном, где он живет?
Так они и скажут! Скажут: «Разбежался! Еще чего не надо ли?» Я для них чужой, шпион, непонятность, ошибся адресом. Но я не ошибся. Глазами так и щупают. А один паренек:
– Писатель? Ладно. Документы с собой есть?
– А у тебя?
Парни смеются. Юмор – главная вещь при налаживании контактов с представителями других цивилизаций.
Паренька зовут Валера. Потом оказалось, настоящее имя у него Кореец (он же Пико). Он меня ведет по цыганской улице – через весь табор. У кого есть глаза – все прилипли к окошкам, и хотя нас только двое, мы производим эффект демонстрации. На нас взирают с безмолвным любопытством, но это безмолвие в любую секунду готово лопнуть, взорваться изнутри – столько в нем энергии и интереса, со всех сторон! Я это чувствую. В памяти всплывают строчки Крылова:
По улицам слона водили,
Как видно, напоказ —
Известно, что слоны в диковинку у нас.
Кореец на ходу о чем-то информирует каждое окошко – налево и направо. Он ловит внимание, купается в славе – ведь в эти минуты он ведет событие, событие – я!
К одному из домов приставлена лестница. На крыше – цыган. Он настилает новый рубероид, молоток работает, но вот обернулся – и больше не слышно ударов молотка. Оседлав конек, он вопросительно смотрит на меня, но спросить не может – зажал в зубах гвозди.
Все вроде мирно, как вдруг по табору захлопали двери, и от каждого крыльца в моем направлении устремляется цыганка (а то и по две!), одна другой толще. Вот оно – лопнуло! Такое впечатление, как будто я привез что-то дефицитное и хозяйки испугались, что на всех не хватит.
Кореец по-приятельски мне подмигивает, берет за локоть и сообщает:
– Я им сказал, что ты раздаешь по тысяче рублей всем, кто тебе интересное расскажет.
В мгновение ока вокруг меня собирается толпа желающих рассказать что-то интересное. Осажденный цыганками, я пускаюсь в разъяснения своей истинной цели. Кореец исчезает, как мелкий бес. Мои слова про бескорыстие и дружбу цыганок сильно разочаровывают. Одна тетка обиделась настолько, что пошла скандалить:
– Да кто тебе тут даром станет рассказывать?! Если без денег – иди в колхоз, там тебе расскажут про навоз, про корову… Иди-иди с Богом! Я тут барониха, я над всеми домами командую. Что тебе еще нужно? Дай тыщу – все расскажем. Не жалей. Видишь – дети голодные, кушать просят. Что я им скажу? «Кушайте этого человека»?!
И смех и грех! Тут подходит настоящая «барониха» – Лиза Мустафа. С ней мы разговариваем так уважительно, как будто мы члены Аглицкого клуба, но к черту дипломатию! Под этим девизом в беседу вступает Женико Грекович – он в зеленой шляпе, с березовой палкой заместо посоха, один глаз косой, другой сверкает, как у пирата при виде сокровищ.
Женико Грекович еще не знает, что произошло и кто я такой, однако, при этом ему точно известно, что без него тут не разберутся. Ведь это невозможно, чтобы что-то случилось, а он не участвовал! Он же герой! Он в зеленой шляпе!
– Ты к кому?
– К барону.
– А барон уехал! – Женико Грекович рубит сплеча. – К отцу, в Молдавию! На год! На два!
– А мне только что сказали, что он уехал с сыновьями в город и скоро вернется.
– Кто?!
– Она, – показал на Лизу.
Крыть ему нечем, но Женико Грекович – такая натура, что если не сделает из мухи слона, тотчас же перестанет себя уважать. На него за это даже нельзя сердиться. Я ему толкую, что пишу о цыганах – книгу, роман. Он видит перцовку, колбасу, фрукты, ему интересно, и чем больше интереса, тем больше желания подогреть ситуацию. Женико Грекович не банальный скандалист, он просто скучает, и душа его рвется от скуки прочь – как птица из клетки!
– Пишешь «о цыганах»!.. «Корреспондент»!.. – Женико говорит это даже не мне, а всем присутствующим, словно артист, который обращается не к партнеру по сцене, а к зрительному залу. – Вам что ни скажи, вы все равно по-своему придумаете! Все равно напишешь, что все цыгане алкаши и бичи!
– Не напишу.
– Алкаши и бичи!
После этой фразы в спор включилось еще человек десять, и Женико, конечно, был очень доволен, что из-за него разгорелся такой замечательный сыр-бор.
Котлярам вообще интересно спорить не ради правды, а из азарта. Чтобы пошуметь! Никаких аргументов они слушать не хотят. Будут перебивать и без конца повторять тебе одно и то же, пока ты не поймешь, что спорить бесполезно, а они, увидев, что ты замолчал, обрадуются, решив, что они тебя переубедили, вернее, победа осталась за ними – их самолюбию это важно. Основной метод ведения спора у цыган – галдеж. Любая, даже самая здравая мысль в нем пропадает, как капля в море!
Оказалось, что барон все это время стоял в сторонке, улыбаясь и слушая, как повернется этот разговор. Может, он один и хотел понять, чтоя говорю. И он это понял. Греко Мустафа. Почтенный старик с седой бородой, в темном костюме. Похожий на Льва Толстого – то есть старость его такого же благородного свойства; мудрец, старейшина.
Через десять минут перцовка уже наполняла стаканы, а Лиза с Березой, своей снохою, выносили закуску из дома на улицу.
Все-таки приняли. Я – с диктофоном. Барон – интеллигентный, точнее обходительный. Без цыганской наглости. Хороший рассказчик. Мысль развивает спокойно, плавно, уверенно и четко. Вроде бы добрый, но совсем не добряк. Интонацию привычно выбирает такую, как будто хочет тебя с чем-то примирить, увещевает – типа я все понимаю, и ты все пойми. Но эта понятливость, расположение – непроницаемы (подобную манеру говорить и держаться я не раз встречал у православных батюшек).
Мы сидим напротив друг друга. Греко улыбается и гладит бороду. У него крупный цыганский нос, так что все остальные части лица словно прилегают к нему в довесок. Нос господствует над ними, как зáмок над разросшимся вокруг стен посадом.
А говорили-то: «Барон уехал», «В город», «В Молдавию»!.. Цыгане врут без зазрения совести. Все они такие. Наплетут с три короба за глаза и за уши. У них это национальный вид спорта, как в Бразилии футбол, а в Англии бокс. Поэтому в таборе всегда фильтруй, что тебе говорят. Тут надо заметить – цыгане врут не только из алчности. Они сочиняют – лишь бы веселее да красивее вышло! Лишь бы выставиться покруче. Любой цыган на голом месте, даже на помойке, возведет из вранья настоящий дворец! На это у них головы хватает.
Познакомился я как-то с одним цыганом. Он был не котляр, а русский цыган. Играл в переходе на станции «Рыбацкое». Звали его Саша. Волосы до плеч, одет оборванцем, гитара раздолбанная. Его послушать, так он выступал и с группой «Земляне», и с Гребенщиковым, и «с Сашкой Градским давали жару!». Еще болтает: «Наш род в Питере с 1811 года. Отец был военный, а брат – артист! Если б он не спился, он был бы известный, как Аль Пачино!»
Когда в разговоре этот Саша узнал, что я писатель, тут же предложил написать нам вместе «книгу-сенсацию, чтобы называлась “Рождение Земли” – о том, как люди так Землю загадили, что ей придется родиться заново». Не знаю, какой у него талант в литературе и что за слог, но гитарист он был никудышный. Играл примитивно.
Вообще цыган, когда он на людях, немножко в образе. Сам за собой он едва ли замечает такую черту, поскольку он редко бывает один, и органично сросся с этим образом – цыгана из цыган, ему даже кажется, он такой и есть – ведь ему это лестно, а какой он по правде, знает только он сам, а бывает, что и сам себе знать не позволяет. Чтобы не было проблем.
У цыган, как у многих восточных народов, закоренело двуличных и скрытных, волевая сдержанность в проявлении искренних чувств и порывов души поощряется традицией и воспитанием, поэтому игра, некое актерство в общении занимает у них место гораздо большее, нежели у русских. Иногда это выглядит непривлекательно, как что-то гнилое – дешевые угрозы, самохвальство, гонор; иногда забавно – ведь хорошие люди хорошо общаются! И тогда минус превращается в плюс! Они же по сути неплохие ребята. Даже в карты мухлюют не ради выигрыша, а ради куража. Чтоб возникла какая-то прекрасная смута или ерунда! Происходит это так. Все, кто садится играть в «дурачка», те и есть шулера, но приемы у них детские; не приемы, а проказы. Не смущаясь кроют «шляпой», а когда уличишь их – «Извини! Я ошибся!». И так они готовы ошибаться всякий раз, когда ты отвлекся. Играешь по парам – мигают глазами, пинают друг дружку под столом ногами. Это взрослые люди! Хоть им под тридцать, хоть шестьдесят – с бородами, с усами! Кричат на весь дом:
– А вот – получай!
– Лошадью ходи!
А прикинув расклад – своему сопернику:
– Гарри, ты покойник!
– Не скачи! – и Гарри бьется так смачно, как будто он не в «подкидного» режется, а пустился в сражение, и карты, которые он мечет на стол, – это его последние патроны. Они вылетают у него из руки с таким отчаянным воодушевлением, что способны насмерть прихлопнуть муху!
– Вот тебе! Вот тебе!
Гарри в пух и прах разобьет противника!
Но не тут-то было! У противника тоже глаза не на затылке.
– Э-э, товарищ! – восклицает Артур, соперник Гарри. – Откуда у тебя козырной валет? Он уже вышел! Ты взял его из биты!
И так целый вечер… Не по-английски, а в миллион раз лучше!
Без такого антуража это была бы не игра, а тоска!
Или в Панеево – сидим у Червонца, подходит все тот же Женико Грекович:
– Слушай, Дима: ты же сейчас в Ленинграде живешь? А к нам вчера корреспонденты с Ленинграда приезжали. Я дал им интервью!
– Ты сочиняешь – по глазам вижу!
– Нет! Они тебя знают! Спросили про тебя… А раньше к нам Листьев приезжал. Влад Листьев. Снимал барона, снимал бабушку. Он составил книжку наших портретов! [13]13
Котляры вместо «фотографии» говорят «портреты».
[Закрыть]
Другой цыган по имени Петро (усатый, в очках, очки у них редкость), о ком бы речь у нас ни зашла, все время прибавлял:
– А я его знаю. Мы с ним знакомы.
Например, я рассказываю:
– Писал недавно статью об известном цыганском скрипаче Сергее Эрденко.
– Я его знаю. Он у нас был.
– Ходил на концерт к Эмиру Кустурице.
– А я его знаю. Он к нам приезжал.
В плане открытия подобных сенсаций табор в Панеево – уникальное место. Там я однажды услышал неизвестное стихотворение Александра Пушкина! Барон рассказал. За чашкой чая. Стихи он читает нараспев – как былину; громко, с выражением. Руки поднимает, словно славит на Пасху воскресение Христа:
Говорится: вот шатер,
А напротив шатра
Старик сидит с бородой.
Напротив шатра—
Не при горе гора—
Сидит комсомолец цыган.
Он речи ведет,
Он с цыганами поет:
«Эй цыгане! Гей цыгане!
Нас оседлости зовут
Кочевать мы перестали!
Все за дело, все за труд!»
– Это Пушкин написал! – восклицает Женико.
– Он очень любил, – говорю, – ваш народ.
А Петро (это который в очках) опять за свое:
– Пушкин? Ну как же?! Знаю такого!
– Если знаешь, тогда расскажи мне про него!
– Он был… (в глазах – секундное смятение) хороший человек!
В этот момент по табору разносятся гудки автомобилей – шоферы сигналят, что из горинской кумпании котляров немцони приехал жених. Дом невесты украшен красным платком – он висит снаружи у двери. Жених – молоденький, несколько неловкий в своей серьезности, немногословный. В голубой рубашке и черных брюках. Заходим в дом. Дэвлалэ-Дэвла! [14]14
Господи Боже!
[Закрыть]Сколько тут народа! Все довольные, все нарядные, все веселые. Только у невесты взгляд тяжелый. Она как будто отчужденная от всех. Ей не до веселья. Ей ни до чего! Сосредоточенно и нервно. Она понимает – совершается нечто для нее судьбоносное, то, что будет направлять весь ход ее жизни и в радости, и в горе. Это не просто жених приехал – все ее будущее стоит за порогом, как темный лес. Не отвернешься.
Зять любит взять
Разводы у котляров – исключительная редкость. Семьи их прочные. По обстоятельствам. Потому что развод, как бы плохо ни жили, обычно приводит к тому, что обоим (и ей, и ему) после развода становится хуже. Некуда деваться. И разводов нету.
Хотя браки заключаются не по любви.
Невесту для сына выбирают родители. Свадьбы играют лет в тринадцать-пятнадцать. «Двадцать лет – это уже старуха!» – говорят котляры. Младшая дочка не может выйти раньше старшей.
Свадьбе обязательно предшествует сватовство. Выбирать невесту, как правило, ездят в другие таборы – за новой кровью.
Могут сосватать совершенных малюток. Я видел, как трехлетние жених и невеста пускают кораблики в одной луже. Родители действуют настолько загодя, чтобы перекрыть дорогу другим возможным конкурентам – к сосватанной девушке никто не посмеет подойти с намерениями отбить ее.
– Как же выбирают из таких малышей?
– На мать смотрят, на отца, на достаток. Если семья хорошая, здоровая, значит, и ребенок такой же вырастет.
Получается так, что лучшие цыганочки с детских лет уже заняты. Кто-то задержался – начинаются проблемы. Едет отец по знакомым таборам высматривать сыну своему невесту. Размышляет он так: «Ух, и красавицу я ему найду! У всех от зависти глаза вылезут! Век меня благодарить будет!» Приезжает он в гости в соседнюю кумпанию, а в ней красавицы все уже расписаны. Цыган вздохнет, голову почешет и держит путь в следующий табор. Там история обидно повторяется. Он едет дальше, но куда ни прибудет – ситуация та же. Наконец надоело – он устал, на нервах и уже другими глазами смотрит: «А и эта ничего, хотя так себе с виду. Дай бог, характер у нее добрый!»
Когда выбрали невесту, происходит сватовство. Семья жениха накрывает столы в доме невесты для всей кумпании. Отец жениха приносит плоску – украшенную лентами бутылку шампанского. Он ее вручает возможному тестю. Если тот плоску открывает – значит, «сватанье случилось». Другое дело, что по закону отец невесты волен «сомневаться» – затянуть интригу, ловко лавируя между «да» и «нет», на несколько суток! Пока он «сомневается», весь табор гуляет за счет сватов – в среднем пару дней, но бывает и больше. Когда в Панеево приезжие цыгане (из поселка Пери, Ленинградская область, кумпания тимони) сватали за Стаса Тимову дочку, праздник продолжался четыре дня. Сваты вложили 50 000. Самого Стаса с собой не привезли – он остался в Пери, «у него уроки, он в школу ходит!» Да и зачем? Отец и мать больше понимают. Успеет еще на невесту наглядеться!
Если отказ и отец невесты возвращает плоску, потому что не хочет или передумал, то он обязан возместить сватам их финансовые затраты. Это по закону, но практика такая: коль гульба пошла, то и свадьбе быть. В этих случаях отец невесты говорит свекру: «Кэрав туса форо» («Строю с тобой город»). Он готов отдать свою дочку в семью этого цыгана. Но не бесплатно!
С незапамятных времен у котляров положено платить за невесту выкуп – калым. Его размер назначает тесть. В первой половине XX века в Восточной Европе эта сумма колебалась от 500 до 700 золотых монет, у нас – 8–10. Чувствуете разницу? Существует легенда, что в Россию котляры приехали как раз потому, что здесь цена невест была очень низкой.
Суммы действительно очень разнятся. «У заграничных кэлдэраров они чрезвычайно высоки, и невесте это не сулит ничего хорошего. Девочка достается новой семье такой ценой, что воспринимается как собственность, и даже ближайшие родственники не смогут защитить ее от плохого обращения. В Австрии даже случаются самоубийства молодых замужних женщин (в целом абсолютно цыганам несвойственные)» [15]15
Николай Бессонов. «Цыгане шумною толпою…» // Вокруг света. Июнь. 2007.
[Закрыть].
Калым выдается в старинных монетах, которые бережно хранятся в семьях уже сотню лет – попадаются дукаты Марии-Терезии, турецкие лиры эпохи султаната, австрийские кроны Франца-Иосифа и наши, царские, империалы. Котляры дорожат ими, как нумизматы. Даже если семья откровенно нуждается или выглядит нищей – у нее все равно на задворках закопана банка с золотом. Котляры от золота прямо без ума – лучше разорятся, занимая на бизнес деньги под самые людоедские проценты, но к зарытому сокровищу не прикоснутся! Оно для них священно. Не заначка, а реликвия, счастливый талисман.
…И вот наступает торжественный день свадьбы. Русские на ней – лишь видеооператор да музыканты с аппаратурой. Некоторые цыгане намеренно шикуют и, чтобы про них в таборах говорили: «Ай, какие щедрые! Какие богатые!», покупают очень дорогую водку, высшего сорта колбасу.
За праздничным столом, а вернее столами, собираются мужчины. Роль тамады исполняет какой-нибудь бойкий паренек с легким характером. Его роль минимальна – организовать вручение подарков. Гости беседуют, играет музыка – почти как у нас, но… никто не пьяный! Это только считается, что цыганская свадьба – форменный дебош. Как раз наоборот! На свадьбе они держатся с подчеркнутым достоинством, благообразием. По этикету. Субординация – старики сидят, молодежь стоит. Дети шныряют, таская со стола конфеты и фрукты; детям можно все.
Накануне свадьбы из молодежи выбирают дежурных. Они контролируют ход мероприятия и, если кто-то начинает бузить, тотчас подлетают к нему и успокаивают – мирными средствами. Могут предложить немного проветриться на свежем воздухе, а в крайнем случае проводят до дома – человек покемарит пару часов у себя на диване и вернется к столам вполне адекватный.
Если гости на свадьбе все же поругаются, это считается плохой приметой. Молодым – дурной знак, а гостю, устроившему скандал, еще хуже – в сильной степени страдает его репутация; в таборе все его осуждают: «Как же, мол, так! На свадьбе повздорил! Другого случая не мог найти! Фу! Пьяница!» Есть выражение про тех, кто напился: «Хоть на лопату его бери!»
Кстати говоря, на свадьбы котляры никого не приглашают – все сами приходят, потому что в курсе.
Был я однажды на свадьбе в Горино, приехал как раз ко второму столу – его накрыли в доме невесты, а первый уже съели – он был сервирован в доме ее дяди. За тамаду выступал брат отца жениха – в красной рубашке и «кричащем» галстуке, с микрофоном в руках. Невеста в белом платье стояла с ним рядом и держала поднос. Тамада поочередно вызывал гостей, сидящих за столом. Подходили семьями – муж, жена, их взрослые дети. На полкуплета включалась музыка, и все танцевали, а точнее, делали вид, что танцуют. Мужчины дарили в приданое деньги. Тамада объявлял вносимую сумму, чтобы тем, кто пожадничает, было стыдно, а слава о тех, кто особо уважил юную пару, не осталась в кулуарах. Сумма колебалась от 300 рублей до 3000. Самую крупную дал Жаркой и за это получил львиную долю свадебного торта.
В 90-е годы, до деноминации, доходы от «подарков» исчислялись в миллионах – 4 600 000 р., 3 900 000 р. Сейчас скромнее: 50 000 – уже неплохо.
Женщины дарили невесте платья, юбки, косынки, а также драгоценности – кольца, кулончики, серьги, браслеты.
Прямо дарят и дарят, несут и несут! От каждой семьи! В итоге невеста получила, наверное, целый гардероб! Одних только юбок штук под тридцать!
– Куда ей столько?
– На всю жизнь дарят, – говорит Володя. У него образ: усы кавалериста, военный китель, кирзачи, папаха! Ему шашку – и Чапаев! На плечах – пять звезд. Я в армии не был, но потом мне сведущие люди объяснили, что пять звезд – это коньяк, а в русской армии максимум – четыре! Я так подумал, что рядом со мной сидел цыганский генералиссимус!
Платье невесте покупала свекровь – «она берет в дом новую хозяйку, поэтому платит», «свекруха выбирает невесту вместе с платьем».
После подарков – обычное застолье. Что хочешь, то и делай. Организации никакой. Никаких конкурсов. Никаких тостов. Никаких «горько!» Все довольно однообразно. Но и беспорядков тоже никаких. От них хранит однозначность оценок, на которые можно легко нарваться, нарушив этикет. Люди не забудут. Так что изволь держать себя в рамках. Как другие цыгане. Уважай их, и они будут уважать тебя. В таборе очень неудобно шкодить – все на виду, а дурная слава по цыганской почте разносится быстро. Своевольничать нельзя («будь, как все»), но это не значит, что нельзя веселиться.
Другое дело – сейчас наметилась неприятная тенденция. Суть ее в следующем: если ты танцуешь, от души веселишься, котляры скажут «клоун», «несолидный человек». Не пристало бизнесменам скакать, как подросткам! Но и подростки насмотрелись на старших и уже танцуют больше для порядка, чем от натуры, но если начнут, выходит обалденно – азартно, ловко. У цыган свободные и смелые движенья – не только в танце. Это не отнять. Они сдержанны, но непринужденны.
Любят подначивать кого-то на танец – прихлопами, притопами: давай, мол, давай. А сами смотрят, очень довольные, что раскрутили: «Молодец! Молодец!»
Музыка играет преимущественно цыганская, в особом фаворе «Кабриолет», а вообще котлярам симпатичны любые популярные народные мелодии в эстрадной обработке, неважно какие: русские, еврейские, украинские, индийские, азербайджанские. Отдельная любовь к итальянскому ретро, этот язык им нравится, как музыка. Звучит и шансон. Так что «Семь сорок» вполне логично продолжает «Чито гврито», за ней «На Мясоедовской», «С одесского кичмана», «Джамайка», «Нанэ цоха».
Часов в 11–12 ночи гульба приостанавливается. Старые женщины ведут молодых в отдельную комнату, где наставляют их в азах брачной жизни. Не у всех пацанов получается сразу, особенно если свадьба «на выезде» – в другом таборе. Дома – моментально, с первой попытки; там и стены помогают.
По котлярским понятием главное украшение невесты – невинность. Окровавленную простыню выносят гостям в доказательство того, что невеста – «честная». Иногда свекровь с этой простыней танцует. Все опять садятся за накрытые столы и гуляют, сколько влезет.
Раньше был обычай – наутро после свадьбы семьи новобрачных обходили дома, и в каждый из домов приносили ведро питьевой воды. Этот обряд, согласно поверью, приносил удачу. В настоящее время он обидно упростился, и ведро с водой получает только тесть – он из него должен умыться.
А молодая жена – уже в косынке (знаком замужества) – проводит в своем новом доме первую уборку (метет полы), но эта уборка пока не настоящая – смысл ее носит ритуальный характер, чисто символический.
На свадьбах гуляют по два-три дня.
Если семья жениха небогата, «сватанье» и свадьбу объединяют, потому что так в два раза дешевле. Особенно актуальным стал этот маневр в период кризиса – котляры его на себе ощутили с осени 2008 года.
Свадьбы стремятся приурочить к лету, потому что солнце, потому что тепло. Столы накрывают прямо на улице. В казанах, установленных над открытым огнем, на железных брусьях, рядами по пять или шесть штук, готовится свинина. В огромных баках варятся цельными тушками куры. Приглашенные музыканты подключают аппаратуру, но в таборе обычно есть свои «артисты», которые по ходу праздничных гуляний сами садятся за инструменты, берут микрофоны – и понеслось!
Ты душа моя косолапая!
Что болишь ты у меня, кровью капая,
Кровью капая в пыль дорожную…
Не случилось бы со мной невозможное…
«На свадьбе ни есть, ни петь не хочешь – только танцуй! – говорит Береза. – Хоть целый день!»
А потом начинается замужняя жизнь – свекровка учит молодую девушку всему по хозяйству, больше от нее ничего не требуют. «Стирай, мой, смотри за детьми, вари всем обед, а мужчина только покушать принесет, деньги заработает. У нас женщина мужчине подчиняется. Если он скажет – женщина сделает».
Первый ребенок – обычно через год или через два. Ранние роды (в четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет) приводят к тому, что бывает так, что в роддоме, в одной палате, оказываются одновременно и дочь, и мать. Мать готова родить дочери брата или сестру, а дочка маме – внука или внучку.
Официально браки регистрируют гораздо позже реальной свадьбы, но чаще просто живут без штампа, поэтому дети, как правило, носят фамилию матери. Сербиянка Маша мне рассказала такую историю:
– Мы с мужем прожили тридцать лет, а потом вдруг стали давать новобрачным по двести рублей! Официально. Муж и говорит: «Пойдем, мать, сходим – на Рождество купим внукам подарки, одежку новую – в школу ходить». Пошли и расписались, хотя тридцать лет уже вместе прожили и внуки уже были!
Мне все же интересен другой нюанс:
– А если мальчику невеста не нравится?
– Ну они же дети, – отвечает Гога. – Им четырнадцать-пятнадцать лет. Они к этому относятся несерьезно – как к игрушкам. Не понимают, что на всю жизнь. Им легко что-то навязать. Раз родители решили – значит, так и надо. Родители плохого не подскажут никогда. Осознание приходит гораздо позднее, часто уже и ребенок есть. Куда тут расходиться, особенно девушке?
– И что же они?
– Переживают, но терпят. Мы их маленькими женим, потому что они, пока маленькие, – послушные, а потом как-нибудь – стерпится-слюбится, возьмутся в руки [16]16
Возьмут себя в руки.
[Закрыть].
Это мнение мужчины. Но цыганки ему только поддакивают:
– Женщина, которая с одним поживет, с другим поживет, – это не женщина! Ну, побил он тебя – все бывает. К мамке убежишь, поживешь с ней неделю, потом вернешься, поставишь чай, муж приходит – как ничего не было: живем, разговариваем, телевизор смотрим! [17]17
Известны случаи, когда цыганки убегали к родителям совсем не «на неделю», а на полгода или даже год, но потом возвращались, осознав и прочувствовав всю бесперспективность положения жены, сбежавшей от мужа: тебя просто не поймут, скажут «сумасшедшая». Легко ли быть перед людьми «сумасшедшей»? Тут нужен характер, чтоб переломить такую ситуацию в свою пользу. Гораздо легче вернуться к мужу и больше не ссориться – ведь муж тоже за прошедший год кое-что понял, намотал на ус.
[Закрыть]
А сами женихи? Им-то каково?
Пико – старший сын Червонца и Березы. Ему исполнилось тринадцать лет. Пора уже сватать. Спрашиваю:
– Пико, хочешь жениться?
– Как мама скажет.
– А невеста нравится?
– Маме нравится.
– А тебе?
Пико смущенно морщится, а младший брательник по имени Тима куражится:
– Богиня!
Ему-то смешно. Не его свадьба! Ему еще рано. Но с ним будет так же. С отцом было так же. С дедом и прадедом. Эта традиция уходит в века.
Родители Пико до свадьбы даже ни разу не виделись! «Я ее вообще не знал, она меня не знала. Мы взялись не по любви. Отец и мать говорили жениться, и я женился», – сообщает Червонец.
Мать его, Лиза, вспоминает то же: «Родители выбрали. Я своего мужа вообще не любила! А теперь двенадцать человек детей! По любви у нас ни одна цыганка замуж не вышла! Мать-отец видят – девочка красивая, вот и берут. А жених не касается. Когда посватали, его спрашивают: “Тебе понравилась?” Нравится, не нравится – он соглашается. И делают свадьбу!»
Свидетельства похожи:
«Отец был в Чебоксарах (я даже не знал, что есть такой город), увидел невесту. Там уже решили с ее родителями. Потом нас поженили. Семь лет уже вместе».
В общем, котляры в этом вопросе начисто избавлены от проблемы выбора. Вся ответственность на родителях. Те, понятно, хотят как лучше, но бывает, все складывается так неудачно, что прямо несчастье. Есть один цыган, как зовут – неважно. Про него и в таборе скажут: «Червяк», «Придурок», «Жадный». Он и точно жадный, глупый, тщеславный, лицемерный, завистливый, крайне недоверчив, думает, что все хотят его обмануть, потому что сам всем врет и обманывает. А жена у него – умная, хорошая, достойная женщина, но живет с придурком и понимает, что деться ей некуда – она будет с ним жить и будет рожать от него детей. Это страшно. Вот она и ходит усталая, грустная; блеск в глазах у нее потух – редко мелькнут в них черные искры прежней неподдельной и доброй радости. А она красивая, с красивыми чувствами; не для Червяка она родилась, а вот – сосватали. Кто же знал?! Перетерпела. Живет с мужем мирно. Воспитывает детей. Как-то да что-то. Могло быть и хуже.
Из подобных ситуаций иногда вырастают настоящие драмы, которые потом надолго остаются в народной памяти. Привожу одну из таких быличек в почти дословной диктофонной расшифровке.
«Одна девушка дружила с парнем. По закону ей не давали выйти за этого парня, а хотели выдать ее за другого. Она того парня не любит. Любимый ей предлагает бежать. Она не решилась. В общем, насильно взяли и отдали ее за другого цыгана. Она всегда плакала, всегда недовольная была своей судьбою. Вот пойдет она в лес, плачет-плачет, смотрит на небо и говорит: “Господи! Отдали меня за нелюбимого человека из-за его богатства! Как же мне жить? Покушение на себя сделать, отравиться что ли? Что мне делать?” Муж начинал уже ее бить – ну видит, что она его не любит. А она говорит: “Чем так жить, лучше пойду к речке и кинусь я”.
Ну и пошла она к речке кинуться, стала на высокий берег и помолилась богу. Все, говорит, кидаюсь. И откуда-то летит ее парень – тот, кого она любила, выхватил ее, удержал от смерти и говорит: “Если ты кинешься, я за тобой, но я не допущу, чтобы ты умерла. Пускай хоть весь табор нас видит вместе, что хотят пускай с нами делают. Я тебя заберу. Я не дам, чтобы ты страдала и мучилась”.
В общем, они решились и убежали. Цыгане стали разыскивать их. Слухи ходили, что поймают – убьют, так разозлились на эту пару. Скрывались они пятнадцать лет. У них дети появились, все, и они пошли в другой город, в другой табор и стали объяснять свою ситуацию. “Вот так, вот так, вот так, вот так, – говорит она. – Люблю его, он меня, а меня отдали за деньги и богатство за другого замуж. Мне немило было жить, я хотела кинуться, покушение на себя сделать, вот. Что мне делать? Мы убежали. Пятнадцать лет прошло с тех пор, а мне все хвалятся, что если его поймают, меня поймают – зарежут, убьют нас обоих. Вы как барон, такой знатный цыган, рассудите нас – столько время прошло! Да, я стыд сделала, позор сделала, но ведь столько лет прошло! Смирение какое-то должно быть?!”
Этот барон спросил, чья она дочь, и говорит: “Да, мы слышали вашу историю, но я тебе помогу”. Она говорит: “Только вы поручитесь, что с ним ничего не будет и со мной”. “Да, – говорит барон. – Я поручаюсь”. После дал он телеграммы ее родителям, они приехали и с ними еще те цыгане, которые дали калым за нее. Сделали расчет, калым-золото возвратили этой семье, все обошлось по культурному, спокойно.
Прошло после этой разборки пять лет. Внезапно поймал ее первый муж. Подстерег и убил ее очень жестоко. А перед смертью сказал: “Раз ты мне не досталась, и ему ты все равно не достанешься, хоть и столько времени прошло”. И он ее взял и убил, и потом сам себя порезал».
Цыганка, которая мне это рассказала, считала, что когда-то нечто похожее случилось в жизни на самом деле.
А насчет разводов – редко у кого, но они случаются. Когда не сложилось, когда молодые ужиться не могут. Как кошка с собакой. Несовместимость. Воротит их в стороны. Поэтому разводы, если и бывают, то в первые месяцы после свадьбы, а не так, что живут себе несколько лет чин-чинарем, а потом надоело, бросают друг друга. Про такое не слышал. Знаю про другое.