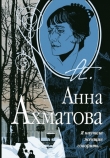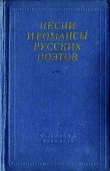Текст книги "Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2"
Автор книги: Дмитрий Бобышев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
ДЕЛО БРАУНА – БЕРГЕРА
Посещения «Звезды» подарили мне ещё одного стихотворствующего знакомца – Анатолия Бергера. Это был рослый начинающий лысеть брюнет, возможно, отслуживший армейский срок и оттого имевший заметную выправку и закалённость – свойства, впрочем, не столь уж важные в стихосложении, в противовес тому, что думал об этом Даниил Гранин. Что же касается стихов, то те, что были читаны им в кружке, не слишком-то впечатляли, но жестами и междометиями он давал знать, что в запасе имеет нечто посущественней.
Эти обещания плюс два-три комплимента моим сочинениям заставили меня им заинтересоваться. Я побывал у него в одном из южных пригородов Питера, послушал его тайные и пылкие стихи – по тому времени несомненную крамолу. Я этого и ожидал, но предпочёл бы словесное экспериментаторство, дерзкую образность, какие-нибудь языковые находки... Та крамола, увы, была чисто политической, что было тоже интересно, но всё же не так. Одно стихотворение, например, осуждало мятеж декабристов, посягнувших на трон как на воплощение священных жизненных устоев, в другом – прославлялась жертвенность Белого движения, и всё это было написано и читалось в коммунистическом Ленинграде, «колыбели революции», в самый разгар брежневского, не требующего иного эпитета, правления.
И всё ж необычным здесь была не крамола, которой я сам навысказывал и наслушался довольно, но строй мыслей русского государственника и патриота, и при этом – молодого еврея. Даже для меня это было крутовато, не совсем адекватно, или скажем так: небезусловно.
Я заметил Бергеру, что вольное слово само по себе оппозиционно власти, даже без политической нагрузки. Такая нагрузка, конечно, придаёт стихам остроты, но не художественной, а той, что несёт одни беспокойства для автора. Конечно, он был со мной не согласен, усмотрел тут одну осторожность и предложил, с некоторым соревновательным вызовом, устроить у него моё чтение «для узкого круга, для самых доверенных его друзей». Только из-за этого вызова я согласился.
Через неделю я вновь был у Бергера. Небольшая вытянутая от двери к окну комнатуха не позволяла собравшимся создать этот самый «круг». Несколько чужих мне людей итээровского вида уселись в ряд на складном диванчике, я – на стуле напротив и наискосок от них. Прочитал пару последних стихотворений, реакции не почувствовал и, разозлясь, обвалил им на головы, словно этажерку с книгами, свою многоголосую поэмину с дразнящим подзаголовком «почти молчание» в качестве обозначения жанра. Подразумевались здесь тучи и тучи невысказанных слов из той любовной бури, которую описывала (или лучше – выражала) поэма. Впрочем, я много подробнее высказался об этой истории в первой книге воспоминаний, в тех главах, что крепко разъярили московских и питерских критиков.
И тогда у Бергера тоже возник спор, чуть ли не перебранка, у меня с анонимными (Миша, Саша, Ирина) слушателями – о чём? – хоть убей, не помню, но выражался я, должно быть, весьма хлёстко. По крайней мере, некоторые из моих высказываний, вскоре после этого процитированных кагэбешным следователем, я выслушал с удивлением.
После чтения Толя Бергер пошёл проводить меня, и мы долго стояли на остановке, поджидая запаздывающий автобус. Балтийский с примесью местной гари ветер давно заставил меня съёжиться, запахнуть кашне, поднять воротник пальто. А он, наоборот, выпрямившись с голой шеей, с непокрытой лысеющей головой, всё твердил:
– Ничего, ничего, это ещё что! Выдержим...
Через месяц вдруг – хлоп по голове новостью! Его арестовали, да ещё как-то особенно погано, с мерзкими слухами, с инсинуациями, и к тому же заодно с Николаем Брауном-младшим, сыном Николая Леопольдовича. Подельники обвинялись в культе Гитлера, в ритуальном праздновании его дня рождения, а также в заговоре с целью покушения на жизнь верного ленинца Леонида Ильича Брежнева.
Звучало настолько дико, что не верилось ни единому слову, обвинение казалось натужной шуткой карательных органов, а узнать что-либо из независимых источников представлялось невозможным: как? Глушилки плотно завешивали радиоголоса, словно шторы в бомбёжку. К тому же, после вторжения в Чехословакию бесноватые цензоры стали применять особую технику: поверх монотонного воя накладывали какой-нибудь рок-н-ролл с подпрыгом, отобранный, должно быть, у фарцовщиков, и слушать такое было пыткой для ушей.
Приходилось идти к таким же, как ты, оглушённым. Я в ту пору общался с одной литераторской парой, в квартире на первом этаже на улице Чайковского (но не композитора, а террориста), бывшей Сергиевской, по имени Свято-Сергиевского подворья, когда-то располагавшегося на углу с Литейным. В новейшие времена её так и не переименовали обратно – зачем? Вместо монастыря там построено бюро пропусков в Большой дом, а Чайковский звучит музыкально.
В той квартире жили Севостьяновы, Саша и Мила. Меня с ними познакомил Довлатов, которого они дружно обожали. Саша, худощавый блондин с тоской в голубых глазах, служил сначала простым рабочим, а потом и непростым, театральным, то есть – рабочим сцены, но писал, как и Довлатов, прозу, при этом – психологическую и деревенскую, даже со станичным уклоном, ибо родом был из казаков. Может быть, стиль его рассказов не выглядел или не звучал при устных чтениях особенно самостоятельным, но для казака подражать не Шолохову или Крючкову, а, например, Шервуду Андерсену было очень даже шикарно.
Его кругленькая Мила, всегда с сигаретой в мелких зубах и скифским разрезом глаз, была тоже творческой личностью и работала, опять же, как Довлатов, в одной из многотиражек. И она, и её младшая сестра Ира с обликом и взглядом, как на утреннем автопортрете Серебряковой, происходили из семьи Лансере. Младшая была замужем за театральным художником, у сестры гостила по праздникам, когда приглашалась молодая богема, с которой, иронически посмеиваясь, смешивались старшие, и происходила некоторая вакханалия, в центре которой, как правило, оказывалась Ирочка, импровизирующая сиртаки, да так, словно ей одной удалось восприять этот танец с последнего незатопленного острова Атлантиды. С чем рифмовался этот танец, с ритмом ноги, с поворотами молодого стана и плечей? С тем, что все греки были юными, не так ли? Не так ли, Ира? Весёлые часы и дни празднеств у Севостьяновых повторялись нередко, как будто каждому из них удавалось родиться по нескольку раз в году.
На более скромных застольях, естественно, делились и слухами, хотя и скудно. Время-то было мрачное, откатное. Год назад вдарили по Праге, а теперь отдачу почувствовали всюду. Вот ещё и дело Брауна... Как-то всё это, в особенности культ Гитлера, не согласуется с тем, что его отец – осторожнейший литературный чиновник, проводящий в «Звезде» сугубо партийную линию.
– Из немцев... – разъяснил Довлатов. – Я Колю Брауна немного знаю, – типичный плейбой. В одной специфической компании предложил всем танцевать голыми. Я, человек от природы стеснительный, не смог ему последовать, а он прыгал так, что его жёлтая пипка шлёпала по животу.
Всё-таки он – мастер ёмкого описания. Но именно это, слишком уж «в струю» со слухами, заставило вспомнить, кем служил Сергей ещё недавно: исполнительно-жевательными мышцами в пенитенциарной системе. И я вдруг перестал доверять Довлатову.
Между тем моё древо жизни дало сильную боковую ветвь: устыдившись работы в пропагандном ведомстве, я ушёл с телевидения, о котором так исчерпывающе выразилась Н. Я. Мандельштам. Ушёл, но делал вид, что ещё связан. Получилось так: я готовил серию передач под условным названием «Гулливер в стране полимеров» и на заглавную роль приглашал специалистов из родной Техноложки. Один из моих высокоумных ведущих проницательно оглядел нашу редакционную шатию-братию и вдруг предложил:
– Вы знаете, я иногда даю консультации во ВНИИ профтехобразования. Есть такое заведение на улице Черняховского, параллельно Лиговке. Там сейчас как раз освободилось место научного сотрудника. Работа – строго между нами – «не бей лежачего». Изредка – командировки. Почему бы вам не попробовать?
– Весьма заинтересован.
– Сошлитесь на меня, а я им позвоню. И попробуйте отстоять для себя как можно больше библиотечных дней – у вас будет время, чтобы писать.
– Решено!
И мы с Гулливером затрясли друг друга в рукопожатии.
Договариваясь с заведующей отделом на новой работе, я отнюдь не лгал, выторговывая себе свободные дни для ещё не оконченных передач. А когда они всё-таки закончились, договор остался в силе: я ходил скучать на улицу Черняховского за те же деньги, но через день.
Прогулки в обед бывали интересны. Окна заведения выходили на зады Крестовоздвиженского собора, своим фасадом с колонным полукружием и ладной Предтеченской колокольней глядящими на Лиговку. Я обошёл всё это подворье, но ходу внутрь не было: там находились неизвестно что производящие мастерские. «Монумент-скульптура» – смутно всплывает в моей памяти вывеска на жёлтой стене собора. Обогнув квартал по Обводному каналу, я шёл по стыдливо открывающимся задворкам и чувствовал к ним жалость, наподобие тютчевской. Только вместо «бедных селений и скудной природы» я видел неказистую котельную и мусорный контейнер с гипсовым ломом – отходы монументально-декоративного производства. Среди разбитых фрагментов можно было разглядеть пернатые обломки крыльев, задранную кверху белеющую ногу – скорее всего, юношескую. Ангел? Не может быть.
Вернувшись в отдел, я тут же вышел покурить на лестницу, откуда из окна была видна та же свалка, но – сверху. И вдруг меня осенило: это – Икар. По замыслу скульптора – Икар взлетающий, что было исключительно в жилу для пропаганды выдающихся достижений в космосе и вело к массовому изготовлению садово-парковых изваяний. Но увы, увы! Произошло то, что никакой штукарь-ваятель не мог предусмотреть: авария в космосе, гибель космонавта и, соответственно, падение Икара. Именно его гипсовая нога и торчала из пучины обломков.
Нашла меня заведующая отделом, по виду – типичная училка, может быть, даже заслуженная. Даже какой-нибудь республики: судя по разрезу глаз, Башкирской или Калмыцкой. Почему-то я воображал, что она, вопреки своему положению в научном институте, тайно верующая, может быть – буддистка, и ждал от неё знаков. Действительно, она заметно волновалась, но произнесла всего лишь:
– Вас разыскивает ученый секретарь.
На цырлах – к нему. У того протокольная внешность, да я и раньше слыхал, что на этих должностях все – из Большого дома. Это немедленно подтвердилось:
– Мне сейчас звонили с Литейного... Вас вызывают в КГБ.
– По какому делу?
– Там узнаете. Вот номер телефона, набирайте сейчас и договаривайтесь.
Как театр начинается с вешалки, Мёртвый дом Госбезопасности начинался за квартал от себя, на Сергиевом подворье, перестроенном в бетонный куб: Бюро пропусков. Со страхом и отвращением я вошёл внутрь, но там было на удивление оживлённо. Как в нормальном советском учреждении, в зале ожидания стояла очередь к единственному открытому окошку. Я стал приглядываться к лицам и не увидел ни тени затравленности или замкнутого ожесточения, как это предполагалось бы у жертв. Неужели все они сексоты, стукачи? Вот сейчас, например, пропуск получает, слегка суетясь, какой-то типичный работяга – пьющий водопроводчик, да и только! Войдёт такой к тебе, будто из ЖЭКа, мол, батареи не текут? Стояк по всему зданию проверяем, а сам: зырь-зырь по полкам, по столу. Там корешок «Доктора Живаго» приметит, здесь – пухлую зачитанную машинопись... А за ним в очереди – какая-то тётка из гастронома. Ей-то что здесь делать? На соседа, должно быть, доносит. Так вот же – рядом на стенке висит деревянный ящичек с прорезью «Для заявлений уполномоченному ЛО КГБ». Дощечки – тёплого обжитого цвета, древесина залапана, затрогана множеством рук. Но тётке, – в точности, как та, что у меня за стенкой живёт, – надо же и устно что-нибудь сокровенное добавить. За ней – интеллигент из служащих, прочая конторская публика, кто-то чуть с богемным оттенком: замшевый пиджак. Все – свои в доску. Прямо передо мной – парень с открытым честным лицом, спокойными глазами. Вот такому так и тянет раскрыть свою душу начистоту, задружить с ним, закорешить, поделиться тем, что душу мутит, вместе во всём разобраться. Между тем парень уже у окошка. Слышу:
– У меня временный пропуск уже истёк, а постоянный ещё не готов. Что делать?
– На стажировке? Выписываю разовый. А постоянный получите в отделе.
Дальше уже мне:
– Вход с Воинова, пятый подъезд.
Прошмыгнул туда, пряча глаза от прохожих, чтоб за стукача не приняли. Потомили меня там, ещё раз проверяя паспорт, провели наверх, оставили в пустом кабинете. В тоскливом ожидании просидел я неизвестно сколько – минут? Часов? Не буду раздувать их на месяцы и годы, но это была часть психологической обработки: время тут – понятие мнимое. Вошёл рыжеватый коротко стриженный рослый военный с хорошими рычагами рук и с твёрдым взглядом. Представился:
– Старший следователь по особо важным делам Лесняков.
И пошло-поехало. Да? Нет. Да? Нет. Не знаю. Не помню. Слышал, но не знаком.
– Почему же не познакомились?
– Дома у них не бывал. С Николаем Леопольдовичем – только в редакции и на заседаниях литературного кружка.
– Ас Бергером?
– То же самое.
– А дома у него разве не были? Утаивать не советую. Он дал нам подробные показания об этом. Вот – протокол допроса за его подписью. И дополнительно изложил всё вот в этих тетрадях. Можете взглянуть. Узнаёте почерк?
Боже ж ты мой! Как это он успел столько накатать в две толстенных тетради – правда, крупным, как фасоль, почерком? Чего он тут наисповедовал?
– А эти стихи вам знакомы? – суёт ворох машинописи. Вот что-то про посягнувших на трон декабристов, вот нечто про Белое движение, прочее – лирическая лабуда.
– Возможно, я их и слышал, но со слуха как-то не запомнил.
– Как вы их сейчас оцениваете?
– Мне лично они не нравятся. Нехватка художественности восполняется политикой.
– Значит, вы предпочитаете художественность? Бергер приводит тут ваше высказывание: «Что художник нахаркает, то и есть искусство!» Это ваши слова?
Зазвонил телефон. Я, естественно, слышал только реплики следователя:
– Да, да, здесь. Да как вам сказать? Ни рыба, ни мясо... Хорошо, слушаюсь.
Внутренне я взвился на паршивое выражение, но на подначку его не пошёл, слишком уж явно это было сработано. А по поводу «харкающего искусством художника» ответил:
– Знаете, это высказывание не в моём стиле. Если я и произнёс такую фразу, то, наверное, кого-то процитировал, а кого – не помню.
Вышел я на Литейный не только в полном изнурении, но и с гадким чувством опозоренности. Зря, конечно, разозлился на бедного Толю. Но вроде бы лишнего не наговорил, ни ему, ни себе не напортил. Да, «ни рыба, ни мясо», пусть они так и считают. Старшие! Следователи! По особо важным делам! Государственной, видите ли, безопасности! Ахинея какая-то.
Жутко хотелось всё это обсудить, успокоиться, выпить. Я был поблизости от Севостьяновых. Они оказались дома, но когда я пустился рассказывать, оба воззрились на меня с молчаливым упрёком, который, после выразительной паузы, чётко «озвучила» Милочка:
– Димушок! Что же ты нас впутываешь? Ведь под монастырь подводишь!
Наверное, кроме пошлого суффикса, они были по-своему правы, и я тут же ушёл восвояси.
А получили подследственные и затем подсудимые соответственно: Браун – семь лет, и Бергер – четыре года в Мордовии, плюс два года ссылки в Красноярском крае.
В ГОСТЯХ У БАГРОВА-ВНУКА
Мой рекомендатель был не совсем прав: да, новая работёнка оказалась и в самом деле не бей лежачего, но при этом довольно «пыльной». Даже при посещении её через день в голове накапливались, как на книжных шкафах, серые наслоения, и развеивать их было чрезвычайно непросто. Кроме начальницы, якобы верующей, в отделе имелись две блондинки, молодая и молодящаяся, два честолюбца моего возраста из бывших школьных учителей, да ещё юный специалист, модный мальчик общительного нрава: вот с ним-то я чаще всего и разговаривал в перерывах. Он был вполне благовоспитан и даже учтив, но тёмен до чрезвычайности, отчего задавал мне уйму вопросов на разные темы, в том числе и касающиеся общественного и государственного устройства нашей страны. Ну, от ответов без труда можно было уклониться, но с каждым таким вопросом я всё более укреплялся в подозрениях, что мальчик этот скорее всего стукач. Стукач и стукач, мне-то что? Всё ж было досадно, а неподтверждённое подозрение отягощало меня возможной неправотой. Но и это, к счастью, оказалось фантазией: мальчик был-таки молодцом и впоследствии подтвердил это!
Наконец явилось верное средство от скуки и мнительности – послали меня в командировку: город Уфа! В дорогу я взял Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука», протекшие в тех самых окрестностях, и, конечно, не пожалел. Сама Уфа в своей татарской части показалась мне хаотическим скопищем домишек и переулков, негостеприимно развёрнутых к пешеходу глинобитными задами. Склоны оврагов, заселённые на такой манер, дробились подъёмами и вывертами. Площадь внезапно открывала из-за угла своё пыльное пространство с силуэтом мечети на краю. Самым впечатляющим был крутой скат к реке Белой, поросший кустарником и высоченными осокорями (заимствую это словцо из аксаковских описаний), сама Белая, блестевшая водными разворотами, появляющимися из-за вязовых крон, и в особенности – пойма низкого противоположного берега, уходящая в дымку башкирской лесостепи. И надо всем – беспредельная голубизна.
Химический комбинат, к которому имела отношение моя командировка, располагался выше по течению и, увы, доминировал над мирной и вневременной местностью, и без него уже отмеченной конным монументом с такой идеей, чтоб было национально, но не слишком вызывающе – Салават Юлаев! Из комбината исходило более простое послание этому миру: вонь, шип, лязг, пыль и пар, что означало загрязнение воды, воздуха и почвы, а также содержало совет являться туда как можно реже. Что я и делал.
Поселившись в полупустой высотной гостинице между городом и комбинатом, я часами смаковал тексты Аксакова и бродил по чащам и рощам, спускающимся к реке. И текст оживал: «Весёлое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса покрывались свистами, раскатами и щёлканьем соловьёв». Правда, «весёлое пение птичек» представляло собой нестерпимый штамп, но зато пассаж насчёт соловьиного пения воспринимался неплохо, и я поставил себе сверхзадачу: наслушаться этого вволю. Я не помнил, слышал ли я соловья раньше, а раз не помнил, так значит и нет. Долго я бродил, вслушиваясь во влажную тишину зарослей. Прощебечет ли какая-нибудь пеночка, зальётся ли трелью малиновка или зяблик, а я уж настороже – не это ли соловей? Наконец солнечные пятна сместились наискось со светло-глинистых тропок на ветви подлеска, стало понемногу смеркаться, и я услышал первую полновесную пробу: тии – вить – тук! И сразу раскрылась акустика леса, как будто опытный настройщик тронул клавиши в концертном зале. Да не настройщик, а мастер! Тю – ит, тю – ит, пуль – пуль – пуль – пуль, клы – клы – клы – клы, пью, пью, ци – фи, цы – фи, фьюиюиюиюию, го – го – го – го – ту! Так записал эти звуки Тургенев. Но как раз сейчас попались они мне в современной записи, сделанной некоей Мариной Гончаровой, причём не где-нибудь ещё, а в моём родном Таврическом саду. Неужели я этого раньше не слышал? – Купил-купил! Пил-пил! Тю-тю! Ить! Ить! – Кувик, кувик! Куписки, куписки! Фитюк, фитюк! Фить! – Чувак, чувак, кулик, кулик! На пески, на пески! Витюк, витюк, вить, фук!
В стороне послышался другой певец, затем в упоении ещё один, так что все иные голоса и в самом деле «покрывались свистами, раскатами и щёлканьем соловьёв». Я захотел приблизиться, чтобы рассмотреть кого-либо из солистов, да и полнее расслышать их звуки, и стал потихоньку подкрадываться. Вот наконец и певун: побольше воробья, но поменьше дрозда, в сером с лёгкой ряпинкой оперении и особым чутким достоинством в осанке, отличающей виртуоза. Мне показалось, что даже развилина веток, где он находился, выбрана была картинно: хоть в раму вставляй. Но – порх! – и он улетел.
Я всё гадал: неужели не сохранился в Уфе дом Аксаковых, тот самый, где зимовал Серёжа Багров, с нетерпением ожидая, когда же вся их семья отправится на лето в любимую им Сергеевку? «А вот как река пойдёт», – обыкновенно отвечал отец и вторил ему старый слуга Евсеич. Текст этот застрял в голове ещё с седьмого класса, когда опрятный старичок Абрамов строго диктовал его нам, ученикам неполной средней школы на Таврической улице: «Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: “Белая тронулась!” Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, тёмного, а иногда и жёлтого льда».
Каждая запятая, помнится, должна была стоять на месте в этом почти сакральном пассаже, но вопросы по содержанию так и оставались в памяти невытащенными занозами: ну почему нельзя было наблюдать ледоход из окон, если дом и так стоял на берегу? Зачем нужно было одеваться, выбегать на крыльцо?
Конечно, служащие гостиницы слухом не слыхивали об Аксакове, но дорогу в краеведческий музей они объяснили. Там оказалась прелюбопытная художественная галерея – ведь это был родной город академика живописи Михаила Нестерова. Я увидел эскизы к «Видению отрока Варфоломея», пейзажи, варианты известного портрета дочери в амазонке и разахался. Две служительницы в серых, как у уборщиц, халатах позволили мне заглянуть в их запасник. Помимо Нестерова здесь оставил свой след Леонид Пастернак, отец поэта. Но совсем неожиданной находкой для меня оказалась живопись братьев Бурлюков, Давида, Николая и Владимира, которые отсиживались в тяжёлую эпоху поблизости, в вотчине их отца, акцизного чиновника. Пересидели они там и революционную заварушку, отъедаясь и времени зря не теряя. Все ли трое? Трудно сказать. Наваляли, конечно, множество футуристической мазни, среди которой попадались и сущие шедевры. Перебирать эти холсты оказалось занятием трансцендентным и спиритическим: не хватало лишь запахов олифы и скипидара, чтобы всеми чувствами перенестись в их мастерскую.
Вот, например, баба кирпичного цвета полулежит раскорякой, а на неё с холма сползает зелёная черепаха. Думаю, на выставках барышни будут визжать, глядя на эту «Фантазию», обыватель плеваться, а знатоки, глядишь, и одобрят: «Футуризм – искусство будущего!» Меня привлекла более мастеровитая натура в стиле скорей импрессионистическом, чем «пост»: «Сидящая Маруся» – ню в сиреневых гольфах на лужайке, глядящая на зрителя с выражением чуть попроще, чем у Моны Лизы. Из-за длинных спортивных носков голизна тела казалась особенно дразнящей. Кажется, это была работа Николая. Его же – более реалистический портрет башкирского мальчика и женские головки. Пейзажи деревни Иглино уже неизвестно чьи, но среди них выделялся один с весенней грязью на переднем плане и домишками, освещёнными сзади горячим солнцем. Грязь была оптимистическая, одухотворённая, как «De profundis», из глубины своих грехов радующаяся весеннему воскресенью.
Я уже стал приписывать удачи одному лишь Николаю, но тут наткнулся на точную атрибуцию: «Д. Д. Бурлюк. Красный полдень». И это был шедевр, достойный любого музея! В нём только что мной увиденная базарная площадь, пыльная и угасшая, вдруг вспыхивала и накалялась солнцем, облака ярко неслись над нею, а нагретая поверхность готова была лопнуть, расколовшись на призмы и пирамиды, но в эдаком предкубистическом состоянии остановилась в момент разлома.
После всего увиденного я вышел оттуда богачом, объевшимся впечатлениями, в придачу оставалось лишь отыскать дом Аксаковых – в музее мне выдали адрес. Правда, с какой-то двусмысленной запинкой.
Длинный одноэтажный дом стоял торцом к береговому срезу, поросшему густо и высоко, и я сразу убедился, что из окон реку никак не увидать за деревьями. А крыльцо, к которому я приближался, действительно выходило на улицу, которая просекой спускалась к самой Белой. Только с крыльца и можно было её увидеть. Величия в доме не обнаруживалось, но была домовитость и укоренённость, как и в самом Аксакове. Внутрь, однако, я не вошёл, но понял музейную запинку: там теперь располагался «Кожно-венерологический диспансер» – так гласила вывеска у входа.