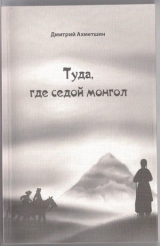
Текст книги "Туда, где седой монгол (СИ)"
Автор книги: Дмитрий Ахметшин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Шли быстрым шагом, чтобы дать лошадям немного размять мышцы. Бесконечные пустые пространства, кажется, перестали впрыскивать в них свой яд, понукающий рваться и рваться вперёд, чтобы догнать горизонт и одним прыжком оказаться на солнце, и теперь всадникам ничего не оставалось, кроме как пытаться определить по бешено вращающимся ушам, что так беспокоит животных.
Животных беспокоило всё. Пролетающие мимо огромные жуки с блестящими надкрылками, необычно густая трава, что пыталась захлестнуть вокруг ног петли. Отсутствие табуна рядом. Периодически то один, то другая пытались подать голос, но отвечал на него только конь приятеля.
Наран повернул голову.
– То же, что и ты. Нам нужно породниться со степью. Придумать какие-то ритуалы. Иначе нас съедят здесь с потрохами. Ты не видишь, там, наверху, есть грифы или вороны?
Урувай запрокинул голову и действительно, увидел нескольких птиц. Часто-часто закивал.
Наран прикрыл глаз.
– Мы для них всего лишь будущая падаль. Там, наверное, есть тот самый, что не успел выклевать мне глаза.
– Но здесь нет ни шаманов, ни идолов. Чему ты собрался поклоняться?
– Мы теперь в самом сердце дикой природы. Посмотри на свою кобылу. Такие вещи, как повод и ремень под седлом, теперь для неё всего лишь ивовые прутики, вставшие поперёк бега леопарда. Чем дальше мы от аила, тем меньше эти символы твоей власти имеют значение. Она терпит тебя только по старой памяти, но скоро ветер выдует из её развесистых ушей последние мозги, она скинет тебя и ускачет в степь.
Толстяк с ужасом смотрел на своего скакуна, мирно, на ходу срывающего цветы с облетевшими уже лепестками.
– А ведь правда. Вчера она хотела меня скинуть. Когда увидел суслика. А я думал, она просто испугалась…
– Ну вот, видишь. Нужно иметь волю толщиной с берцовую кость, чтобы удержать в кулаке уздцы. Или договориться со степью, чтобы она рассказала твоей лошади, что мы скачем по её заданию.
У Урувая на уме было другое.
– Слушай, это суслик ей сказал, что меня теперь можно не слушаться?
– Ну, не думаю, что лошади понимают языки грызунов.
Наран улыбнулся и кивнул сам себе, словно принял какое-то трудное решение.
– Доставай еду.
– Ты проголодался? – обрадовался Урувай, и суслик, не смеющий шевельнуться под пристальным изучающим взглядом, поспешил слинять из его головы.
– Нужно показать Йер-Су, что наши намерения искренни.
Наран взял повод в зубы и принял из рук друга оставшиеся у них продукты. Кусок мяса с кровью, немного грибов. Просяная каша, завёрнутая в лопухи. Зелень. Сказал, стараясь, чтобы речь звучала как можно более внятно (с поводом в зубах это было не так уж легко):
– Эй, Йер-Су! Мы верные твои кони. Верные степные кони, слышишь! Перелётные гуси, опустившиеся на ночлег в полынь. Мы просим, чтобы ты не оставляла нас, чтобы сделала нашу плоть стойкой, как глина, чтобы даже вороны застряли бы в ней своими клювами. Чтобы ты нашла для нас место среди питающихся молоком и мясом зверей, среди птиц, земляных гадов и жуков с пауками.
Конь под ним закрутился, пытаясь держать в поле зрения большую белую бабочку, что подлетела непростительно близко. Наран упрямо сжал его бока коленями.
– Мы накормим тебя всем, что привезли с собой, и надеемся, что ты тоже дашь нам еду, когда она потребуется.
Он выпустил из рук мясо, и оно полетело под копыта. Ухнуло в траву так, будто там, именно в этом месте, в халате Степи была прореха. Урувай снял шапку, молча утёр ей со лба и с шеи пот.
– Теперь мы без еды.
Наран вскинул подбородок, готовясь защищаться.
– Йер-Су даст нам поесть из своей тарелки.
– Может, тогда стоит притвориться кем-нибудь более родным для неё? Например, навозным жуком?
Наран собрался сказать что-то ещё, но застыл на полуслове.
– Хорошая мысль. Только жуками-навозниками нам быть не пристало. Лучше я буду лисицей.
Род кочевых племён происходил с одной стороны от сайг, которые питались подножным кормом и были вечно в пути, а с другой – диких серых лисиц, которые питались падалью и известны своим подхалимством перед великими богами и духами. Столько ритуалов, сколько у лис, нет ни у кого. Так, считается, что на кончике лисьего носа сидит дух умирания и гниения. Самое главное, что лисица сама так считает, поэтому, заимев себе на день ужин, первым делом мажет в крови нос, чтобы умаслить своего покровителя.
И каждому известны ночные лисьи танцы в оврагах, когда нервный лай взлетает до самой луны.
Противоестественный союз этих двух животных когда-то и породил племя людей, а смешавшиеся толики крови – лукавой крови от лисицы и степной – парнокопытных – научили их ладить с лошадьми.
Он слез с коня, и повод устроился в руке у Урувая. Опустился на четвереньки, осторожно, как малыш, что делает первые шаги – уже не верхом, а своими собственными ногами. Лёг пузом на траву, как это делают лисицы, лопатки неуклюже выпирали из-под одежды. Поводил носом и сказал с вопросительной интонацией:
– Тяв?
Урувай разглядывая его, склонил голову на бок.
– Что за шаманская лиса тебя укусила?
– Тяв-тяв.
– Немного не так. Теав, – изобразил Урувай довольно правдоподобно. Виляя задом, сполз с лошадиной спины на землю и собрал оба повода себе под мышки. – Теав-теав. Попробуй растягивать звуки. И не тявкай басом: голоса у лис нежные, как у куропаток.
Наран повертелся вокруг своей оси, словно пытаясь догнать невидимый хвост. Повторил:
– Теав-теав.
Лошади заволновались и потянули друг друга в стороны, как будто две своенравных жены. Урувай грустно сказал:
– Ну вот, хорошо. Мне остаётся тогда только быть сайгой.
– Отличная мысль! – поддержал Наран, стараясь не выходить из образа. Голос был высокий и певучий, а одежда на спине вздыбилась, как будто под ней был настоящий меховой загривок. – Попробуй!
– Тебя не понятно, – ещё больше погрустнел Урувай. – Ты говоришь по-лисьи.
Наран не без усилия вспомнил, каким образом цеплять на язык сложные человеческие слова. Повторил.
– Какая же из меня антилопа?
– Слегка упитанная. Но это ничего. Давай же!
Он вновь затявкал и бросился в кусты, виляя задом и низко припадая к земле. Где-то далеко впереди поле выстрелило в небо пучком стрел – стайкой зябликов.
Урувай с обречённой миной наблюдал, как качается трава, как будто там, у самой земли бегает новорожденный ветерок, после чего связал поводы коней вместе и сам опустился на четвереньки. Выпрямил руки и ноги и сделал первые неуклюжие прыжки. Земля опасно шатнулась, потом вдруг перекувыркнулась, и небо внезапно оказалось внизу, прямо под «копытами».
Наран, устроившись в густой траве в сторонке, поджав под себя конечности и выставив наружу нос, наблюдал, как приятель, словно большая, набитая пухом подушка, вновь перекатился на ноги. Стал считать вслух:
– Первый удачный прыжок. Молодец! Давай ещё. Второй удачный прыжок… тебе не кажется, что эта одежда слишком неудобна для животных?
– Что?
Слово на человечьем языке подкосила ноги новорожденного сайгака, и он вновь свалился.
– Раздевайся. Выползай из своей шкуры. Она тебе только мешает.
Урувай послушался. Пыхтя, растянул пояс и остался только в исподнем. Выгнув дугой спину, он сосредоточенно совершал один прыжок за одним.
– Эй, сайга! – крикнул Наран. – Кажется, время завтракать. Ты голоден, как дикий зверь.
Друг остановился, согнув ноги для очередного прыжка. Прислушался к голосу своего живота, а потом радостно развернулся в сторону, где осталась лежать в траве еда.
Наран сказал строго:
– Что, по-твоему, едят сайгаки? Не конину и не лепёшки… что они едят? Айе! Кушай!
– Ну, положим, от лепёшек бы они не отказались, – промямлил Урувай, но покорно ткнулся носом в траву.
– Мы покормили Йер-Су твёрдой кашей и мясом. Теперь она должна нам немножко нежной травы. Немножко своей силы, своего молока.
Послышался скрип зубов друг о дружку, и даже лошади пододвинулись поближе, почти столкнувшись лбами, чтобы посмотреть, как человек шлёпает губами и из уголков рта у него свисает трава.
Наран покатился со смеху, дрыгая в воздухе ногами.
– А можно есть цветы? Такие, синенькие…
– Не отвлекайся.
– Ага. Вкусные, – пробормотал Урувай с набитым ртом, и Наран снова не смог совладать со смехом.
– Посмотрю я, как ты будешь ловить своих мышей.
Наран перекатился на живот.
– И поймаю. А сейчас пожую немного конины, пока её не нашли грифы. Лисы ведь едят мясо.
– Да, только не такое солёное, – Урувай уже поднялся с колен и ухмылялся во весь рот. Он видел впереди сладкую расплату. – Для начала тебе сойдут и насекомые. Да-да, лисы питаются насекомыми, а ты не знал?
– Все лисы, которых я знал, питались моей кровью, – пробурчал Наран. – Слушай, а трава на самом деле вкусная?
Толстяк почесал жировую складку на животе. Задумался.
– Она была съедобной. Во всяком случае, мой животик больше не просит есть. Удивительно! Чтобы наесться, мне хватило травы!
– Ты ведь это говоришь не для того, чтобы заставить меня есть букашек? – осторожно спросил Наран.
Увидел, как поползли вниз усы толстяка и поспешно сказал:
– Да я шучу. Конечно же нет.
Ловить юрких насекомых руками оказалось очень трудно. Урувай посоветовал попробовать ему использовать пасть, и за пять минут Наран поймал немного крупной саранчи и одну большую бронзовку. Всё это, удивляясь весьма слабым рвотным позывам, покорно сжевал и продемонстрировалв доказательство язык.
Что-то странное происходило. Шея как будто вытянулась и гнулась совсем не так, как должна гнуться шея. Или это просто из-за усталости и с непривычки к дальним походам так свело мышцы?..
Наран сел, задумчиво почёсывая за ухом. Означает ли это, что они больше не будут нуждаться в человечьей пище? Значит ли это, что Йер-Су приняла их подношение и вдоволь повеселилась их неуклюжим попыткам впустить в себя необузданную дикую природу?..
– Пожалуй, здесь мы и устроим привал, – наконец, решил он.
Глава 4. Керме
Керме никогда в жизни не видела птиц. Хотя иногда на ужин давали мясо степных куропаток, высушенное на солнце, с выпущенными соками и слегка подрумяненное на огне. Ещё, бывало, мальчишки хвастались своими стрелами, она могла потрогать оперение. Но как можно связать эту крошечную тушку и мёртвые волосинки, похожие отдалённо на человеческий волос, и стремительный полёт над степью, когда ничего не касается земли! Это казалось ей волшебством.
От этого волшебства девочке один раз досталось перо. Оно спланировало прямо в руки, длинное, острое, как стрела, и с таким мягким приятным кончиком, что хотелось пощекотать нос и как следует чихнуть. Керме не могла представить, как такое хорошее перо кто-то мог уронить. Только сбросить специально, прямо ей в руки.
– Что ты там такое несёшь? – спросили её, и девочка узнала голос старика Увая.
Обычно Увай, как и другие мужчины, замечал малявку, только когда она попадалась ему под ноги. Но в этот раз девочка различила в его голосе неподдельный интерес. «Наверное, моё лицо меняет цвет, когда перо у меня в руках, – подумала Керме. – Меняет цвет на счастливый».
Старик подошёл ближе, она слышала клокотание в его горле прямо над своей головой. Увай был очень плотным, и шея его всегда и за много шагов источала запах пота.
– Это журавлиное перо, – сказал он. – Хорошее перо. Ты знаешь журавлей? В это время они обычно летят к вечному морю, а оттуда выше – чтобы ловить в небесной воде звёзды.
Керме его не слышала.
– Наверное, журавлик сбросил мне это перо. Деда Увай, а какое оно?
Дыхание, такое, будто деда Увай был бурдюком, наполненным внутри молоком, переместилось и было теперь перед ней. Он наклонился, и кончики его кос щекотали Керме за ухом.
– Белое, слепой тушкан. Это белый журавль. Оно такое же по цвету, как снег. Или как соцветия кашки.
Керме глубокомысленно кивнула, а старик усмехнулся в усы.
– Это подарок от моего жениха. Он отправил мне перо как знак того, что помнит обо мне и скоро придёт за мной.
– Ветер – вечный кочевник, – ответил Увай. – Ты будешь или всё время с ним, или всё время в шатре – сидеть и ждать его. Мне кажется, тебе будет лучше в родном кочевье, где ты дала уже кличку каждой овечке. Такую красоту лучше держать под присмотром.
Он, кряхтя, потопал прочь, прежде чем Керме успела что-нибудь ему возразить. Она открыла рот и вновь закрыла.
Перо она вплела в кафтан, так, чтобы не было видно, и оно день за днём щекотало кожу. А когда оставалась одна, доставала его и пыталась проследить подушечкой пальца за ровными краями. Пальцы у Керме были, как у любой женщины, и она в каком-то роде этим очень гордилась. С детства они привыкли работать. Если мужчины, юноши и маленькие мальчики с трёх лет развивали кисти, чтобы суставы ходили плавно, легко отпускали тетиву и чтобы копьё было продолжением рук, а руки – всегда продолжением копья, то для женщин важны пальцы. Ими они пробуют, просох ли навоз и годится ли он для костра, ими они мяли и превращали в войлок овечью шерсть, пальцы у них варились в кипятке, ныряли в снег и кололись иглами. Они превосходили по упрямству сыромятную кожу, потому как сами мяли её и делали годной для уздечки и для седла. «Мужчины сражаются кистями, а женщины – пальцами» – такова поговорка кочевых племён.
Конечно, Керме нравилось думать, что она сражается рядом со всеми остальными.
Не меньше ей нравилось подмечать связи между вещами. Она чувствовала, что если не будет этого делать, травяной ковёр может вдруг превратиться в плотное одеяло, которое накроет её с головой и лишит способности рассуждать. С утра суета и коней возле шатров куда больше, чем обычно. Пахнет мясом, хотя летом и осенью, когда кобылицы дают молоко в большом количестве, степной народ мало ест мяса. Значит, ночью приехали гости. Вот её с несколькими другими детьми отправили собирать высушенный на солнце бычий навоз и заодно лошадиный, где найдут. Вот, некоторое время спустя, зашипел огненный змей и следом за ним второй. Значит, гости приехали издалека и разжигают очищающие костры, чтобы все хитрые демоны, что расселись по их плечам и уцепились за конские хвосты в дороге, сгорели, как семена одуванчика. Коней, упирающихся и рычащих сквозь зубы, проведут между костров, и позже стоит ждать запаха тлеющего волоса.
Мясом пахнет хорошим, значит, шаманы забили не собаку или быка, или коня, мясо которых годится в пищу только после того, как с него слижет соки солнце – зарезали одну овцу, и кого-то из своих подопечных она сегодня не досчитается.
Что же, так нужно. С малых лет Керме знала, что всё когда-нибудь переместится в небесные степи, будь то овцы, или юрты, или даже люди.
Шаманов она боялась и старалась избегать. Это было довольно легко: они шествовали важно и долго, похожи на диких яков в своём медленном величии и в том, как колыхалась вокруг них их шерсть. Волосы у них росли гуще, чем у обычных людей, и заплетались вместе с разными тряпочками, с лоскутами войлока, с конским волосом и бычьими жилами в тяжёлые шнуры, которые доставали до земли и даже волочились по ней. Они так шуршали в траве, что создавалось впечатление, будто за шаманом следует целое стадо мелких зверюшек. Травы склонялись за его шагами в глубоком поклоне.
На шее звякали друг о друга разные железки, ножи без ручек, кольца, продетые друг в друга. С сухим звуком стукались полые кости. Дети шептались, что шаман перед каждой зимой вытаскивает по косточке из своего тела, выпивает костный мозг и вешает на шею или на уши, а бывает, что цепляет на нос. Всё это богатство передавалось от шамана к шаману, и каждый служитель Тенгри преумножал его.
Каждый шаман носил в руках ручной гром. Делать его женщинам не доверяли: слишком грубы у них руки, чтобы выделать нужной толщины кожу и согнуть для каркаса вишнёвые прутья, не повредив их. Шаманы, которые не занимались ничем, кроме служения, сами делали себе бубны.
Их шатёр всё время как бурлящий котёл, травы и коренья, ягоды и грибы превращаются там в воздух и устремляются прямо на небо, боги и духи пляшут вокруг этого видимого для других и ощутимого для Керме, дымного столба, и радость их звучит одурелыми криками птиц или ломким хрустом снега в зимнее время.
Во время заката оттуда доносился мерный грохот бубнов, и всё живое замирает и прячется по норкам, думая, что это катится гроза.
Солнечные лучи, говорили, просвечивают таких людей насквозь, и видно, что, кроме халата, нет в них ничего плотного, и даже кожа больше похожа на воду. А в лунные ночи от них остаются только тени, которые пляшут вокруг потухающих углей до самого утра.
– Шаманы – особенные люди, – говорила бабка. – Без них с нашим кочевьем не будет ни мяса, ни молока и солнце всегда будет разить наших охотников в глаз. А стужа вморозит нас в землю, так, что даже лисицы не смогут разгрызть промёрзлые кости.
Перед каждой юртой было особенное место, где жил Тенгри. Лицом, вылепленным из войлока, он наблюдал за тем, правильно ли пасутся стада, вдоволь ли они едят и хорошее ли молоко дают кобылицы. Смотрел за людьми: чистят ли коней и слезливо ли поют на застольях песни. Летом, когда не было сильного солнца, женщины занимались шитьём перед входом в шатёр, и под грозным взором работа спорилась скорее. Шаманы окуривали его своим дымом, принося его в специальных сосудах, или, напротив, внося идола меж двух костров в шатёр бога. Керме вместе с остальными женщинами доводилось участвовать в их изготовлении, и в такие минуты, нанизывая войлок и перемежая его с высушенными травами и шёлковыми тряпицами, она думала, что вот сейчас своими руками создаёт лицо великого и грозного Тенгри.
«Интересно, что возникло сначала, – проносилось в её голове, – солнечное лицо или лицо из войлока?»
– Тенгри – пастух пастухов, – важно говорили шаманы, и Керме чувствовала себя под перекрестьем пристальных взглядов, даже не видя лиц. Словно маленькая овечка под взглядом пастыря.
Шаманы забивали под каждым новым идолом по одной овце, вскрывая длинным ножом, похожим по форме на звериный коготь – хотя Керме не знала о зверях или птицах с такими большими когтями – вену на шее животного и пачкая руки в крови, и выдавливая весь сок к ногам статуи. Это единственная, пожалуй, жидкость, которой позволяли в степи беспрепятственно уйти в землю, ведь ей питается верховный бог. Сердцем он лакомился тоже, его вырезали из груди и на ночь ставили на нарядном блюде перед идолом, чтобы он смог утолить свой голод. Керме всегда поражало, как мало он ест: то, что вносили утром в шатёр, чтобы разделить между всеми его жильцами, было не намного меньше того, что оставляли вечером.
Шкуру и неповреждённые кости предавали огню, а пепел вместе с золой оставляли на ночь, чтобы им могли полакомиться робкие духи убитых животных.
После этого идол начинал видеть глазами бога, и Керме часто представляла у него вместо глаз дыры прямиком в небо.
Овечьи стада уменьшались, потом тучнели, потому что из степи пригоняли других овец, и вновь уменьшались в дни гуляний или когда вдруг наступала ранняя морозная осень и требовалось мясо, чтобы подогреть кровь.
Утром возле шатра воина по имени Усул ставили нового идола, и все его обитатели: сам Усул, два его малолетних сына и четыре жены – проходили очищение огнём. Перед новым ликом Бога требовалось предстать чистыми. Дети орали с самого утра, а Усул говорил с ухмылкой, что подпалил себе усы и теперь, стало быть, помолодел.
Поэтому Керме ждала сегодня шаманов. Овцы, не ведая о возможной участи, бродили вокруг, и она чувствовала касание их ушей или в лицо ей прыгал удирающий от овечьих зубов кузнечик. Водя носом почти у самой земли, она собирала бруснику. Наступило шаткое время, когда ягоды только-только поспели, но не оказались ещё съедены грызунами, спешащими сделать запасы на зиму, муравьями или скотом, чей зев переваривал, помимо травы, без разбору кузнечиков, семена, корешки, ягоды и даже землю. А бывало, и нерасторопных хомяков…
От палящего солнца брусника пряталась в ладошках растений и степных цветов. Ещё десяток дней, и престарелый папа-солнце, хан, претерпевающий перед зимой упадок сил, заприметит, что детишки прячут во вспотевших росой ладошках сладости, и отберёт, раздвинувчуткими пальцами траву, высушит оставшиеся ягоды дотла.
Со стороны, где стояли шатры, возникло долгожданное звяканье шаманских украшений, хлопанье рукавов халата, долгие важные шаги. Бубен на поясе отдавался долгим гудением при каждом шаге. Овцы перестали жевать, даже жужжание насекомых многозначительно стихло.
– Ну, кто сегодня послужит великому богу, мои маленькие облачка? А ты, слепой тушкан? Ты не хочешь?
Собаки, что помогают, пасти стадо, не могут иметь имени, и собаки Тенгри – не исключение. Поэтому этого шамана звали Шаман. Так же, как и любого другого, но если бы Керме произнесла это имя вслух, в имя этого человека она бы вложила чуть больше чувств.
– Могу, – шепчет Керме, – Но зачем Тенгри в личном стаде слепая овца?
Шаман брызгает смехом, и Керме представляет, как этот смех течёт у него изо рта прямо по усам.
– Ты хорошо сказала. Ладно, твоя попа обойдётся пока без моего клейма. Ну-ка девочки и мальчики, кто из оставшихся? Сейчас посмотрим, с кого жёны Тенгри будут стричь шерсть для халата своего господина?..
Керме полагала, что в Шамане, в одной шкуре, родились сразу два человека и оба самые весёлые, которые могут родиться на этой засушливой земле. Поэтому он такой полный и такой смешливый. Один из этих двух людей рождён для того, чтобы говорить с Тенгри, другой – задира, драчун и любитель охоты. Поэтому, когда сотрясать степь выезжают очередные охотники, из шаманского шатра доносится полный горести вздох.
На лошади, при всех его габаритах, Шаман ездит отлично, но оружие его поёт громовые песни вместо того, чтобы рубить врагов и пускать стрелы. Шаман, чувствовала Керме, хотел бы сразу и того, и другого.
Она была рада, что пришёл именно он.
– Пожалуй ты, – решил Шаман. – Самый смирный. Стричь тебя будет легко. И навоз для розжига костра собирать легко, и не придётся бродить по всему пастбищу.
Керме вздрогнула, в ладошке появилась мокреть. Раздавленные ягоды дали сок. Она уже знала, на кого пал выбор. Внутри всё перевернулось, словно кто-то опрокинул кувшин с молоком.
Сквозь меланхолично расходящихся животных Шаман проследовал к Растяпе с ритуальным жалом в руке – полой и слегка заточенной бычьей костью. Барашек дёрнулся под его руками, но тут же успокоился: укусы от слепней, и те бывали иногда посильнее.
– Вот так, – сказал Шаман. – Можешь собирать вещи. Травы с собой не бери: там, наверху она сочнее.
Когда шаман удалился, пожелав Керме, чтобы слепни хоть немного отличали её от овец, девочка на коленях подползла к Растяпе, нашарила у него на крупе липкое пятно. Шерсть быстро намокала, сваливалась и не давала крови течь дальше. Почуяв запах крови, вокруг тотчас же закружились мухи. По этой кровавой метке, когда понадобится, можно будет легко опознать животное, предназначенное в жертву.
Керме взмахнула руками, отгоняя мух. Ощупью добралась до головы животного и повисла на шее. Растяпа, как и положено, стоял мордой туда, где далеко-далеко, по рассказам других, темнели горы. Обычно он никак не реагировал на девочку: даже розги и пинки мальчишек воспринимал слабо, вяло перемещаясь в требуемом направлении и не отворачивая морду от вожделенного севера.
Однако в этот раз он чуть повернул голову и взмахнул ушами, словно вопрошая: «И что теперь?»
– Теперь, – Керме уселась на траву, нагнув голову животного к своим коленям, – теперь твоя кровь выльется в землю, а тебя самого увезёт на небо огненный конь на тонких ногах. Прямо в небо. Понимаешь, что это значит?
Овца внезапно дёрнулась под руками, и Керме от неожиданности разжала руки. Жгучая волна чужого беспокойства накрыла её.
– Растяпа! Растяпа! – зовёт она и слышит, как он пятится от неё где-то совсем рядом, расталкивая задом товарок.
Керме слепо бросилась вперёд, и пальцы её сомкнулись на чьём-то копыте. По блеянию и суматохе, что никуда не пропала, а перемещалась от неё прочь, девочка поняла, что копыто принадлежало кому-то другому.
Она села и громко сказала:
– Я знаю, что делать.
Шум поутих. У Керме вдруг перехватило дыхание. Она облизала испачканные в ягодном соке пальцы, пытаясь умерить пыл бешено стучащего сердечка, которое словно вознамерилось убежать из грудной клетки.
– Вернись ко мне, Растяпа! Поверь той, кто знает все твои привычки, до последней. Кто знает, что ты любишь бутоны полураспустившихся маков и терпеть не можешь, когда я забываю достать оттуда всех пчёл. Я только стараюсь тебя спасти.
Почувствовав, как в руку ткнулся мокрый нос, она сказала:
– Хорошо. Я не знаю, какого ты цвета, но надеюсь, что за тобой придут другие шаманы. Теперь нужно найти что-нибудь острое.
В волосах родилась и прошла по телу холодная судорога. То, что она задумала, делать нельзя. Ни в коем случае. Если узнают, ей влепят розг. Или навсегда выгонят из аила, и она будет скитаться по степи до тех пор, пока не упадёт замертво от голода.
А если узнает Верховный Бог, он навсегда закроет тучами небо для аила. Что же делать? Все погибнут. Бабушка, ребята, женщины, все… И всесильные мужчины ничего не смогут поделать. Шаманы больше не смогут достучаться до неба своими бубнами.
Керме так далеко зашла в своих страхах, что схватилась за голову. Ей мерещился топот разбегающихся стад, стоны умирающих, костры, которые то не могут согреть, то, напротив, своими искрами прожигают людей насквозь. Опомнилась, только когда почувствовала дрожь в прижавшимся к ней тельце.
«Я ещё не совершила ошибки!» – обрадовалась она, и потом обрадовалась ещё больше: – «Ты жив!»
Пока жив. Но это продлится недолго, словно говорил холодный, как земляной слизень, нос.
– Ты убежишь… туда?
Каким-то образом животное поняло её вопрос. А Керме уловила дрогнувшими мышцами и заходившим вдруг кадыком положительный ответ. Горы там или что-то ещё, от чего не отводит взгляда барашек, но он пойдёт туда. Будет стелиться по жухлой траве, словно барс, избегая скачущих на высоких конях монголов и степных хищников. Через день, говорили шаманы, ляжет первый снег.
– Земля засыпает, – вспомнила она подслушанный утром разговор. – И скоро укроется своим одеялом.
Сказал это один из младших шаманов, когда весь аил сидел возле общего костра и поглощал завтрак из жидкого, разваренного в воде пшена. Все навострили уши: шаманы говорят свои новости за завтраком и ужином так, будто это не новости вовсе, а так, словесный мусор, который накопился под языком и от которого следует избавиться, и к тому же предпочитают их не повторять. Вообще, повторять сказанное шаманами не следует, ведь совсем не значит, что они узнали это лично от Тенгри. Скорее всего, подглядели в рисунках, которые великий Бог делает, чтобы не забыть, что ещё ему сотворить с землёй и со своими подданными в ближайший день или в ближайшие сто лет.
По другую сторону раздался голос доброго Шамана.
– Сегодня к обеду накройте всех этих идолов какими-нибудь тряпками. Уверен, старику не понравится иметь белую бороду, как у западных лесных дикарей. Снег будет хороший.
Керме почувствовала, как поёжились все вокруг костра, и даже мелочная женская ссора, возникшая было из-за отданной собаке не до конца высосанной кости, вдруг затихла. В тишине было слышно, как шумно и с удовольствием хлебает свою кашу Шаман. Он ни на семечко не побеспокоился, что его слова вызовут какое-то возмущение в небе.
Керме вообще сомневалась, что до неба достанет какой-либо человечий звук – шёпот ли, или говор, или даже крик. Говорили, оно очень высоко. Так высоко, что даже самый умелый лучник не сумеет докинуть до него свою стрелу.
Керме вспомнила детскую сказку: мол, овцы на самом деле комья такого тёплого снега, что падает по ночам с небес летом. Она никогда не понимала, как могут быть родственниками холодное и рассыпчатое, что покрывает травы зимой, грызёт, как беззубый щенок пятки, а в особо лютые ночи отращивает зубы – и эти тёплые животные. Но сейчас вспомнила, с каким вниманием слушали бабку остальные дети, и решила для себя, что в ней, может быть, есть капелька правды.
Овцам, наверное, и правда легко укрыться среди снега.
Она опустилась на колени и поползла между овечьих тонких, как тростинки, ног. Пробовала руками траву, пока наконец не нашла, что искала. Один раз наткнулась на старое перепелиное гнездо, и в любое другое время эта находка увлекла бы Керме надолго. Скорлупа или даже птенцы – это всегда интересно.
Но сейчас ей нужно спасти Растяпу…
Керме нашла нужную траву. Ухватилась за соцветия и осторожно потянула на стебель. Потрогала пальцем кончик – не сломался ли? Очистила его от крошечных жёлтых цветков. Это называется – травяная игла, или кипчак. Его стебель тонок, но прочен, и сила его роста и жизнелюбия настолько сильна, что, говорят, он может прорасти даже сквозь животную шкуру.
Взяв иглу в зубы, ощупью она направилась обратно, к Растяпе, но остановилась возле другой овцы. Погрузила руки в тёплую, слипшуюся от грязи шёрстку… Игла проткнула кожу легко, словно настоящий костяной нож. Животное дёрнулось, выскользнуло из рук, оставив в воздухе тоненький аромат крови.
– Спокойно, – шептала ей вслед Керме. И, противореча себе, добавляла: – Беги, милая. Беги.
Почувствовала, как в уголках глаз собираются слёзы. Но плакать некогда, даже если этой овечке она когда-то тоже дала имя. Благодаря девочке, с кличками ходила половина кудрявой отары, хотя эти клички постоянно менялись и кочевали от одного животного к другому. Она подозвала к себе Растяпу и, смочив в слюне пальцы, принялась выбирать кровь из его кучерявой шёрстки.
– Сейчас придут и уведут Бабочку. А ты – затеряйся среди братьев и сестёр и не показывайся никому. Даже мне. Начни пахнуть по другому, поменяй повадки, стой теперь мордой не на север, а на запад. Измени цвет шкурки… если можешь, конечно. А завтра, когда выпадет снег, беги в степь и доберись до своих драгоценных гор. А теперь иди и больше ко мне не приближайся!
Убедившись, что он всё понял, девочка отпихнула от себя морду животного. Напоследок почувствовала на лице шершавый язык.
В шатёр Керме нёс за шкирку, как щенка, страх. Дважды у неё заплетались ноги, дважды она теряла нить одной ей ведомых знаков, сворачивала не туда и попадала то в объятия шиповниковых лап, на которых, к тому же, проветривалось чьё-то бельё, а то в собачью стаю. Садилась на землю и грызла от бессилия ногти, пытаясь восстановить в голове цепь стежков на замысловатом узоре жизни аила, которыми она следовала.
В конце концов её заметила какая-то женщина.
– Ты, наверно, заблудилась. Идём. Я видела твою бабушку. Она должна быть уже на празднике.








