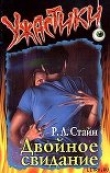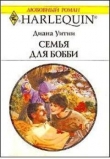Текст книги "Живущий в ночи"
Автор книги: Дин Рей Кунц
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
3
Когда я переступил порог больницы, Анджела Ферриман уже поджидала меня в коридоре. Она работала вечерней медсестрой на третьем этаже, но сейчас спустилась вниз специально, чтобы встретить меня.
Милая, добросердечная женщина, которой давно перевалило за сорок, Анджела была болезненно-худой, с необычайно прозрачными глазами. Ее страсть к целительству граничила с одержимостью. Казалось, эта женщина заключила с дьяволом какую-то фантастическую сделку, чтобы только ей позволили лечить людей, и теперь ради выздоровления больных была вынуждена отдавать всю свою душу до последней капельки.
Анджела выключила свет в коридоре, а затем обняла меня.
В свое время, когда я болел всевозможными детскими – ветрянкой, свинкой, простудами, – а затем и взрослыми болезнями, но не мог в отличие от всех остальных лечиться обычным манером, Анджела всегда являлась моим добрым ангелом. Будучи моей приходящей медсестрой, она переступала порог нашего дома ежедневно.
Крепкие костлявые объятия этой женщины значили в ее работе ничуть не меньше, чем грелки, термометры, роторасширители и шприцы. Однако сейчас они скорее напугали, нежели приободрили меня. Я спросил:
– Он жив?
– Пока да, Крис. Еще держится, но, по-моему, только ради тебя.
Я вышел на площадку располагавшейся рядом запасной лестницы, и, когда за моей спиной захлопнулась дверь, Анджела вновь включила свет в коридоре.
Освещение здесь было тусклым и не представляло для меня опасности, но я все же решил не снимать темные очки и поспешил наверх.
Наверху меня уже ждал Сет Кливленд, лечащий врач моего отца и мой тоже. Высоченный, с такими широкими плечами, что он, по-моему, мог бы поддерживать один из больничных порталов, этот человек тем не менее никогда не возвышается над собеседником, двигается с грацией, которой от него трудно ожидать, и говорит голосом доброго медведя из детской сказки.
– Мы постоянно даем ему обезболивающее, – сообщил мне доктор Кливленд, выключая лампы дневного света под потолком, – так что он вроде как дрейфует между сознанием и забытьем. Но каждый раз, приходя в себя, спрашивает о тебе.
Я наконец снял темные очки и, сунув их в нагрудный карман рубашки, быстро пошел по коридору – мимо палат с пациентами, страдающими самыми различными недугами и в самых различных их стадиях.
Одни лежали в бессознательном состоянии, другие сидели возле подносов с ужином. Те из них, кто заметил, что в коридоре выключили свет, сразу же догадались, в чем дело, и, отвлекшись от еды, повернули головы к открытым дверям своих палат. Им хотелось поглядеть на меня, когда я буду проходить мимо.
Я, надо признаться, пользуюсь в Мунлайт-Бей печальной известностью. Из двенадцати тысяч его жителей и трех тысяч студентов колледжа Эшдон – либерального частного учебного заведения, где преподают как гуманитарные, так и технические дисциплины, – я являюсь, пожалуй, единственным человеком, имя которого известно здесь всем и каждому. И тем не менее мало кто из горожан имел возможность хоть раз увидеть меня. Чему тут удивляться, если жизнь моя сродни жизни ночной птицы!
По мере того как я двигался по коридору, медсестры и сиделки произносили мое имя или протягивали руки для приветственного пожатия. Думаю, их теплые чувства по отношению ко мне были вызваны не тем, что я такой уж замечательный, и даже не любовью к моему отцу, хотя в него действительно влюблялся каждый, кто хоть однажды с ним столкнулся. Нет, просто эти люди до глубины души являлись истовыми целителями, а я воплощал собой их мечту – человек, которого они лечили всю жизнь и мечтали, надеялись когда-нибудь сделать здоровым. Я нуждался в лечении с первых дней своей жизни, и все же исцелить меня не мог никто. И они – тоже.
Отец лежал в двухместной палате, но вторая койка сейчас пустовала. Я в нерешительности замешкался на пороге, но уже в следующий миг сделал глубокий вдох (который, впрочем, ничуть меня не укрепил), вошел в палату и закрыл за собой дверь.
Тяжелые сатиновые шторы были плотно задернуты, но по краям их прощальным светом горели отблески заходящего солнца, жить которому оставалось всего полчаса. На кровати, расположенной ближе к двери, слабой тенью угадывались очертания человеческого тела. Папа. Я услышал его слабое дыхание, заговорил, обращаясь к нему, но он не ответил.
У изголовья кровати стоял аппарат ЭКГ – электрокардиограф, следивший за тем, как работает сердце отца. Звуковой сигнал был отключен, чтобы не тревожить больного, и биение его сердца отмечалось на экране прибора зигзагообразной зеленой линией. Пульс у отца был частым и слабым. Я сжался, заметив возникшую было на экране аритмию, но сердцебиение сразу же выровнялось.
В нижнем из двух ящиков прикроватной тумбочки находились газовая зажигалка и две толстых свечи в стеклянных плошках, пахнущие восковницей. Медперсонал делал вид, что не замечает этих предметов, хотя их присутствие здесь, конечно же, шло вразрез с больничными правилами. Право их нарушать было даровано мне в связи с моей неполноценностью, в противном случае, приходя к отцу, я был бы вынужден сидеть в кромешной темноте.
Опять же в нарушение противопожарных правил я чиркнул зажигалкой и поднес ее пламя к фитилю сначала одной свечи, а затем и другой.
Что ж, известность в нынешней Америке дорогого стоит. Пусть моя – из разряда печальных, но и она позволяет мне рассчитывать на некоторые послабления.
Я поставил свечи на тумбочку. Лицо отца едва вырисовывалось во мгле. Глаза его были закрыты, через открытый рот вырывалось прерывистое дыхание. Отец дышал сам, безо всяких вспомогательных приборов.
Врачи не предпринимали никаких героических усилий, чтобы продлить ему жизнь. Во-первых, такова была его собственная воля, во-вторых, это было уже невозможно.
Сняв куртку и кепку с надписью «ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЕЗД», я бросил их на стул для посетителей, а затем встал у изголовья кровати – подальше от свечей – и взял руки отца в свои ладони. Кожа его была холодной и тонкой, подобно древнему пергаменту, ногти – желтыми и потрескавшимися, как никогда раньше.
Моего отца звали Стивен Сноу, и он был великим человеком. За всю свою жизнь он не выиграл ни одной войны, не издал ни одного закона, не сочинил ни одной симфонии, не написал ни одного романа, который принес бы ему славу, хотя и мечтал об этом в юности. И все же он был более велик, нежели любой из генералов, политиков, композиторов или всемирно известных писателей, когда-либо живших на земле.
Отец был велик своей добротой. Его величие состояло в том, что он был мягок, застенчив и полон смеха.
Он был женат на моей матери тридцать лет, пока два года назад их не разлучила смерть. Но даже после этого, презрев все соблазны и искушения, отец хранил ей верность. Пусть наш дом в силу необходимости всегда погружен в темноту, любовь отца к моей матери была на" столько ослепительной, что освещала все вокруг себя, и этого света хватало всем нам. Учитель литературы в Эшдоне, где мама преподавала технические дисциплины, отец пользовался такой любовью среди студентов, что многие из них продолжали общаться с ним и спустя десятилетия после своего выпускного вечера.
Когда я родился – отцу тогда было двадцать семь – и когда стал очевиден мой врожденный дефект, жизнь папы в корне изменилась. Но ни разу с тех пор он не пожалел о том, что подарил мне жизнь. Наоборот, отец постоянно давал мне почувствовать, что любит меня и гордится мной. Он шел по жизни достойно и без жалоб, никогда не упуская случая воздать должное тому в этом мире, что считал правильным.
Когда-то отец был большим и сильным мужчиной.
Теперь его тело съежилось, усохло, стало серым и изможденным. Он выглядел гораздо старше своих пятидесяти шести. Зародившись в печени, рак перекинулся на лимфатическую систему, а затем стал распространяться и на другие органы, пока не поразил весь организм. В борьбе за жизнь отец потерял большую часть своей пышной седой шевелюры.
Зеленая линия на экране электрокардиографа стала судорожно корчиться и прыгать. Я с ужасом следил за этой жуткой пляской.
Отцовская ладонь слабо сжала мою руку. Опустив взгляд, я увидел, что его светло-голубые глаза смотрят на меня, будто пытаясь гипнотизировать.
– Хочешь воды? – спросил я, памятуя о том, что в последнее время его иссохшее тело постоянно просило пить.
– Нет, мне хорошо, – ответил он, хотя мне показалось, что в горле у отца пересохло. Голос его больше напоминал шепот.
Я не знал, что сказать.
На протяжении всей моей жизни в нашем доме не умолкали разговоры. Мы с мамой и с папой обсуждали новые книги, старые фильмы, выкрутасы политиков, жизнь поэтов, сов, летучих мышей, енотов и крабов – существ, деливших со мной ночь, спорили о музыке, истории, науке, религии и искусстве. Темы наших дискуссий распространялись от жизненного предназначения человека до мелких сплетен по поводу наших соседей. В семействе Сноу основным физическим упражнением являлась работа языком.
И вот теперь, когда мне было жизненно необходимо сказать отцу хоть что-то, я онемел.
Поняв мои затруднения и оценив их с обычной для него иронией, папа улыбнулся.
Впрочем, вскоре улыбка на его лице угасла. И без того вытянутое и изможденное, оно обострилось еще сильнее. Отец исхудал до такой степени, что, когда дрожащее пламя свечей освещало его черты, они казались лишь неверным отражением на поверхности ночного пруда.
В мерцающем свете мне на секунду почудилось, что лицо его дергается, а сам он – в агонии, но затем отец заговорил, и в голосе его неожиданно для меня прозвучала не боль, а сожаление.
– Я так виноват перед тобой, Крис! Ужасно виноват!
– Тебе не в чем винить себя, – поспешил я успокоить его, думая, что от высокой температуры и огромного количества лекарств он просто бредит.
– Я виноват за то наследство, которое оставил тебе, сынок.
– Все будет хорошо. Я далеко не бедняк.
– Речь не о деньгах. Их тебе хватит, – проговорил отец угасающим голосом. Слова медленно, словно белок из разбитого яйца, вытекали из его бледных губ. – Я говорю о том наследстве, которое оставили тебе мы с твоей матерью, – ХР.
– Не надо, папа! Вы же не знали! Отец снова закрыл глаза. Слова его казались прозрачными.
– Я так виноват…
– Ты подарил мне жизнь, – сказал я.
Его рука обмякла в моей ладони. В какой-то момент мне показалось, что отец умер, и сердце камнем упало в моей груди. Однако зеленая линия на экране прибора подсказала мне, что он просто снова отключился.
– Ты подарил мне жизнь, – повторил я в растерянности оттого, что он не может меня слышать.
Каждый из моих родителей – и папа, и мама – несли в себе уникальный ген, который встречается лишь у одного из двухсот тысяч человек. И существует лишь один шанс из миллиона, что двое таких людей встретятся, влюбятся друг в друга и захотят иметь детей.
Но даже при этом лишь в одном из четырех случаев эти родительские гены передаются их отпрыску.
Мои старики попали в десятку по всем трем пунктам. В итоге я появился на свет с врожденным пигментозным экзодермитом – ХР – крайне редким и чрезвычайно опасным генетическим заболеванием.
Чаще всего жертвы ХР наиболее подвержены раку кожи и глаз. Именно поэтому для меня может оказаться смертельной даже небольшая доза света – солнечного или любого другого, – содержащего ультрафиолет. Его источником могут быть даже флуоресцентные лампы под потолком больницы.
Попадая на клетки кожи, солнечный свет наносит ущерб ДНК – нашему генетическому материалу, – способствуя появлению меланом и развитию других злокачественных образований. Организм нормальных людей обладает системой естественной защиты – ферментами, кодируемыми генами репарации ДНК, которые исправляют ошибки в нуклеотидных последовательностях. Однако с теми, кто помечен страшным тавром ХР, все обстоит иначе. Ферменты в их организме не действуют, и поэтому он не способен «отремонтировать» себя. Под воздействием света у них быстро зарождаются и неконтролируемо развиваются раковые опухоли, вызванные ультрафиолетом.
В Соединенных Штатах Америки, с населением свыше двухсот семидесяти миллионов человек, проживают более восьмидесяти тысяч карликов и девяносто тысяч гигантов. В нашей стране уже насчитывается четыре миллиона миллионеров, и в течение нынешнего года еще десять тысяч счастливчиков пополнят эту славную когорту. Каждые двенадцать месяцев в тысячу наших сограждан попадает молния. Но при всем этом менее тысячи американцев страдают ХР и меньше сотни таких рождаются ежегодно. Их так мало отчасти из-за того, что само это несчастье крайне редко, но еще и потому, что такие, как я, долго не живут.
Большинство врачей, знакомых с ХР, полагали бы, что я должен был умереть еще в младенчестве. Мало кто из них поверил бы в то, что мне удастся дожить до юношеского возраста. И уж наверняка ни один из эскулапов не рискнул бы поспорить, что и в двадцать восемь я все еще буду коптить небо.
Существует лишь горстка иксперов – так я называю подобных себе, – которые старше меня, из них несколько человек – значительно старше, но большинство, если не все эти люди, страдают прогрессирующими нервными расстройствами, связанными с их врожденным дефектом. Трясущиеся руки и голова. Выпадение волос. Невнятная речь. Нарушения психики.
Что касается меня, то, если не считать вынужденной необходимости оберегать себя от света, я так же нормален, как любой другой человек. Я не альбинос, глаза мои не бесцветны, кожа не лишена пигмента.
И хотя меня, конечно, не сравнишь с загорелыми мальчиками с калифорнийских пляжей, призраком меня тоже не назовешь. Как ни забавно, но в освещенных свечами комнатах – этом ночном мире, где я обитаю, – мое лицо может даже показаться смуглым.
В моем положении каждый новый день – бесценный подарок, поэтому я пытаюсь прожить его как можно более насыщенно и достойно. Я смакую свою жизнь.
Я черпаю поводы для радости там же, где и все другие люди, но, помимо этого, заглядываю в такие уголки, где догадается пошарить далеко не каждый.
В двадцать третьем году до Рождества Христова поэт Гораций сказал: «Хватаясь за один день, лишаешь себя веры в завтра». Я же хватаюсь за ночь и скачу на ней, как на огромном черном жеребце.
Большинство моих соседей считают меня счастливейшим из всех живущих. В чем-то они правы. У меня был выбор – принять или отвергнуть счастье, – и я его сделал. Однако, если бы не мои родители, мне бы это не удалось. Мать и отец в корне изменили свою жизнь, чтобы со всей страстью, на которую были способны, защищать меня от смертоносного света. Они были вынуждены безустанно, до изнеможения, сохранять бдительность – до тех пор, пока я не стал достаточно большим, чтобы осознать повисшее надо мной проклятие.
Я выжил лишь благодаря их самоотверженным стараниям. Но самое главное, они подарили мне любовь и вкус к жизни, которые помогли мне избежать пучины отчаяния, не замкнуться в своей раковине.
Смерть мамы была внезапной. Она наверняка знала, насколько глубока моя любовь к ней, но как жаль, что в последний день ее жизни я не сумел сказать ей об этом еще раз.
Иногда, по ночам, на темном пляже, когда на небе нет ни облачка и его звездный свод заставляет меня чувствовать себя одновременно бессмертным и беззащитным, когда не дует ветер и даже морские волны накатываются на берег без шума, я рассказываю маме о том, как сильно любил ее и чем она была в моей жизни.
Вот только не знаю, слышит ли она меня.
А теперь и отец – пусть еще живой, но уже совсем обессиленный – не услышал меня, когда я проговорил:
«Ты подарил мне жизнь». И мне стало страшно. Вдруг он уйдет раньше, чем я успею сказать ему все, что не успел сказать маме?
Ладони отца оставались холодными и вялыми, однако я не выпускал их из рук, словно пытаясь удержать его в этом мире до тех пор, пока не смогу проститься с ним должным образом.
Узкие полоски света по краям штор потускнели и из оранжевых сделались огненно-красными. Солнце наконец-то кануло в океан.
Лишь в одном случае я смогу увидеть солнечный закат. Если когда-нибудь у меня все же начнется рак сетчатки, то, прежде чем капитулировать и окончательно погрузиться в беспросветную тьму, однажды вечером я спущусь к океану, встану на берегу и обращу взгляд к тем далеким азиатским империям, где мне не суждено побывать.
Мне придется щуриться. Яркий свет причиняет моим глазам боль, действуя на них столь разрушительно, что я физически ощущаю, как в голове разгорается пламя.
Ярко-красные полоски по краям штор стали лиловыми, и в этот момент отцовская рука сжала мою ладонь. Посмотрев вниз, я увидел, что глаза его открыты, и попытался высказать все, чем было полно мое сердце.
– Я знаю, – прошептал он в ответ.
Но я был уже не в состоянии остановиться и продолжал говорить даже о том, что не нуждалось в словах.
Внезапно отец с неожиданной силой стиснул мои пальцы. Я умолк на полуслове, и в повисшей тишине он проговорил:
– Помни…
Я едва расслышал его и, перегнувшись через перила кровати, поднес левое ухо к губам отца. Слабым голосом, в котором тем не менее звучали вызов и решимость, он произнес последние слова напутствия:
– Ничего не бойся, Крис. Ничего…
И умер.
Зигзагообразная зеленая линия на экране дернулась раз, второй, а затем вытянулась идеально ровной нитью. Теперь лишь огоньки на черных фитилях свечей плясали в темной палате.
Я был не в силах сразу выпустить из рук изможденные ладони отца. Поцеловал его в лоб, затем – в покрытую легкой щетиной щеку.
Света по краям штор уже не было вовсе. Мир продолжал вращаться в зовущей меня темноте.
Дверь отворилась. Флуоресцентные лампы были предусмотрительно выключены, и коридор на всем своем протяжении освещался лишь светом из открытых дверей в другие палаты. Высокий, под самую притолоку, в комнату вошел доктор Кливленд и с печальным видом встал у кровати. Следом за ним быстрыми, словно у куличка, шагами проскользнула Анджела Ферриман, прижимая к груди крепко сжатый кулачок с побелевшими от напряжения костяшками. Плечи женщины поникли, вся она сгорбилась, будто смерть пациента причиняла ей физическую боль.
Аппарат ЭКГ у постели был соединен с комнатой медперсонала в холле, и сердечный ритм отца отражался на стоявшем там мониторе. В следующее мгновение после того, как папа умер, Анджела и доктор Кливленд уже знали об этом.
Они пришли сюда без шприцев с эпинефрином и без дефибриллятора, который мог бы с помощью электрошока заставить отцовское сердце забиться вновь.
Согласно воле отца, врачи не стали предпринимать никаких усилий, чтобы вернуть его к жизни.
Лицо доктора Кливленда не было предназначено для торжественных случаев. С веселыми глазами и пухлыми розовыми щеками, он походил скорее на Деда Мороза без бороды. Вот и сейчас доктор изо всех сил пытался придать своим чертам выражение скорби и сочувствия, но вместо этого лишь выглядел озадаченным.
Однако чувства, обуревавшие доктора, сполна отразились в его голосе, когда он участливо спросил:
– Ты в порядке, Крис?
– Держусь.
4
Из больницы я позвонил Сэнди Кирку в «Похоронное бюро Кирка», которому отец еще давным-давно отдал все распоряжения на случай своей смерти. Он пожелал, чтобы его тело кремировали.
Два санитара – молодые расхристанные парни с коротко остриженными волосами и жиденькими усиками – пришли, чтобы забрать тело отца и перевезти его в подвал, где находилась покойницкая. Они спросили меня, не хочу ли я пойти с ними и побыть там, пока не придет машина похоронного бюро, но я отказался. Это был уже не мой папа, а всего лишь его оболочка. Отец ушел в иные края. Я даже не стал откидывать простыню, чтобы в последний раз взглянуть на него. Мне хотелось запомнить его другим.
Санитары переложили тело на носилки. Время от времени они косились на меня и двигались с какой-то неловкостью, хотя, казалось бы, их действия должны были быть отработанными. По быстрым взглядам, которые эти ребята бросали на меня, можно было подумать, что они чувствуют передо мной какую-то вину.
Может быть, тем, кто возит мертвецов, так никогда и не удается до конца избавиться от чувства вины за свою работу? Как приятно было бы думать, что подобная неловкость вызвана человеческим неравнодушием к судьбам ближних! К сожалению, людское сочувствие чаще оказывается показным.
Впрочем, вероятнее всего, косые взгляды этих двоих объяснялись обычным любопытством к моей персоне. В конце концов, я единственный житель Мунлайт-Бей, которому была посвящена большая статья в журнале «Тайм» в связи с выходом в свет моей книги, сразу же ставшей бестселлером. Кроме того, я – единственный, кто живет только ночью и сжимается от ужаса при появлении солнца. Вампир! Вурдалак! Отвратительный огромный оборотень! Прячьтесь, детишки!
Если говорить честно, то большинство людей проявляют по отношению ко мне доброту и понимание.
Однако не бывает бочки меда без ложки дегтя. Существует и кучка злобных сплетников. Они верят любым нелепицам, которые слышат про меня, передают их дальше и наслаждаются этими небылицами с упоением зевак на процессах над ведьмами в Салеме.
Если санитары относились к последней категории, их, должно быть, постигло жестокое разочарование, ибо выглядел я совершенно обычно. Они не увидели ни мертвенно-белого лица, ни налитых кровью глаз, ни клыков. Я даже не стал заглатывать при них червей и пауков. Какая скучища!
Колеса каталки заскрипели, и санитары вывезли тело в коридор. Даже после того, как дверь за ними закрылась, до моего слуха все еще доносился этот неприятный звук: «Скуи-скуи-скуи-и-и…»
Оставшись один в освещенной свечами палате, я вынул из узкого стенного шкафа портфель отца. Там были лишь те вещи, в которых он прибыл в больницу в последний раз.
В верхнем ящике тумбочки лежали часы, портмоне и четыре книжки в бумажных переплетах. Все это я тоже сложил в портфель. Зажигалку сунул в карман, но свечи оставил на тумбочке. Я больше никогда не смогу вдыхать запах восковницы, слишком тяжелые ассоциации вызывает он у меня.
Если судить по тому, как деловито и споро мне удалось собрать нехитрые пожитки отца, можно было решить, что я полностью держу себя в руках. На самом же деле я словно окаменел. Погасил свечи, поочередно зажав фитили большим и указательным пальцами, но даже не почувствовал боли.
Когда, прихватив портфель, я вышел в коридор, медсестра снова погасила свет. Я направился прямиком к лестнице запасного выхода, по которой поднялся чуть раньше. Лифты были не для меня. В них нельзя отключить свет. Кроме того, во время недолгого путешествия между третьим и первым этажами кокосовый лосьон является для меня достаточной защитой, но что прикажете делать, если лифт вдруг застрянет и мне придется неизвестно сколько висеть между этажами? Нет, так рисковать я не мог.
Позабыв надеть темные очки, я быстро спускался по слабо освещенным бетонным ступеням, но, к собственному удивлению, не остановился, достигнув первого этажа. Движимый каким-то странным порывом, я продолжал спускаться дальше – в подвал, куда отвезли тело отца.
Холод у меня в груди превратился в пронизывающую стужу, и, вырвавшись из этого ледяного сгустка, мое тело сотрясли несколько судорог.
В мозгу у меня что-то вспыхнуло. Я вдруг осознал, что расстался с телом отца, забыв выполнить какой-то очень важный долг. Вот только какой?
Сердце билось так громко, что его стук отдавался у меня в ушах. Так – разве что вдвое медленней – стучит барабан во главе приближающейся похоронной процессии. Горло перехватило, и мне стоило большого труда сглотнуть слюну, в одночасье ставшую горькой.
Внизу лестничного пролета находилась стальная дверь пожарного выхода, о чем извещала надпись, сделанная большими красными буквами. Взявшись за перекладину ручки, я в замешательстве остановился. И тут вдруг вспомнил, какой именно долг мне предстояло выполнить.
Романтик по натуре, отец хотел, чтобы его кремировали вместе с любимой фотографией мамы, и взял с меня слово, что я прослежу за этим.
Фотография находилась в бумажнике отца, а бумажник – в портфеле, который был у меня в руке.
Я решительно толкнул дверь и вошел в подвальный коридор. Бетонные стены были выкрашены глянцевой белой краской, из серебристых полукруглых плафонов под потолком изливались потоки яркого света. Мне бы отпрыгнуть обратно или хотя бы поискать выключатель, но вместо этого я безрассудно двинулся вперед, позволив тяжелой двери захлопнуться за моей спиной.
Втянув голову в плечи и пригнувшись, я надеялся только на то, что лосьон и длинный козырек бейсболки защитят мое лицо.
Левая рука была засунута глубоко в карман куртки, а вот правая сжимала ручку портфеля и потому оставалась беззащитной.
Того количества света, которое обрушится на меня во время пробежки по тридцатиметровому коридору, конечно, не хватит, чтобы спустить с цепи яростный рак кожи или сетчатки. Однако я знал, что смертоносное действие света на клетки носит кумулятивный характер, подобно радиации накапливаясь в моем беспомощном организме. Если бы на протяжении двух месяцев я регулярно – хотя бы на одну минуту – подставлял свое тело свету, эффект был бы таким же катастрофическим, как если бы я целый час кряду жарился на пляже.
Родители сызмальства внушали мне, что один или два необдуманных поступка не навлекут на меня больших бед. Поистине ужасные последствия будут грозить мне лишь в том случае, если безответственность войдет у меня в привычку.
Даже при том, что я низко наклонил голову, а козырек кепки скрывал мое лицо от похожих на скорлупу плафонов, мне приходилось щуриться из-за света, отражавшегося от белых стен.
Линолеум, сделанный под серый с красными прожилками мрамор, напоминал обветрившееся сырое мясо. Оттого, что мой взгляд невольно следил за его рисунком, и из-за слепящего отблеска от стен в глазах у меня зарябило. Я миновал склад и котельную. В подвале не было ни души. И вот я уже стою перед дверью, от которой минуту назад меня отделял коридор. Еще шаг – и я в небольшом подземном гараже.
Он не был предназначен для посетителей больницы. Те оставляли свои машины наверху.
Сейчас здесь стояли грузовой автофургон, на борту которого значилось название больницы, и реанимобиль, а в некотором отдалении был припаркован черный «Кадиллак» – катафалк похоронного бюро. Я испытал облегчение: значит, Кирк еще не уехал, забрав тело, и я успею вложить в скрещенные руки отца фотографию мамы.
Рядом с сияющим «Кадиллаком» находился еще один фургон марки «Форд» – такой же, как реанимобиль, только без обычных для медицинского транспорта мигалок на крыше. Обе машины – и фургон, и катафалк – стояли задом ко мне, обратившись мордами к поднимающимся вверх воротам гаража. Ворота были открыты, и погашенные фары машин безжизненно смотрели в темноту ночи.
В обычное время автомобили здесь ставить запрещалось, чтобы не мешать больничным фургонам, которые то и дело доставляли к грузовому лифту чистое белье, продукты и медицинское оборудование. В этот час тут, разумеется, царил покой.
Бетонные стены гаража были некрашеные, потолок – гораздо выше, чем в коридоре, да и ламп значительно меньше. Однако даже здесь я не мог чувствовать себя в достаточной безопасности и потому торопливо двинулся по направлению к «Кадиллаку» и белому «Форду».
В углу подвала, слева от въезда в гараж, располагалась дверь, знакомая мне буквально до боли в сердце.
Холодильник. Хранилище для трупов. Мертвецкая. Тут покойники дожидаются часа, когда приедет катафалк похоронного бюро, чтобы забрать их в морг. В одну страшную январскую ночь, два года назад, мы с отцом при тусклом свете свечи больше получаса провели в этом холодном склепе рядом с безжизненным телом мамы. Мы были просто не в состоянии покинуть ее здесь одну. И если бы в ту ночь папа нашел в себе силы оставить меня одного, он, несомненно, последовал бы за ней в морг, а затем и в крематорий. Мужчина-поэт и женщина-ученый, но насколько схожие души!
«Скорая помощь» быстро забрала маму с места автокатастрофы, а из приемного покоя ее сразу же передали в руки хирургов. Она умерла через три минуты после того, как оказалась на операционном столе, так и не придя в сознание. Врачи даже не успели осмотреть полученные ею травмы.
Сейчас утепленная дверь в покойницкую была открыта, и, приблизившись к ней, я услышал, что внутри сердито спорят несколько мужских голосов. Они явно не хотели быть услышанными кем-то из посторонних, поэтому старались говорить приглушенно. Но даже не злость в голосах споривших, а то, что они шептались, как заговорщики, заставило меня замереть на месте, не дойдя до порога. Забыв о льющихся сверху потоках убийственного света, я врос в бетонный пол, не зная, что предпринять. Вдруг из-за двери послышался голос, который был мне хорошо знаком.
– Что это за парень, которого мне предстоит кремировать? – спросил Сэнди Кирк.
– Никто, – ответил его собеседник. – Обычный бродяга. Хичхайкер. Путешествовал автостопом.
– Ты должен был привезти его прямо ко мне, – раздраженно заметил Сэнди. – А что будет, когда его хватятся?
– Ну что, черт возьми, будем мы что-то делать или нет? – вмешался в разговор третий человек, и по голосу я сразу признал в нем одного из санитаров, забиравших тело отца из палаты.
До меня вдруг дошло, что, если собравшиеся в мертвецкой обнаружат мое присутствие, мне будет грозить нешуточная опасность. Я осторожно поставил портфель у стены, освобождая правую руку.
На пороге показался человек. Меня он не увидел, поскольку пятился спиной, вывозя за собой каталку.
Катафалк стоял метрах в трех от входа в покойницкую. Прежде чем меня заметили, я юркнул к нему и скорчился возле задних дверей, через которые в машину загружают тела.
Выглянув из-за крыла автомобиля, я вновь увидел дверь в мертвецкую. Мужчина, пятившийся задом, был мне незнаком: лет под тридцать, высокий, крепкого сложения, с бычьей шеей и наголо бритой головой.
Одет он был в грубые ботинки, джинсы и красную клетчатую рубаху из фланели. В мочке его уха болталась жемчужная сережка.
Окончательно выкатив тележку из мертвецкой, человек развернул ее в направлении катафалка, чтобы толкать перед собой. На каталке лежало тело в черном пластиковом мешке, застегнутом на «молнию». Два года назад в этой самой комнате мою мать, прежде чем отдать в распоряжение гробовщика, уложили в точно такой же мешок.
Следом за лысым незнакомцем в гараж вышел Сэнди Кирк, придержал каталку и, преградив ей путь ногой, задал все тот же вопрос:
– Так что будет, когда его хватятся?
Лысый нахмурился и мотнул головой.
– Говорю же тебе, он был бродягой. Таскал все свое барахло в рюкзаке за спиной.
– Ну и что?
– Кто его хватится? Подумаешь, исчез какой-то оборванец! Никто и не заметит.