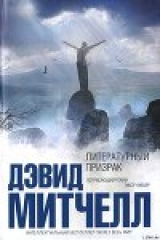
Текст книги "Литературный призрак"
Автор книги: Дэвид Стивен Митчелл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Почему такая спешка?
– Эта страна катится в прошлое. Где-то там, за горами притаился в ожидании конец света. Мы должны смотаться отсюда, пока снова не наступил прошлый век.
– Но в этом – очарование Улан-Батора. В его обветшалости.
– Не знаю, что значит «обветшалость», но никакого очарования тут не вижу. Улан-Батор только доказывает, что монголы не в состоянии строить города. Здесь можно снимать фильм об обреченной колонии уцелевших в бактериологической войне. Давай уедем отсюда. Не понимаю, зачем я тут. По-моему, тут никто не понимает, зачем он тут.
Входит официантка и ставит на стол свечу. Каспар благодарит по-монгольски. Официантка отходит. «Ну, дорогая, – думает Каспар, – когда случится революция…»
Шерри раскладывает колоду карт.
– Ты хочешь сказать, что монголы созданы исключительно для дикой кочевой жизни? Их удел – разводить скот, рожать детей, мерзнуть, жить в юртах, кормить глистов, не знать грамоты?
– Я не хочу с тобой спорить. Я хочу поехать к горам Хангай, забираться на вершины, скакать на лошади, плавать голышом в озерах. Понять, зачем я живу на земле.
– Хорошо, викинг. Завтра утром едем. А сейчас давай сыграем в криббидж. По-моему, я веду в счете – тридцать семь выигрышей против девяти.
Значит, мне тоже предстоит переезд. Имея хозяином местного жителя, продолжать путешествие по стране опасно. Имея хозяином иностранца – невозможно.
Я прибыл сюда, чтобы отыскать свои корни. Истоки своего «я». Это было лет шестьдесят тому назад.
Первые слова: «О судьбе мира думают трое…»
*
Раза два я пытался описать процесс переселения некоторым из моих хозяев, богаче других одаренным воображением. Это невозможно. Я знаю одиннадцать языков, но есть оттенки, которые словами не передать.
Я могу переселиться только в тот момент, когда другой человек касается моего хозяина. Легко ли пройдет переселение – зависит от состояния сознания человека, в которого я переселяюсь. Еще важно, чтобы не препятствовали отрицательные эмоции. Тот факт, что для переселения необходим физический контакт между старым и новым хозяином, означает, что я существую в физическом плане, только на субмолекулярном или биоэлектрическом уровне. Есть ряд ограничений. Например, я не могу переселяться в животных, даже в приматов: они сразу погибают. Все равно как взрослый не может влезть в детскую одежду. Переселяться в кита я не пробовал.
Это техническая сторона дела. Но как описать, что при этом чувствуешь? Представьте гимнаста на трапеции, который вращается под куполом цирка. Или бильярдный шар, который закружился перед тем, как влететь в лузу. Или прибытие в незнакомый город после блужданий в тумане.
Иногда язык не в состоянии донести хотя бы благозвучность смысла.
Утренний ветер приносит холодный воздух с гор. Ганга высунулась из юрты, умыла прохладным утренним воздухом лицо и шею. В юртах на склоне холма постепенно пробуждается жизнь. В городе завыла сирена «скорой помощи». Свинцовые воды реки Туул переливаются оттенками серого. Красные неоновые буквы-гиганты «Сделаем Улан-Батор образцовым социалистическим городом» погасли.
«Дерьмо верблюжье, – думает Ганга. – Когда их наконец снимут?»
Ганга переживает из-за того, что дочь куда-то ушла. У нее на этот счет свои подозрения.
Соседка кивнула и пожелала доброго утра. Ганга ответила. Глаза стали хуже видеть, побаливает сломанная позапрошлой зимой нога, которая плохо срослась, да и ревматизм дает о себе знать. Подбегает собака, требуя, чтобы ее почесали за ушами. Ганге сегодня не по себе.
Она ныряет обратно в тепло юрты.
– Не студи, черт подери! Закрой дверь! – рявкает муж.
Хорошо, что я наконец распрощался с западным менталитетом. Как это ни прекрасно, узнавать много нового из таких, как у Каспара, без устали трудящихся мозгов, все же это вызывает у меня порой головокружение. Только что он думал о курсе обмена валют, и вот уже переключился на фильм о похитителях картин из Санкт-Петербурга, через секунду вспоминает, как мальчиком рыбачил с дядей меж двух островов, а в следующий миг у него в голове уже веб-страница приятеля или вертится популярная песенка. И так без конца.
Мысль Ганги никогда не перескакивает с одного удаленного предмета на другой. Ганга всегда думает об одном: как раздобыть еды и денег. Ее волнуют только самые близкие люди: дочь и больные родственники. Один день ее жизни как две капли воды похож на другой. Гарантированная бедность при советском господстве, борьба за существование после получения независимости. Конечно, в сознании у Ганги мне гораздо сложнее спрятаться, чем у Каспара. Одно дело затеряться в суматошном городе, и совсем другое – в малолюдной деревушке. Некоторые хозяева очень чувствительны к изменениям в своем внутреннем ландшафте, и Ганга именно из таких. Пока она спала, я освоил ее язык, но ее сны упорно ускользают от меня.
Ганга растапливает печь. Маета не проходит.
– Что-то не так, – говорит она сама себе.
В надежде отыскать причину беспокойства она оглядывает юрту – может, что-то пропало? Кровати, стол, ларец, коврики, семейная посуда, серебряный чайник, который даже в самые трудные времена она отказалась продать. Все на месте.
– Опять твое загадочное шестое чувство?
Баянт шевелится под грудой одеял. Катаракта и полумрак не дают Ганге его разглядеть. Баянт прокуренно кашляет.
– Ну, что на этот раз? Твоя задница напела тебе, что мы получим в наследство верблюда? Ушная сера шепнула, что приползет хитрый змей и похитит твою невинность?
– Хитрый змей давно сделал свое дело. Его зовут Баянт.
– Очень смешно. Что у нас на завтрак?
Попробую, попытаю счастья.
– Муженек, а, муженек, ты ничего не слышал про трех животных, которые думают о судьбе мира?
Долгое молчание. Мне даже показалось, что Баянт не расслышал вопроса.
– Ты что, женщина, спятила? О чем ты?
В этот момент влетает Оюн, дочь Ганги. Она раскраснелась, запыхалась.
– В магазине был хлеб! И еще я раздобыла несколько луковиц!
– Умница! – Ганга обнимает ее. – Ты так рано встала сегодня, я даже не слышала.
– Да закройте эту чертову дверь! – орет Баянт.
– Ты так поздно вернулась с работы, мамочка. Я не хотела беспокоить тебя.
Ганга подозревает, что это не вся правда.
– А много сейчас народу в гостинице, мама?
Оюн большая мастерица переводить разговор на другую тему.
– Нет. Все те же двое белоголовых.
– Австралию-то я нашла в школьном атласе. Но вот где эта – как ее там? – Дания, что ли?
– Какая разница! – бурчит Баянт, вылезая из-под груды одеял, одно накидывает как шаль. Когда-то он был красавчик и до сих пор себя им считает, – Вряд ли ты когда-нибудь окажешься там!
Ганга прикусывает язык, Оюн отводит глаза.
– Белоголовые сегодня уезжают, и я очень рада, – говорит Ганга. – Не понимаю, как это мать отпустила дочь одну болтаться по свету. Наверняка они не женаты, а спят в одной постели! Никаких колец, ничего. А он вообще какой-то ненормальный.
Ганга смотрит на Оюн, но Оюн смотрит в сторону.
– Конечно ненормальный, это же иностранцы, – Баянт с шумом отхлебывает и глотает чай.
– Почему он ненормальный, мама?
Оюн начинает чистить лук.
– Ну, во-первых, от него пахнет ягодами. И еще… Глаза… Глаза у него как будто чужие, не его.
– Неужто эти двое страннее тех венгров из профсоюза, помнишь? Которые летали за орхидеями во Вьетнам.
Ганга умеет не обращать внимания на мужа.
– Этот мужчина из Дании, он все время дает чаевые, и подмигивает, и улыбается, как будто у него голова не в порядке. А вчера вечером он дотронулся до моей руки.
Баянт сплюнул на пол.
– Если он дотронется до тебя еще раз, я сверну ему башку и в задницу засуну. Так и передай ему!
Ганга качает головой.
– Нет, это было так, как дети играют в пятнашки. Он слегка коснулся моей руки пальцем и тут же отошел. Как будто запятнал. Или заколдовал. И пожалуйста, не плюйся в доме.
Баянт отламывает кусок хлеба.
– Как же! Заколдовал! Да он просто хотел соблазнить тебя. Послушай, женщина, иногда мне кажется, что я женился не на тебе, а на твоей бабушке!
Женщины продолжают готовить завтрак молча.
Баянт поскреб пятерней в паху.
– Кстати, о женитьбе. Старший сын старика Гомбо приходил вчера вечером. Просит руки Оюн.
Оюн, не поднимая головы, мешает в горшке.
– Да?
– Да. Принес мне бутылку водки. Отличная вещь. Сам старина Гомбо – несерьезный мужик, не умеет держать выпивку. Зато его свояк работает на хорошей должности. А у младшего сына, говорят, большое будущее. Два года подряд становится чемпионом школы по борьбе. Это вам не понюшка табаку.
Ганга рубит лук, ей щиплет глаза и нос. Оюн молчит.
– По-моему, неплохая мысль, а? Похоже, старший по уши втюрился в Оюн. Если у нее в животе окажется внук старика Гомбо, сразу двух зайцев убьем: ясно будет, что девочка не пустоцвет, и старику Гомбо придется действовать… Бывают женихи и похуже…
– Бывают и получше, – говорит Ганга, помешивая лапшу в бараньем супе; ей вспомнилось, как Баянт лазал к ней через дыру в юрте, под боком у спавших родителей. – Может, Оюн кто-то другой нравится. И вообще, мы ведь договорились. Оюн должна закончить школу и, если судьбе будет угодно, поступить в университет. Мы же хотим успехов Оюн. Может, она купит машину. Или хотя бы мотоцикл. Из Китая привозят.
– Какой смысл учиться? Работы все равно нет, тем более для женщин. Русские ушли, предприятия позакрывали. Что осталось – захватили китайцы. Нам, монголам, чужаки не дают пробиться. Губят нас.
– Ерунда! Вам водка не дает пробиться! Водка вас губит!
– Женщины ни черта не смыслят в политике! – разозлился Баянт.
– Вы больно много смыслите! – Ганга тоже разозлилась, – Да экономика наша сейчас загнулась бы и от простуды, если б ей достало здоровья хотя бы на то, чтоб простыть!
– Говорят тебе, во всем виноваты русские…
– Хватит валить все на русских! Дела не пойдут на лад, пока мы будем обвинять русских, а не себя. Китайцы-то могут зарабатывать деньги у нас! Почему ж мы сами не можем?
Зашипел жир на сковородке. Ганга поймала свое отражение в чашке с молоком и нахмурилась. Рука с чашкой задрожала, отражение исчезло.
– Что-то я сама не своя. Нужно сходить к шаману.
Баянт стукнул кулаком по столу:
– Еще чего – бросать тугрики на ветер!
Ганга тоже стукнула по столу:
– Мои тугрики! Куда хочу – туда бросаю, пропойца.
Баянту приходится отступить без боя – поражение неизбежно. Он не хочет, чтобы соседи услышали перепалку. Начнут болтать, что жена ему не повинуется.
Почему я таков, каков есть? У меня нет генетического кода. У меня нет родителей, которые учили бы меня различать добро и зло. У меня вообще нет учителей. Я ни от кого не получал ни питания, ни воспитания. Но я обладаю разумом и совестью. Гуманный негуманоид.
Конечно, я не всегда был таким гуманным, как сейчас. После того как доктор сошел с ума, я кочевал от одного крестьянина к другому. Я был их господином и повелителем. Я знал все их секреты, излучины всех речек, клички всех собак. Я знал их редкие мимолетные радости, память о которых долго согревала их сердца, спасая от окоченения. Я не чурался самых экстравагантных экспериментов. Иных хозяев я едва не губил в погоне за наслаждениями, возбуждавшими их нервы. Иных заставлял страдать просто для того, чтобы лучше изучить природу страдания. Я развлекался пересадкой воспоминаний из одной головы в другую или подстрекательством. Я понуждал монахов к разбою, любовников к измене, бедняков к транжирству. Одно могу сказать в свое оправдание – после того случая с солдатом я никого не убил. Но отнюдь не из любви к человечеству, надо быть честным. Из страха. Я боюсь только одного на свете: оказаться внутри хозяина в момент его смерти. Мне неведомо, что тогда произойдет со мной.
Я не могу поведать историю своего обращения к гуманизму – ее попросту нет. Во времена Культурной революции и позже, меняя хозяев на Тибете, во Вьетнаме, в Корее, в Сальвадоре, я насмотрелся, как люди уничтожают друг друга. Сам я при этом находился в безопасности, выбирая генеральские тела. Я видел войну за Фолклендские острова, сражения за голые скалы. «Двое лысых дерутся из-за расчески», – так выразился мой тогдашний хозяин. В Рио видел туриста, убитого из-за часов. Люди живут, обманывая, присваивая, порабощая, мучая, уничтожая. И всякий раз утрачивают часть того, чем могли бы стать. Отравляющее расточительство. Поэтому я больше не творю зла. И без того уже слишком много отравы.
Ганга проводит все утро в гостинице. Надо убраться в комнатах, вскипятить воду, постирать белье. Я смотрю на Каспара со стороны – как будто навестил свой старый дом. Они с Шерри расплатились и ждут, когда прибудет взятый в аренду джип. Я попрощался с Каспаром по-датски, но он подумал, это Ганга, проходя мимо, сказала что-то на монгольском.
Заправляя постель, Ганга представляет, как лежали на ней Каспар с Шерри, и думает про Оюн, про младшего сына Гомбо. Припоминает слухи, которые ходят по городу, – о детской проституции, о том, что полиция куплена иностранцами. Хозяйка гостиницы госпожа Енчбат, вдова, пришла, чтобы заняться бухгалтерией. Она в хорошем настроении: Каспар расплатился долларами, и миссис Енчбат может увеличить размер приданого. Пока закипает вода для стирки, женщины беседуют, попивая соленый чай.
– Послушай, Ганга. Ты знаешь, я не охотница до сплетен, – начинает госпожа Енчбат, маленькая женщина, мудрая, как ящерица. – Мой Сонжудой видел, что твоя Оюн гуляла с младшим Гомбо вчера вечером. На каждый роток не накинешь платок. И на празднике Наадам их тоже видели вместе. Сонжудой говорит, что старший Гомбо влюблен в Оюн.
– А правду говорят, что твой Сонжудой перешел в христианскую веру? – наносит Ганга ответный удар.
– Он просто пару раз заходил в миссионерский отдел американского посольства, вот и все, – холодно отвечает госпожа Енчбат.
– И что об этом думает его бабушка?
– Я думаю, что американцы – ужасные пройдохи. Всех пытаются обратить в свою дикую веру. Они умудряются даже молоко обратить в порошок. Какое это имеет значение, Ганга?
Гангу опять одолевает маета. Она чувствует мое присутствие. Я пытаюсь успокоить ее тревогу.
– Никакого, – отвечает она. – Что-то я сама не своя. Надо сходить к шаману.
Переполненный автобус тащится на первой скорости. В конце маршрута находится заброшенный завод. Ганга уже не помнит, что он производил в советское время. Я ревизую ее подсознание: оказывается, патроны. Расплодились полевые цветы – пользуются дарами краткого лета. Расплодились одичавшие собаки – рвут на куски какой-то трупик. Денек слабенький, тусклый. Люди выходят из автобуса и бредут к поселку – к этой россыпи юрт на склоне холма. Ганга идет вместе со всеми. Рядом тянется огромная труба на опорах – часть системы городского отопления, но для котлов требуется русский уголь. На монгольском система работать не может – он не дает нужной температуры. Большинство местных жителей отапливаются по старинке – кизяком.
Сестра Ганги ходила к этому шаману, когда не могла забеременеть. Через девять месяцев родила двойняшек, причем в рубашке – счастливый знак. Сам президент советуется с шаманом. Шаман может лечить лошадей. Говорят, он двадцать лет прожил отшельником в дальней провинции Баян-Олги. Во время советской оккупации местные власти несколько раз пытались арестовать его за бродяжничество, но каждый, кто приближался к нему, возвращался с пустыми руками и с пустыми глазами. Было ему двести лет.
Я с большим нетерпением ожидаю встречи с шаманом.
В моем положении есть свои преимущества: я не старею и не забываю. Моя свобода превышает степень человеческого разумения. Но есть ограничения, которые мне не дано преодолеть. Например, я не могу избавиться от постоянного бодрствования. Я так и не научился спать или хотя бы грезить. И то знание, к которому я более всего стремлюсь, ускользает от меня: мне не удалось выяснить, откуда я взялся и есть ли еще на свете подобные мне.
Покинув деревню у подножия Святой горы, я странствовал по Юго-Восточной Азии. Обшаривал сознание стариков, все укромные уголки, чердаки и подвалы, – не прячутся ли там бестелесные духи, подобные мне. Я обнаружил там легенды о таких, как я, но ни малейших следов их реального присутствия. В 1960-е годы я пересек Тихий океан.
Памятуя о сумасшествии доктора, я держал язык за зубами и не выдавал хозяину своего присутствия. Меньше всего я хотел плодить мистиков, психов и писателей. Однако, встречая на своем пути мистика, психа или писателя, я иногда вступал с ним в диалог. Один писатель из Буэнос-Айреса даже предложил название для меня – noncorpum,что значит «бестелесный», во множественном числе – noncorpa.Если только наступит день, когда множественное число понадобится.
Я провел несколько дивных месяцев, ведя с ним диспуты по метафизическим вопросам, и мы написали несколько повестей в соавторстве. Но «я» не переросло в «мы». В 1970-е годы я дал объявление в «Нэшнл инкуайрер». Американцы самый чокнутый народ в мире. Откликнулись 19 человек. Я познакомился с каждым. Все то же: мистики, психи, писатели. Я искал даже в Пентагоне. Открыл много интересного, но никаких признаков существования собратьев noncorpa.В Европе никогда не бывал. Эта часть суши, над которой нависла тень ядерных боеголовок, не кажется мне перспективной.
Я вернулся на Святую гору, обогащенный знаниями благодаря не одной сотне хозяев, но по-прежнему ничего не ведая о своем происхождении. Я устал от скитаний. Святая гора – единственное место на земле, с которым я ощущаю связь. Десять лет я пользовался гостеприимством монахов, которые обитают на склонах горы. Вел размеренную и спокойную жизнь. Подружился с одной старой женщиной, которая держала на горе чайный домик. Она принимала меня за говорящее дерево. После ее смерти я ни с одним человеком не разговаривал.
– Входи, доченька, входи! – раздался из юрты голос шамана.
Над входом висит выбеленная солнцем челюсть. Ганга оглядывается – ее вдруг охватывает страх. Мальчик играет с красным мячиком. Подбрасывает его в бледно-голубое небо, запрокидывает голову, ждет, потом ловит. Ганга видит ову– горку священных камней и костей. Склоняется перед ней, потом ступает в дымный сумрак юрты.
– Входи, доченька!
Шаман сидит на коврике. Медитирует. С балки свисает лампа. В медной тарелке оплывает сальная свеча. Дальняя стена увешана шкурами животных. Воздух густой от курений.
Возле входа стоит резной ящик. Ганга открыла его и положила туда почти все тугрики, которые Каспар дал ей на чай накануне вечером. Потом сняла обувь и в правой, женской, половине юрты опустилась на колени перед шаманом. У шамана морщинистое лицо, по которому невозможно определить возраст. Седые спутанные волосы. Закрытые глаза вдруг широко распахиваются. Он указывает на низкий столик – на нем стоит старый чайник.
Ганга наливает в костяную чашку темной жидкости без запаха.
– Пей, Ганга, – говорит шаман.
Моя хозяйка делает глоток и хочет начать рассказ, но шаман жестом останавливает ее.
– Ты пришла, потому что в тебя вселился дух.
– Да, – отвечаем мы с Гангой в один голос.
Ганга остро ощущает мое присутствие и роняет чашку. Недопитая жидкость растекается по циновке.
– Мы должны выяснить, чего он хочет, – говорит шаман.
Сердце Ганги бьется, как мышь в коробке. Я осторожно отключаю ее сознание.
Шаман замечает перемену в ее состоянии. Он берет перо и чертит в воздухе какой-то знак.
– Кто ты, дух? – спрашивает шаман, – Предок этой женщины?
– Не знаю, кто я, – отвечаю я голосом Ганги, только охрипшим, словно пересохшим, – Сам хочу узнать.
Как странно снова произносить это слово – «я».
Шаман сохраняет полное спокойствие.
– Назови свое имя, дух.
– Я обхожусь без имени.
– Ты предок этой женщины?
– Ты уже спрашивал. Нет. Насколько мне известно.
Шаман стучит костью об кость, бормоча что-то на неизвестном мне языке. Потом вскакивает на ноги, поднимает руки и сгибает пальцы, как когти.
– Именем великого Эхий-мергена заклинаю тебя – покинь тело этой женщины! Изыди! – орет шаман.
Ох уж эти штучки.
– Изыду – а дальше что? – спрашиваю я.
– Изыди! – орет шаман. – Изыди! Заклинаю именем великого Эхий-мергена, который отделил день от ночи!
Шаман трясет над Гангой погремушкой, размахивает курительницей и брызгает водой ей в лицо.
Потом смотрит, ожидая реакции.
– Шаман, я рассчитывал на более разумное поведение с твоей стороны. За много лет я впервые вступил в разговор. А водой Гангу лучше помыть, будет больше пользы. А то она считает, что монгольская плоть не потеет, и никогда не моется. И еще у нее вши.
Шаман пристально смотрит в глаза Ганге, пытаясь обнаружить того, кто не является Гангой.
– Твои слова, дух, ставят меня в тупик. Сила твоя велика. Ты желаешь этой женщине зла? Ты злой дух?
– Случается, разозлюсь иной раз. Но вообще, по-моему, я не злой. А ты?
– Чего ты хочешь от этой женщины? Что мучает тебя?
– Одно воспоминание. И отсутствие остальных.
Шаман снова садится на коврик и принимает ту же позу, что вначале.
– В какой стране ты жил, когда имел тело?
– Почему ты думаешь, что я был человеком?
– А кем еще ты мог быть?
– Хороший вопрос.
Шаман морщит лоб.
– Ты очень странный. Такие, как ты, встречаются редко. Ты рассуждаешь как ребенок, а не как старый, поживший человек.
– Что значит «такие, как я»? Тебе встречались такие, как я?
– Я же шаман. Моя работа – общаться с духами. Раньше это делал мой учитель, а еще раньше – учитель моего учителя.
– Позволь мне исследовать твое сознание. Я должен выяснить, с какими духами ты имел дело.
– А что, разве духи не общаются между собой?
– Со мной не общаются. Прошу тебя, позволь мне войти в тебя. Для тебя будет лучше, если ты не станешь сопротивляться.
– Если я позволю тебе ненадолго войти в меня, ты оставишь в покое эту женщину?
– Шаман, считай, что мы договорились. Если сейчас ты прикоснешься к Ганге, я покину ее.
Я продвигаюсь по чужой памяти, как по лабиринту. Некоторые туннели хорошо освещены и находятся в идеальном состоянии. Другие похожи на обрушенные катакомбы. Одни надежно охраняются, другие заложены кирпичом. Из одного туннеля перехожу в другой, опускаясь все глубже и глубже.
Но докопаться до воспоминаний еще не означает докопаться до правды. Очень часто ум редактирует воспоминания с учетом пересмотренной и обновленной картины мира. В туннелях памяти шамана я ветретился то ли с духами мертвых, то ли с галлюцинациями – может, самого шамана, может, его клиентов, а может, и с теми и с другими, – то ли с noncorpa. Короче, либо следов не оказалось вообще, либо их оказалось слишком много. Возможно, нужные мне свидетельства имеют форму, в которой я не могу их распознать. Я углубил свои поиски.
Мне удалось обнаружить вот эту историю. Она была рассказана двадцать лет тому назад ночью у костра.
Давным-давно по земле гуляла красная чума. Она выкашивала людей тысячами. Здоровые бежали прочь, бросая заболевших. Они успокаивали себя просто: «Судьба рассудит, кому жить, кому умереть». Тарву, мальчика пятнадцати лет, тоже бросили умирать в стране птиц. Его дух покинул тело и отправился в песчаную страну мертвых.
Когда он появился в юрте хана преисподней, тот очень удивился.
– Почему ты покинул свое тело, ведь оно еще дышит?
Тарва ответил:
– Мой повелитель, живые решили, что мое тело умрет. Я отправился к тебе без промедления, чтобы заверить в своей преданности.
Хан преисподней был тронут покорностью Тарвы.
– Нет, я постановляю, что твой срок еще не наступил. Бери самого быстрого из моих скакунов и возвращайся к своему учителю в страну птиц. Но сначала ты должен выбрать что-нибудь на память из сокровищ, которые видишь перед собой в моей юрте. Смотри не ошибись! Тут есть здоровье, богатство, удача, красота, вдохновение, печаль, скорбь, мудрость, вожделение, слава… Так что же ты выбираешь?
– Мой повелитель! – ответил Тарва. – Я выбираю вот эти сказки.
Тарва сложил сказки в свой кожаный мешок, оседлал самого быстрого из скакунов хана преисподней и помчался обратно на юг, в страну птиц. Когда он прискакал, ворон уже успел выклевать глаза на его теле. Тарва не посмел вернуться в страну мертвых, опасаясь, что хан преисподней сочтет это неблагодарностью. Поэтому он вновь вступил во владение своим телом и поднялся с земли. Несмотря на слепоту, он прожил сто лет, странствуя на скакуне хана преисподней по свету, от Алтайских гор на западе и до пустыни Гоби на юге и рек нагорья Хэнтэй. Он предсказывал будущее, рассказывал сородичам сказки и легенды о происхождении их земли. С тех пор монголы рассказывают друг другу сказки и легенды.
Я решаю отправиться на юг, вслед за Тарвой. Если реальность не дает мне подсказки, может, ее дадут легенды.
*
Жаргал Чиндзориг силен, как верблюд. Верит он только своим близким и своему грузовику. В детстве Жаргал мечтал стать летчиком ВВС Монголии, но у родителей не хватило денег дать взятку кому надо, чтобы мальчика приняли в столичную школу для партийных. Поэтому он стал водителем грузовика. В конце концов, это даже к лучшему. Кто знает, что приключится, если кучка ржавых аэропланов, из которых состоят ВВС Монголии, неровен час, поднимется в воздух. В парламенте ведут разговоры о том, не списать ли на металлолом весь военно-воздушный флот, который только подчеркивает полную неспособность Монголии защитить себя от любого соседа, даже от малоразвитого Казахстана. Из-за экономического кризиса Жаргал работает на любого, у кого есть топливо. На дельцов черного рынка, на теоретически приватизированный металлургический завод, на лесозаготовительную бригаду, на торговцев мясом. Жаргал пойдет на все, лишь бы заставить свою жену рассмеяться: даже натянет носок на нос и будет скакать вокруг юрты, посадив ее на загривок и сопя, как як.
Дорога из Улан-Батора в Даландзадгад, по которой мы едем, наименее ужасная из всех монгольских дорог. По ней можно обычно проехать в любую погоду, даже в дождь. Дорога имеет 293 километра в длину. Жаргал знает каждую выбоину, каждый поворот, каждую канавку и каждый патруль, конечно. Он знает, на каких заправках бывает бензин и когда, сколько еще прослужит каждая из деталей его тридцатилетнего советского грузовика и где можно раздобыть запчасти.
Горизонт расширяется, горы расступаются, сглаживаются, и начинается степь. На обочине – одинокое дерево. На нем дорожный знак. Под ним пыльное кафе, которое закрылось в 1990-е годы. Бараки, в которых некогда размещалась советская дивизия во время маневров, пустуют. Все трубы и провода вырваны с мясом.
Солнце меняет положение. Облако принимает форму сурка. Жаргал вытирает пот со лба и закуривает китайскую сигарету. Он вспоминает, как в прошлом году канадец-автостопщик угостил его «Мальборо».
Гнедая лошадь стоит у обочины и смотрит на дорогу. Небесный сурок превратился в клапан двигателя. Поселок – вон за тем камнем. Не доезжая семидесяти километров до Даландзадгада есть камень, похожий на голову великана. Давным-давно один богатырь этим камнем раздавил голову гигантского змея. Небо к вечеру становится желтовато-зеленым. Прохладно. Жаргал опять закуривает. Пять лет назад как раз на этом самом спуске перевернулся грузовик с цистерной пропана. Говорят, до сих пор на дороге можно встретить охваченного пламенем шофера, который зовет на помощь, теперь уже бесполезную. Жаргал знал его. Не раз вместе выпивали в придорожных гостиницах.
Впереди зажигаются огни. Жаргал вспоминает лицо жены в тот день, когда родился их первенец. Вспоминает игрушечную козу, которую его тетушка, госпожа Энчбат, сшила из старых лоскутков для его маленькой дочери. Малышка еще не умеет говорить, а верхом скачет так, словно родилась в седле.
Вот чего я никогда не испытывал, так это гордости.
– Что-то ты никогда раньше не интересовался старыми легендами, – хмурит лоб высохший старик в военном кителе, – При русских легенды, сказки разные были запрещены. Всех пичкали только дребеденью про героев революции. Я тогда работал учителем. Слушай, а я тебе никогда не рассказывал, как к нам в школу приезжал Хорлогийн Чойбалсан? Сам президент?
– Пятнадцать минут назад рассказал, пердун безмозглый, – бормочет перепачканный мазутом собеседник.
В кафе работает радио, передают популярные песни на английском и японском. Четверо играют в шахматы, но правил не соблюдают – слишком пьяны.
– Если б я в классе начал рассказывать старые сказки, – продолжает старик, – меня тут же включили бы в черный список кандидатов на «перековку». Русские запретили даже Чингисхана – сказали, что он деятель эпохи феодализма. А сейчас в каждой обоссанной деревушке утверждают, что Чингисхан родился как раз возле их ручья.
– Все это очень интересно, – подаю реплику.
Жаргал истомился от скуки. Мне стоит больших усилий заставить его сидеть, слушать и не хамить.
– А историю про трех животных, которые думали о судьбе мира, ты не знаешь?
– Да давай я лучше расскажу тебе историю из моей жизни. Я тебе никогда не рассказывал, как к нам в школу приезжал Хорлогийн Чойбалсан? Сам президент? В большой черной машине. «ЗИЛ» называется. Я не прочь бы еще подзаправиться. А чего ты вдруг стал интересоваться легендами предков?
– Я куплю тебе еще порцию. Вот, смотри, какая большая… Сколько сала. Да это, понимаешь, из-за сына. Он не любит, когда я рассказываю одну и ту же сказку. Ты же знаешь детей, вечно им новенького подавай… Помню, когда сам был маленький, слышал легенду про трех животных, которые задумались о конце света…
Иссохший старик икает.
– У сказок нет будущего… Это прошлое. Пусть пылятся в музеях вместе с разными черепками. Сказкам нет места в наше славное время рыночной демократии.
Вялотекущая шахматная партия переходит в темпераментный эндшпиль. Игроки вскакивают с мест. Звенит разбитое окно.
– Так вот, он приехал на большой черной машине. С ним и охранники, и советники, и кагэбэшники. Учились в Москве.
Один пьяный шахматист с боевым кличем прыгает на стол. Другой, с родимым пятном во все лицо, разбивает шахматную доску об голову соперника. Я сдаюсь и разрешаю Жаргалу выйти.
Хранитель музея удивленно смотрит на нас с Жаргалом.
– Легенды?
– Да, – начинаю я.
Сотрудник музея разражается смехом, и я с трудом удерживаю Жаргала, чтоб он не выругался.
– Неужели кого-то интересуют старые монгольские легенды?
– А как же иначе? Ведь это наше культурное наследие, – поясняю я, – И потом, я не прошу, чтобы вы рассказывали мне легенды. Мне нужна информация о регионе их происхождения.
Молчание. Замечаю, что даже настенные часы не тикают – стоят.
– Жаргал Чиндзориг! – говорит хранитель, – Ты, наверное, перегрелся в своем грузовике. Или возле жены. Ты всегда был малый со странностями, но сейчас ты говоришь не то как старый псих, не то как турист.








