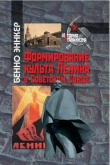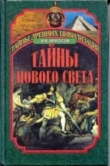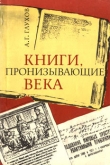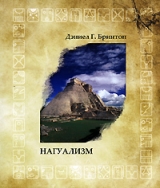
Текст книги "Нагуализм"
Автор книги: Дэниел Бринтон
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Превращение во вспышки света или огненные шары – о чем информаторы сообщают довольно часто, – является, быть может, самым необычным и удивительным проявлением сил американских аборигенов. В тексте Бринтона обращают на себя внимание два момента из обширного текста, принадлежащего епископу Чьяпаса – Нуньесу де ла Веге:
«Их признания помогли нам выявить многих, кто покорился Дьяволу в то время, когда он являлся им в облике парящего в воздухе огненного шара с хвостом, подобно комете.
… В настоящее время не все так покорны планам Дьявола, как раньше, но некоторые все еще столь тесно с ним связаны, что превращаются в тигров, львов, быков, во вспышки света и в огненные шары».
Эти замечания вызывают у объективного исследователя некоторое недоумение. Учитывая, что христианские миссионеры и подобные им информаторы ставили перед собой задачу доказать, что культура и религия американских индейцев является безусловно детищем Сатаны, а потому подлежит тотальному искоренению, способность превращаться во вспышки света и огненные шары представляется несколько странной. Если следовать европейской традиции «охоты на ведьм», ни то, ни другое не добавляет ничего особенно «сатанинского» в языческий культ американских индейцев, да и вообще не содержит ничего прагматического. Что делать сатанисту, превратившемуся в огненный шар? Зачем ему в него превращаться? Епископ, судя по всему, случайно столкнулся с реальным свидетельством, но не осознал его сокровенного смысла.
Конечно, и в христианской мифологии фигура главного Врага рода человеческого связана с огнем как с доминирующей стихией ада и преисподней. Таким образом, два момента в процессе превращения могут вызвать ассоциацию с дьявольской силой: метаморфоза (ибо всякое превращение человека в нечеловека манифестирует инфернальное, сатанинское начало) и огненная стихия (огненный шар, вспышка света), – что невольно обращает европейскую мысль к образам ада и адского воинства.
С другой стороны, если уж мы опираемся на христианскую демонологию, превращение в нечто огненное, по сути, приравнивает «сатаниста» (в данном случае, американского индейца) к одной из высших богопротивных сил – падшему ангелу, дьяволу и т. д. Согласно традиционным европейским представлениям, Сатана прежде всего – великий обманщик. Недаром одно из его имен – лукавый. Его задача – обольстить человека, посулив некие незначительные дары, вынудить его отказаться от христианской веры, в конечном итоге – дать ему как можно меньше и забрать самое драгоценное – бессмертную душу. Поэтому «сатанистам», равно ведьмам и колдунам, в Европе обычно приписывают хоть и поразительные, но какие-то «низкие» способности – повелевать разными вредоносными насекомыми, пресмыкающимися и земноводными, пить кровь, причинять вред полям и скоту, наводить порчу. Если же они могли исцелять больных, то в качестве оплаты якобы требовали отречения от веры, либо иного богопротивного действия.
И только американские колонисты и миссионеры стали регулярно ссылаться на удивительную способность индейцев-нагуалистов превращаться в огненный шар. В частности, об этом пишет непосредственно Д. Бринтон:
«Превращение в огненный шар было, как мы уже знаем, одним из высших достижений нагуалистов… Овладение этой стихией считалось высшим признаком мастерства».
Вряд ли миссионеры (и особенно инквизиторы), попав в Новый Свет, неожиданно обрели столь гибкое воображение и связали метаморфозу, огонь и вековечного врага своей веры. Д. Бринтон пытается объяснить сию странность, обращаясь к мифам иных народов: напоминает, что огонь людям принес Прометей, а индуисты поклонялись ведическому богу огня Агни… Все это как бы правильно, но не слишком убеждает. Ибо человек на протяжении своей тысячелетней истории поклонялся практически всем существующим в его мире стихиям.
Почему же именно огонь? Почему не земля, не облако или ветер, не река, наконец? Рассуждая о нагуалистском «поклонении» огню, автор упускает самое главное – только огонь из известных нам стихий способен трансформировать сущность, превращать ее: вещество – в раскаленную плазму, воду – в пар, плоть – в пепел и т. д. и т. п.
Иными словами, культ нагуализма – есть культ Трансформации. Даже в данном историко-религиоведческом докладе мы обнаруживаем ее как суть культа. Не в поклонении сущность месоамериканского нагуализма, а в превращении себя в нечто иное. Неудивительно, что важнейшим символом трансформации становится стихия Огня. Даже Солнце, которому поклонялись все народы Месоамерики, – это прежде всего источник Огня – преобразующей Силы, способной уничтожать и возрождать, свершать трансформацию от мертвого – к живому и наоборот. Именно потому древние ацтеки и майя вели счет «солнцам» как эпохам. Солнце рождает и уничтожает мир, когда срок его жизни истекает. После чего рождается новое солнце, а вслед за ним – новый мир людей.
Есть в работе Бринтона и немногочисленные попытки «христианизировать» нагуализм и тем самым как бы оправдать его. Однако выглядят они достаточно натянутыми. Например, упоминание о кресте св. Андрея – его, по мнению автора, в какой-то мере можно использовать «для обозначения ацтекской идеограммы «жизнь», которая указывает на иероглифы тонами и нагуаль – знак истинного происхождения, дня появления на свет, личного духа».
В результате планомерного и повсеместного истребления индейской культуры испанскими конкистадорами сегодня, мы вынуждены изучать великое наследие древних цивилизаций в виде неясных фрагментов предвзятых донесений шпионов инквизиции, преследовавших ересь на всей огромной территории Центральной Америки. Учитывая все вышесказанное, мы должны иметь ясное представление о реальной ситуации на американском континенте. Единственное государство, способное объединить разрозненные племена в этом регионе – империя Монтесумы – было уничтожено испанскими войсками в кратчайшие сроки. Цивилизация майя представляла собой нечто вроде совокупности полисов. Несмотря на то, что общепризнанным центром майянской культуры считался полуостров Юкатан, надо полагать, их этнос никогда не имел полноценного государства. Отсюда – единой разработанной религии и идеологии. И не могла цивилизация майя оказать организованного сопротивления испанскому вторжению.
Таким образом, перед любым исследователем, как Бринтоном, так и современным американистом, предстает обширное поле религиозных и мистикомагических вариаций, чье единство опирается не столько на общую доктрину или метафизические положения, сколько на близость языков, которыми пользовались эти народы и племена. Лингвистика объединяла месоамериканских шаманов, возможно, в большей степени, чем мифология нагуа, майя, сапотеков, киче и др. Собственно, то, что несколько столетий назад могло сплотить население Месоамерики и превратить сопротивление Конкисте в настоящую войну.
Что же заставляет нас при изучении столь разнообразного этнического и религиозного материала говорить о неком едином культе или мировоззрении под названием нагуализм?
Опираясь на свои лингвистические штудии, Бринтон высказывает гипотезу, вполне резонную и на сегодняшний день: слово нагуаль, встречающееся практически во всех языках Месоамерики, происходит от древнего корня на (знать). Сразу скажем, – имеется в виду не то обыденное, прагматическое знание, к которому привыкли обращаться наши современники.
«Нагуаль (nahual) означает знание, прежде всего, знание мистическое, Гнозис, знание скрытых и тайных явлений природы. Неразвитые умы очень легко путают это понятие с колдовством и магией».
… философствующий аббат [Брассер] переводит «naual» английским словосочетанием «знать все».
Если провести языковедческое сравнение – как используется слово нагуаль и исходный корень на в Месоамерике, – обнаружим, что глубинная семантика данного слова и образующего его корня всегда восходит к представлению о некоем тайном знании, закрытом для непосвященных. Более того, мы увидим, что языковые коннотации – «пугающий», «обманывающий», «старший и уважаемый», тем паче «злобный» или «вредный» относятся к более поздней эпохе. Изначально нагуаль связан лишь с двумя понятиями — непостижимое (тайное) и сила. Семантическая реконструкция позволяет определить исходное единство значений этого таинственного слова.
Те же лингвистические и семантические процессы можно обнаружить при изучении множества племенных вариаций слова тональ (тоналли). Несмотря на искажения, путаницу, переносы значений слов, так или иначе, тональ всегда имеет отношение к человеческой личности, к судьбе и характеру. Недаром во многих упомянутых языках тоналем обозначают день рождения ребенка. Иными словами, та уникальная конфигурация психических сил, которая возникает в личности и определяет в дальнейшем ее судьбу, является ее тоналем. Неискушенные в месоамериканской эзотерике шаманы любое несчастье или болезнь, приключившиеся с человеком, истолковывают как «потерю его тоналя». Бринтон упоминает об обряде возвращения тоналя, предназначенном как раз для таких случаев (тональпоуке).
Таким образом, мы видим, что два фундаментальных понятия нагуализма в системе эзотерического знания индейцев носят универсальный характер – вопреки искажениям информаторов, в разных источниках и областях.
В мультикультурном пространстве Центральной Америки слишком много различий. Зато сохранились малые следы общих корней, единой культуры, вытоптанной и почти уничтоженной конкистадорами. Там, в этих «следах», – только намеки, слова, которые несколько веков назад имели значение для древних жрецов и шаманов, а ныне – утратили большую часть смысла.
Что такое «нагуаль»? Видимо, нечто, связанное с волшебством, магией, силой и необычностью. Многие шаманы используют это слово, и каждый вкладывает в него свое значение. Разумеется, проще всего считать, что «нагуаль» – это некое существо, наделенное волшебной силой. Если рассуждать таким незатейливым образом, то очевидно, что у каждого племени – свой нагуаль (вероятнее всего, животное, покровительствующее племени, или животное-«предок» и т. п.).
Что такое «тональ» в описании мира этих деградировавших латиноамериканских племен? Они смутно помнят, что сила «тоналя» – в обыденности, в поддержании порядка, чтобы боги не слишком «трясли землю» и вообще не особо усердствовали в чудотворении. Совершенно логично, что «тональ» в их сознании становится чем-то вроде оберега, чем-то стабильным и как бы «обычным». Чуть раньше нагуаские колдуны говорили: «тональ – это наше лицо». В том смысле, что тональ поддерживает личность и обеспечивает нормальные отношения среди человеческого сообщества. У нынешнего шамана из крошечной деревушки юга Мексики «тоналем» может быть глиняная фигурка – он дует на нее, поглаживает, разговаривает с ней, просит порядка, хорошей погоды или чтобы выбрали самого сильного и умного воина вождем племени. И этого достаточно!
Потому что значения слов меняются, а истинная пара остается всегда. Всегда есть ветер Непостижимого, от которого можно ждать самых невероятных чудес, потрясений, и Сила, удерживающая предметы в удобном для нас порядке.
Свой доклад Д. Бринтон заключает следующим размышлением:
«Вывод, к которому приводит нас это исследование нагуализма, заключается в следующем: это была не просто вера в личного духа-хранителя, как некоторые утверждают: не только сохранившиеся фрагменты древнего язычества, более или менее разбавленного христианскими доктринами. Прежде и более всего, это была могущественная тайная организация, распространившаяся на обширной территории, которая вовлекала в себя представителей других языков и культур, связанных вместе мистическими обрядами, колдовскими силами и оккультными учениями. Но более всего единым сильным чувством – ненавистью к белым, и неизменной целью – уничтожить их, а вместе с ними их власть и навязанную ими религию».
Его заключение, пожалуй, слишком конспирологично и в какой-то степени является преувеличением. Но мы действительно имеем довольно смутное представление о подлинной роли нагуалистского учения в истории Америки как до Конкисты, так и после нее. Доклад Д. Бринтона, опубликованный более ста лет назад, до сих пор не устарел. Ибо его продолжают цитировать на антропологических форумах, посвященных культуре Месоамерики, зачастую игнорируя многочисленные противоречия и недочеты. Исследования подобного рода никогда не утратят своей актуальности.
Ведь нагуализм никогда не исчезал полностью и не мог быть вытеснен испанскими завоевателями. Его сила и очарование, его духовная мощь были слишком велики. Так что верно отметил американский историк Э.Г. Сквайер: «Среди правящих классов и жрецов полуцивилизованной американской нации во все времена продолжала существовать таинственная группировка, тайная организация… До настоящего времени им приписывают влияние на те спонтанные вспышки сопротивления аборигенов Мексики и Центральной Америки, которые не раз уже угрожали стабильности испанского правления». Бринтон добавляет: «Эта таинственная группировка, эта тайная организация, и есть нагуализм».
Современный нагуализм. Теория
Трудно сравнивать современный нагуализм кастанедовского толка, формы его нынешнего развития (как, например, нагуализм Нового Цикла – проект, предложенный мною для дальнейшей работы в этом направлении), и примитивный, полумифологический нагуализм, описанный Д. Бринтоном.
С одной стороны, в этих явлениях слишком много различий, с другой – наблюдается некое подспудное сходство. Невольно думается, что Дэниел Бринтон описал либо деградацию подлинного нагуализма, либо его простонародную версию – ту, что популярна среди индейцев, далеких от всяких духовных учений. Явно существует нечто более интересное, чем «верования», описанные Бринтоном, и явно это нечто было искажено и упрощено, о чем мы уже говорили выше. И чрезмерный акцент на использовании психоактивных растений, и астрологические ассоциации, нарочитое обилие превращений в животных, змей, птиц, «околдовывание» простодушных месоамериканцев, и, вдобавок, разумеется, – вопиющее идолопоклонство, непристойные церемонии, переходящие в оргии, неотличимые от европейских ведьминских шабашей. И почему все это доколумбово религиозное движение так подозрительно напоминает деятельность, приписанную в эпоху средневековья самой обычной европейской магии и оккультизму? Ответ мы знаем, ибо он звучал уже тысячи раз.
Так или иначе, в свете антропологического доклада Бринтона нагуализм, описанный Кастанедой, несмотря на отсутствие фактических доказательств его истинности, оказывается очень похож на фрагменты того древнего учения, о котором столько говорили разные племена Центральной и Латинской Америки. Он не настолько совершенен, как нам бы хотелось (ибо опирается на культуру, не знавшую мощного метафизического взлета вроде индийского или китайского расцвета мыслительной культуры), но не настолько дик и примитивен, как хотелось бы христианским миссионерам.
Благодаря кастанедовским «отчетам» читатель ознакомился не с примитивными верованиями индейцев, а с концепцией, упорядоченность которой по своей системности и разработанности, безусловно, приближается к духовным учениям Индостана и древнего Китая.
Концепция эта, однако, характеризуется специфической противоречивостью. С одной стороны, нагуализм – это магия. То есть, прежде всего, совокупность практических навыков и иррациональных знаний, которые обретают подобие дискурса, рефлексии только в «сказках шаманов», переполненных антропоморфными аналогиями и своеобразными метафорами. Превращая нагуализм в слова, мы, так или иначе, лишаем его силы, ибо превращаем нагуаль (Непостижимое. Неизреченное) в более или менее изощренную конструкцию, которая возможна только на территории «острова тональ» – на территории «описания мира», основанного на привычных вещах и мыслительных стереотипах, а потому преграждающего путь к истинной магии нагуаля.
С другой стороны, мы давно утратили способность воспринимать Непостижимое и Неизреченное без соответствующей концептуальной «оболочки». Иными словами, если мы не пользуемся средствами тоналя, нагуаль совершенно недостижим. Он остается незримым и неощутимым присутствием «на кончиках пальцев», и мы не знаем, как осознать его, – даже не во всей целостности, а хотя бы толику его запредельного сияния.
В чем же фундаментальное противоречие? Практическое освоение нагуаля доступно лишь тем, кто научился «забывать», отключать собственный тональ. А система разработки методов «забвения» тоналя предусматривает (а) глубокое и систематическое изучение аппарата тоналя его же собственными методами; (б) создание (опять же, методами тоналя) комплексной методологии, куда будут входить разнообразные приемы «отключения» тоналя и его «реанимации».
Для начала обратимся к теоретической модели мира в современном нагуализме.
Первым и неустранимым ни в какой нагуалистской версии постулатом является фундаментальная диада («истинная пара», как сказано у Кастанеды) тоналя и нагуаля. Как уже было замечено, даже у Д. Бринтона мы можем проследить отголоски этой древнейшей оппозиции. Тональ защищает привычную жизнь человека, нагуаль – оставляет его наедине с Непостижимым, странным и, безусловно, опасным.
И все же «нагуаль» – двойник человека, его «вторая сторона», преисполненная знаний, мудрости, озарений. Тональ же, как его ни толкуй, – в основе своей есть повторение. Это путь человека племени, человека более или менее развитого социума, путь «хранителя традиции». Его область — область известного. Если мы понимаем «тональ» в духе народных верований индейских племен, то можем вообразить себе этакого языческого «ангела-хранителя», который помогает охотникам добывать зверя, рыбакам – ловить рыбу, женщинам – находить себе хороших мужей и рожать от них здоровых детей. Чудеса такого тоналя состоят в усилении порядка, в исполнении традиции, какой бы сферы эта традиция ни касалась.
Потому и сказано, что тональ – это «описание мира». Если мужчина должен быть храбрым воином, искусным охотником, сильным и плодовитым любовником, то он обращается к собственному тоналю (который вполне может быть воображаемым помощником или каменным талисманом). Он «усиливает» свой тональ специальным намерением, совершенствует его. То же касается женщины или ребенка. Если женщина хочет иметь детей от своего мужчины, она просит об этом своего тоналя.
Если же знахарь не может исцелить больного; или случается засуха, извержение вулкана, другие непредвиденные бедствия нечеловеческого происхождения; если какой-то индеец хочет узнать, не покидая селения, что происходит на большом расстоянии, – тогда обращаются к опасному, непредсказуемому нагуалю – с помощью собственной силы или искусного шамана.
Размышляя над концепциями тоналя и нагуаля как философскими категориями, мы приходим к тому, что у Кастанеды названо «объяснением магов». Не имеется фактических доказательств того, что Карлос Кастанеда действительно получил это объяснение от наследника древней шаманской линии дона Хуана Матуса. Но стоит допустить, что испанская Конкиста не успела истребить всех последователей толтекско-ацтекской философской школы, – какова бы она ни была, – и всем нам остается неуверенно повторять: «Да, возможно… Почему бы и нет?»
Знание, оставленное в книгах Кастанеды, не противоречит известным академической антропологии данным. Некоторых специалистов, очарованных образным миром индейского мифа, возмущает излишняя, как им кажется, философизация древнеиндейских представлений. Такие ученые любят ссылаться на «подозрительное сходство» ряда нагуалистских идей, изложенных Кастанедой, и элементов индо-буддистской, даосской, даже конфуцианской доктрины. Среди американистов бытует, в частности, мнение, что работы Кастанеды – художественный вымысел, и ничего подобного в духовной культуре древнеамериканских цивилизаций никогда не было. Убежденный скептик-антрополог никогда не признается, что современная наука имеет слишком мало фактических оснований для столь категоричных выводов. Воинственные конкистадоры, фанатичные миссионеры и католическое духовенство, вооруженное институтом инквизиции, на протяжении нескольких веков уничтожали покоренную цивилизацию и оставили слишком мало материала для серьезного антропологического и культурологического исследования.
Нередко американист, сталкивающийся впервые с работами Кастанеды, проявляет скептицизм иного рода. А именно, многие кастанедовские идеи, если рассматривать их по отдельности, можно найти в самых разных духовных учениях мира – в Индии, Китае, Японии и т. п. Подобный скептицизм не имеет серьезных оснований. Любому исследователю человеческой культуры известно, что духовные поиски на разных континентах и в самые разные эпохи приводят, как правило, к весьма схожим результатам. Мы знаем тысячи народов и племен, часть которых прошла свой исторический путь вполне изолированно от иных культур, и все же добытые ими знания нередко укладываются в ограниченное число мыслительных парадигм и практических методологий.
Нам известна древняя и самобытная парадигма, которую можно назвать «путь Индостана». К ней относятся все духовные учение индо-буддистского направления. К ней примыкает очень близкая «тибетско-непальская парадигма». Севернее, на необозримых просторах Поднебесной, оформилась великая «китайская парадигма» (конфуцианство, даосизм, чань-буддизм и дальневосточные версии чань, принятые в Корее и Японии – дзэн). Иногда говорят о «вавилонско-шумерской» парадигме, но следы ее немногочисленны, кроме известного всем зороастризма.
Духовная парадигма древнеегипетского царства, к сожалению, также не сохранилась. Можно бесконечно рассуждать о мифологии, о ритуалах и поразительной архитектуре – но все перечисленное не имеет отношения к нашей теме.
Мир семитских племен подарил нам «авраамитскую парадигму» с ее монотеизмом и доминирующей версией – христианством. Под ее влиянием арабский мир создал собственную вариацию – «исмаилитскую (исламскую) парадигму».
Имеется сообщество «африканских религий», однако изобилие племен и разнообразие местной природы мешают исследователю прийти к выводу: это парадигма или нет?
По сей день существует смутная и загадочная область – Латинская Америка. Там приняли христианство, не забывают индейские верования, активно эксплуатируют верования африканские… Но можно ли назвать такую эклектику парадигмой? На сей счет, есть серьезные сомнения.
Другая «смутная область» – Океания, весьма любопытная для антропологов, но в рамках нашего рассуждения – также неопределенная.
Итак, из девяти продуктов духовного развития различных этносов мы, по сути, можем говорить только о пяти мировоззренческих парадигмах, созданных на протяжении известной нам истории. Антропология с удовольствием занимается частностями, непрерывно доказывая всему просвещенному миру удивительное разнообразие культур, но весьма редко при этом ссылается на исключительную оригинальность того или иного подхода в нашем духовном пространстве. Обычно аргументы в стиле «что-то похожее я читал у китайцев, индусов и т. п.» используют в тех случаях, когда больше нечего сказать.
Если же учесть, что христианство, как и ислам, по ряду теоретических и технологических причин, подобно всей семитской парадигме с ее монотеизмом, принципиально не сочетается с нагуализмом, то среди относительно приемлемых моделей духовного поиска остается индо-буддистская парадигма, включая Тибет и Непал, китайская, и смутная эклектика Латинской Америки, которою следует называть не парадигмой, а скорее, «культурно-этническим пространством».
Как утверждает антропология, коренное население Америки относится к монголоидной расе. Рискнем предположить, что генетическое родство с китайцами и японцами могло обусловить некоторое сходство мышления и, как следствие, определить характер самых ранних форм культуры индейцев Месоамерики. Конечно, мы говорим об определенном типе экзистенциального мышления – глубинного мышления человека о своей участи и роли в открывшемся восприятию мироздании. Того типа мышления, которое обусловливает специфику избранного «духовного пути».
Интуитивно мы с легкостью ощущаем потаенное сходство путей Дао и Нагуаля. Более того, в них обоих мы открываем значительный пласт древнейшей диалектики, которая, с одной стороны, акцентирует отличия «карты» от «территории»; с другой – настойчиво демонстрирует колоссальную дистанцию между Именем и Реальностью, между неизреченным объектом и бесконечным в своих познавательных и перцептивных возможностях субъектом. Этот путь, минуя многовековые блуждания европейских философов, приводит к великому противостоянию – «Я» и «вещь-в-себе». Могучее прозрение Канта с его чеканными формулировками наступит через только две тысячи лет после откровений китайских мудрецов.
Сегодняшний читатель может размышлять над той же кантовской диадой, сформулированной на ином языке описания «простодушным» Лао-цзы и древнеамериканскими нагуалистами.
И древняя цивилизация Китая, и древняя цивилизация месоамериканцев рано узнали на себе прелести социальной жизни. Они искали путь, как прожить в социуме, но не утратить свой шанс освободиться от него. Если старый Китай разделился на конфуцианство и даосизм, так как не нашел внутреннего единства мировоззрения, то древние индейские маги боролись, судя по всему, вплоть до прихода испанской Конкисты.
Они объединили в своем поиске два начала «социального человека» – лицо и сердце. Поскольку в нагуализме изначально доминировала, торжествовала двойственность в описании такого сложного существа, как человек, возможно старым индейским магам и шаманам было проще. Ибо лицо (социальная маска, социальное поведение и правила) без труда ассоциировалось с тоналем, а сердце (и-олли, «тот, чья сущность движение»), где рождаются намерения и желания, вовсе не обусловленные автоматизированным обществом, – конечно, ассоциировалось с нагуалем.
Соединить эти две силы, единые в корне своем, древним нагуалистам должно было казаться процессом естественным, простым и необходимым. И они соединились – не в полевых заметках университетских антропологов, а в волшебном эпосе доктора Карлоса Кастанеды.
Так в нагуализме человек стал целостным. Он приобрел перспективу объединить две стороны, чуждые друг другу и устроенные принципиально по-разному. Он приобрел шанс обрести свободу. Таков подлинный нагуализм. Он метафизичен и философичен, и сказать об этом необходимо.
Принимая в качестве повсеместного фундамента бытия некую реальность, исполненную безличной силы и не подчиняющуюся законам, установленным для окружающего поля, – так называемому «перцептивному договору» (конвенциональности), где указано, что и как воспринимать, что не воспринимать ни в каком случае, и что воспринимать в отдельно оговоренных случаях, – мы неминуемо превращаем нагуализм в «науку об осознании». Причем, если саму «науку» мы можем постичь и даже формализовать определенным способом, то практическое применение данной «науки» (которое порой именуют магией) на деле может быть только «искусством». Иными словами, это – специфическое мастерство, которому можно научить лишь до какого-то предела. «Искусство» начинается там, где исчезают способы обучения. Разумеется, это зависит не только от качества изучаемого навыка, но и от уровня и опытности учителя.
И все же – если мы говорим об искусстве, какого бы великолепного учителя мы ни нашли, наступит пугающий момент «освобождения» от учебы – тот самый момент, когда законы, алгоритмы, аналогии, даже легенды и притчи больше ничего не говорят ученику. Оказавшись лицом к лицу с нагуалем, Непостижимым и Неизреченным истоком всей данной ему реальности, нагуалист может опираться только на себя – на свой талант, на свое «искусство осознания», способность чувствовать и следовать интуиции. Он постиг «науку», и теперь имеет дело с непредсказуемым даром Силы, со своим личным «искусством осознавать». Об искусстве мало, что можно сказать, и поэтому я почтительно замолкаю.
Главное содержание теоретического наследия нагуалистов – это, конечно же, «наука об осознании». Поскольку осознание – очень тонкий и неуловимый предмет, нагуализм исследует его через две психические способности человека, которые академическая наука традиционно называет «высшими» – через внимание и восприятие.
Прежде всего, надо отметить, что в современном нагуализме обе эти функции психического аппарата крайне важны и (что особенно следует отметить) рассматриваются как активные, то есть, самостоятельно действующие и воздействующие на окружающий мир. Классическая европейская философия еще до зарождения психологической науки сформировала устойчивое представление о некой пассивности основного массива психических реакций и процессов.
Иными словами, психология развивалась под влиянием сильного убеждения – воспринимая мир, мы всего лишь его «отражаем»; фокусируя внимание на объекты мира, мы всего лишь следуем за избранными потоками сигналов, поступающих снаружи. Мир активен, мы – пассивны. Любая мысль о некоем непосредственном воздействии психического процесса (воли, намерения, внимания, восприятия) на внешний мир почти мгновенно признавалась ересью и объявлялась «паранаукой» (чаще всего, разумеется, «парапсихологией»).
В философии подобные идеи рассматривались как идеалистические, метафизические, даже солипсистские. В религии – оккультные, мистические, эзотерические. Только индуисты и китайцы, как правило, соглашались с подобными заявлениями, полагая их очередным доказательством истинности той или иной ориентальной доктрины.
Современный нагуализм не имеет отношения к религии. Мы даже не говорим о философской доктрине или метафизической концепции. Нагуализм как теория энергетического метаболизма и трансформации человека – предельно абстрактен. Его намерение прагматично и отвлечено от любой метафизики, независимо от того, имеет ли метафизический концепт религиозную окраску.
В центре нагуалистского рассмотрения находится некий субъект (наблюдатель, восприниматель) с присущим ему комплексом психоэнергетических автоматизмов, стереотипов, и внешнее поле (которое принято считать Реальностью, обладающей огромным энергетическим потенциалом и существующей независимо от субъекта). Между субъектом и Реальностью, конечно, имеется связь – возможно, квантового характера («наблюдатель влияет на наблюдаемое», и наоборот). Как правило, связь между субъектом и полем слабо проявлена. Она существует, скорее, потенциально, поскольку наше осознание замкнуто на себе, следует привычному порядку психической динамики, сосредоточенной на императивной дихотомии «внешнее – внутреннее», а потому почти не чувствует Реальности – энергетического океана, породившего нас и непрерывно продолжающего питать наше тело и наше сознание.