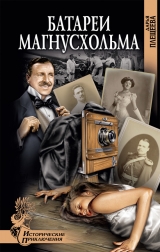
Текст книги "Батареи Магнусхольма"
Автор книги: Дарья Плещеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава седьмая
Конечно же в Лабрюйеровой жизни такое случалось – в бытность сперва полицейским агентом, потом инспектором Сыскной полиции. Когда охотишься за воровской шайкой или фальшивомонетчиками, вполне можешь оказаться не охотником, а добычей, чаще всего – ненадолго, но кое-кому из товарищей-агентов сильно не повезло…
Такое предупреждение в то время прозвучало бы с укором: что ж ты, растяпа, не заметил слежки?
Но «то время» сменилось «этим временем» – тогда Лабрюйер не нанимался служить в контрразведке.
Он чуть было не выпалил: кто следит?!
Но Каролина за ним наблюдала – и лучше было ее такой новостью пока не смущать. Это мог оказаться всего лишь кто-то из «крестников» – мошенников, с легкой руки Лабрюйера много лет назад оказавшихся за решеткой и теперь процветающих на воле.
– Как бы нам встретиться? – этот ответ Янтовскому прозвучал, кажется, спокойно и даже безразлично.
– Я пришлю тебе билеты в кинематограф. Дело, кажется, серьезное – к тебе двух топтунов приставили. Настоящих. Куда доставить билеты?
Лабрюйер задумался. Два топтуна – это еще не значит, что их только двое… И топтун – это мастер своего дела, который трудится не из любви к искусству, а за деньги для нанимателя.
– Может, мне в управление прийти?
– Я одного из них узнал – он на нас пару лет назад работал. Так что во избежание…
– Понятно. Может, наши что-то проверяют?
– Может, и так. Ну так куда слать билеты?
– Да прямо ко мне. Есть у тебя дама сердца? Ну так пусть принесет, а я ей бесплатно сделаю фотографические карточки.
Янтовский рассмеялся.
– Я сестру пришлю. Ей ни в одном ателье не могут угодить. Ты постарайся. Ну, падам до ног!
Лабрюйер повесил трубку и крепко задумался.
Кому и на кой черт он понадобился?
Вряд ли кто заинтересовался господином Гроссмайстером и даже господином Лабрюйером.
Но вдруг – Леопардом?
Тогда все-таки придется обрадовать Каролину…
Билеты в «Гранд-кино», что на Романовской, принесла прехорошенькая молодая дама – фотографировать такую одно удовольствие. Каролина взялась за дело с большим воодушевлением, а потом уговорилась с сестрицей Янтовского о совместном походе в знаменитую кондитерскую при ресторане Отто Шварца – поесть маленьких и безумно вкусных штопкюхенов со взбитыми сливками.
Фильм явно выбирала дама – это была «Бездна» с Астой Нильсен, душераздирающая драма, в финале которой героиня насаживала на кинжал неверного любовника. Лабрюйер слыхал, что рыдающих зрительниц под руки выводили из зала.
Он шел на Романовскую через Александро-Невский храм – пусть топтуны поломают головы! В храме он потолковал с женщиной, состоящей при свечном ящике, с молодым батюшкой, недавним выпускником семинарии, спросил почтенного ветерана про образ Николая-угодника, оставил на подоконнике завалявшуюся в кармане бумажку – это была записка от фрау Вальдорф о необходимости утеплить к зиме окна. Выйдя из храма, он остановил ормана и укатил к кинематографу, оставив топтунов разбираться с бумажкой.
Янтовский ждал в фойе, сильно смахивая на петуха в курятнике: посмотреть кровавую драму пришли главным образом женщины. В зале, под аккорды тапера, почти не глядя на экран, они и побеседовали.
– Ну, слушай, – шептал Янтовский. – Я в тот день прогулялся до Александровской. Линдер просил заглянуть во «Франкфурт-на-Майне», полюбопытствовать насчет номеров, где играют по большой. И я потом видел, как ты неведомо откуда возвращаешься по Романовской. Я встал на углу, возле нищих, понаблюдал. Они очень толково вели тебя вдвоем. А судя по тому, как возле перекрестка отстали – уже знают, где ты живешь. То есть не первый день за тобой таскаются. Если бы у меня был маленький ручной фотоаппарат, знаешь, я видел такой, называется «Атом», я бы их для тебя заснял.
– Вряд ли. При съемке важна выдержка, это я тебе потом объясню…
– Ну, ладно. Один – ты его, может, даже помнишь. По бумагам проходил как «Пуйка», он у Линдера был информатором и не только. Еще при господине Кошко его использовали. Щупленький, как парнишка, а лет за тридцать, лицо маленькое, мордочка остренькая, похож на щипача, прижмется к тебе в толпе – и уходит с твоим бумажником.
– А второй?
– Второй покрупнее, одет как рабочий – хорошие сапоги, тужурка, кепка. Тужурка вроде бы черная или темно-синяя. Волосы, сколько можно разобрать, очень коротко стрижены. А Пуйка – в пальтишке, явно с чужого плеча, в котелке, с тросточкой.
– Понятно. Значит, следят за ателье…
– Да, за ателье и за тобой.
– Может, все-таки мазурики? – в голосе у Лабрюйера прозвучала неожиданная для Янтовского надежда.
– Может, и они, только на кой ляд им твои фальшивые пальмы и чучела? Ты ведь не такие деньги зарабатываешь, чтобы ради них ателье грабить. Хотя для Пуйки и это – сокровища Голконды, но тот, кто их нанял, явно располагает средствами… Ну, я предупредил, а ты – как знаешь.
– Дженкуе бардзо, пан Янтовски…
Они некоторое время молча смотрели на экран, где металась в безмолвном отчаянии Аста Нильсен. Потом Янтовский, решив, что любовная драма – напрасная трата времени, встал и вышел, не дожидаясь душераздирающей сцены убийства. Пять минут спустя вышел и Лабрюйер.
Он шел в фотографическое заведение очень задумчивый. Похоже, начинались события, о которых его предупреждали, когда он из упрямства и желания перещеголять Аякса Саламинского поехал наниматься агентом в контрразведку.
– Чего-то такого следовало ожидать, – сказала Каролина, узнав про топтунов. – Пойду покурю, подумаю, что тут можно сделать… и какая от них, мерзавцев, возможна польза… Говорите, одного вы можете знать в лицо?
– Да, я даже припоминаю его образину. У полицейских инспекторов и агентов часто бывают осведомители, которых они держат в секрете даже от сослуживцев. Как говорится, что знают трое – знает и свинья.
– Не знала такой поговорки… душка…
– Нужно связаться с начальством.
– Это – само собой. А камера «Атом» у меня в багаже имеется. Где Петька?
– На что он вам?
– Буду учить работать с «Атомом». Парнишка он неглупый, быстро все поймет. Если топтуны следят за нашим заведением хотя бы три дня, то они и меня заметили. А Петька приходит и уходит через черный ход. И кто подумает, что у мальчишки может быть спрятана на груди фотокамера?
– Сейчас за ним схожу.
Пича, узнав, что будет выслеживать воров, которые покушаются на «Рижскую фотографию господина Лабрюйера», пришел в восторг и даже был готов изничтожить их приемами штыкового боя.
На следующий день Лабрюйер пешком, чтобы топтуны хорошенько прогулялись, отправился в Московской форштадт – на авось, не слишком надеясь застать дома выпивоху Аннушку. Каролина с Пичей вышли заранее, поехали трамваем и подкараулили Лабрюйера в назначенном месте – у виадука на Мельничной улице.
Лабрюйер не знал, где они спрятались, да и не желал знать. Пройдя под виадуком и оказавшись в форштадте, он убедился, что выпивохи дома все еще нет, и пошел в сторону вокзала. Оттуда он взял ормана и поспешил в фотографическое заведение – там оставался один Ян, и, хотя Каролина кое-чему его уже научила, сам бы он со съемкой группы или ребенка не справился.
В заведении ждала дама. Она сидела в кресле и листала альбом с лучшими работами Каролины. Увидев входящего Лабрюйера, она встала и сделала шаг навстречу, протягивая руку для поцелуя.
– Фрау Шварцвальд? – Лабрюйер не на шутку удивился. – Что же вы не предупредили? Я бы ждал вас. Добрый день!
– Добрый день, – ответила артистка, явно очень взволнованная. – Я хотела сперва телефонировать из дирекции, но там столько народа… Я спросила Иоганна, он дал адрес… Иоганна Краузе, господин Лабрюйер, он от вашего ателье в восторге!
Лабрюйер вспомнил молодого атлета и усмехнулся, потому что память тут же подсунула брюзгливую физиономию эмансипэ, вынужденной фотографировать полуголых мужчин.
– Я тронут. Чем могу быть вам полезен, фрау Шварцвальд?
– Господин Лабрюйер, фамилия «Шварцвальд» досталась мне в наследство от покойного мужа, отказаться я от нее не могу – меня все импрессарио знают под этой фамилией, публика тоже… Но я ее ненавижу! – воскликнула артистка. – Прошу вас, называйте меня просто Бертой. Меня так все в цирке зовут. Мне это будет приятно…
– Хорошо, фрау Берта.
– Пожалуйста, помогите мне снять шляпу. Я надевала ее в спешке, булавка попала за ухо, это так неудобно…
Давно, очень давно Лабрюйер имел дело с дамскими шляпами. Он так и не понял, в чем заключалась его помощь; вроде всего лишь придержал поля… Это было довольно сложное сооружение, широкие поля из черного фетра, поверх них – целая гармошка из заутюженного лилового атласа, если растянуть ее – аршина четыре, не меньше, и складки этой гармошки были прихвачены розой, искусно сплетенной из черной соломки.
Потом фрау Берта расстегнула лиловое бархатное пальто, нарочито широкое и бесформенное – последняя парижская мода, однако! – с огромными пуговицами и явила взорам тонкий стан, прелесть которого подчеркивало облегающее черное платье с чуть завышенной талией.
Сейчас, накрашенная очень умеренно и одетая, как положено приличной даме, она понравилась Лабрюйеру куда больше, чем в своем ярком цирковом наряде. К тому же тогда, в цирке, от нее не то что пахло, а разило гримом. Сейчас Лабрюйер ощутил тонкий аромат – кажется, персидской сирени…
– Я, кажется, совсем растрепана, – сказала фрау Берта, трогая пышные тускло-рыжие волосы, уложенные в бандо. – Я так торопилась… Прическа еле держится…
Отдав пальто Лабрюйеру, она опять села за круглый столик. Но сейчас тяжелое пальто не мешало ей, и она закинула ногу на ногу. Поза была привычная, довольно острое колено натянуто черную ткань, и в позе была та самая гармония, что у всадницы, сидящей в дамском седле. Лабрюйер, заинтригованный таким началом, сел напротив.
– Видите ли, господин Лабрюйер, у меня к вам просьба. Я хочу сделать доброе дело, – сказала Берта. – Сейчас в Риге только и разговоров, что про зоологический сад. Все жертвуют на него, кто сколько может, есть богатые люди, которые собираются за свой счет купить животных. А кое-кто даже помещения для них строит. Я узнавала – еще в августе открыли павильон для хищных птиц, на него деньги пожертвовал советник коммерции господин Гусев. А павильон для обезьян оплатил советник коммерции господин Фогельзанг!
– Но это же довольно большие деньги. И вы вряд ли представляете себе, что такое строительство, – поняв, что дело пахнет артистическими безумствами, заметил Лабрюйер.
– Нет, представляю. Но я тоже хочу помочь! У меня, видите ли, полсотни голубей. Я их приобретаю, приобретаю, остановиться не могу. А не все годятся для обучения. У меня есть птицы породистые, дорогие, очень красивые, но совершенно бестолковые! И я решила подарить их зоологическому саду вместе с их домиком, к которому они привыкли. Более того – я туда отправлю на несколько дней свою Эмму, чтобы она поучила служителей, как обращаться с породистыми птицами.
– Это похвально, а чем я могу помочь?
– Я артистка, господин Лабрюйер, и всегда нуждаюсь в рекламе. Если бы вы сделали хорошие фотокарточки – как я передаю голубей дирекции зоологического сада, как учу обращению с ними… Понимаете, эти репортеры!.. Они всегда поймают тебя в ту минуту, когда ты зеваешь или морщишься! А ваша фотографесса – мне ее все очень хватили! Она сделала такие карточки наших борцов, что публика визжит от восторга! Я бы надела парижское платье, я бы позировала, как полагается… вы ведь поняли меня?..
– Естественно, сочту за честь помочь, – усмехнулся Лабрюйер.
Но Берта, которой полагалось бы сейчас поблагодарить и уйти, явно собиралась еще о чем-то попросить.
– Господин Лабрюйер… вы ведь служили в рижской полиции?.. – неуверенно спросила она.
– Да, но очень давно.
– Вы взялись найти отравителя собачек… это потому, что вам понравилась мадмуазель Мари?..
– Нет, просто собачек жалко.
– Я знаю, вы были на конюшне, говорили с конюхами… я боюсь, господин Лабрюйер! Я боюсь, что буду главной подозреваемой!
– Но почему?
– Потому что… все дело в поклоннике! Мари считает будто она отбила у меня поклонника! Того самого, который обещал подарить ей других собачек! Да, я была с ним два раза у Отто Шварца, и что же? Он всего лишь угостил меня пирожными с кофе. Обычная вежливость, господин Лабрюйер, клянусь, между нами ничего не было! А она уверена, что я попытаюсь его вернуть! И что я собираюсь ей мстить! Это же просто смешно! Кто я – и кто она? Господин Лабрюйер, знаете, что я вам скажу? Она сама отравила своих собак!
– Как это – сама?!
Это была уж вовсе неожиданная новость.
– Очень просто! Мы, цирковые, ведь видим, кто сам дрессирует своих животных, а кто покупает уже выдрессированных. Собаки не слушались ее на манеже, понимаете? Она с ними не работала! Ей не было жаль их отравить – она их не знала и не любила! Она сделает все, чтобы следы привели ко мне! Вы ведь уже знаете, что в шорной стояла банка с крысиным ядом? А я постоянно заглядывала в шорную к Орлову. Я приносила туда цветы и украшения для сбруи, когда его не было, просто оставляла на полке. И меня там многие видели. Теперь понимаете? Она – бедная, несчастная, ее лишили собачек, этот толстый дурак обещал подарить ей королевских пуделей! А я – злая, жестокая, мерзкая тварь!
Фрау Берта вскочила, встал и Лабрюйер.
– Нельзя же так волноваться! – воскликнул он.
– Она хитрая! Вы не знаете этих скромниц, этих сереньких мышек! Ей не цирк нужен – ей нужен богатый мужчина! Они – хитрые, они такие хитрые, что всех перехитрят! Почему ее взяли в программу – с плохо вышколенными собаками? Как вы думаете? А? А вы подумайте, господин Лабрюйер! Я никогда себе такого не позволяла. Я не ангел, но если я кого полюблю – то с тем мужчиной и буду, а за деньги, за покровительство – нет, нет, это гадко! Боже мой, боже мой…
Фрау Берту явственно качнуло, Лабрюйер подхватил ее под локоть.
– Простите, – прошептала она. – Я такая нервная… Дайте, я сяду… Вы ищете эту пьянчужку Анну – а она уже нашла! И придумала вранье! Анна докажет, что она в тот вечер была где-нибудь в Митаве!
– Но если собак отравила фрейлен Скворцова, при чем тут Анна? – удивился Лабрюйер.
– Чтобы все сошлось на мне, как вы не понимаете? Боже мой, боже мой… Чтобы я оказалась единственной, кому это выгодно! Послушайте, я клянусь – я не травила этих проклятых собак! Чем угодно клянусь! У меня если голубь заболеет – мы с Эммой его выхаживаем, мои лошади самые чистые, я на корме не экономлю, а Мари велела варить собакам кашу с тухлым мясом! Сказала – если поварить подольше, будет хорошо, вы понимаете? Мы, цирковые, все это видим!
– Вы разволновались. Может, стакан воды? Или чего покрепче? – предложил Лабрюйер.
– У вас найдется коньяк?
– Я пошлю мальчика в лавку. Пича! Ян! Кто-нибудь! Лавка у нас за углом, а крепких напитков я не держу. Я, видите ли, в свое время пил не то чтобы беспробудно, а основательно, – объяснил Лабрюйер. – С меня хватит. Не хочу, чтобы под рукой всегда был этот соблазн.
– Вы правы. У меня тоже было такое, – призналась фрау Берта. – Однажды я поняла, что мне каждый день необходимо полстакана киршвассера, это для дамы очень много… он довольно крепкий и сладкий, пьешь и получаешь удовольствие… А не выпьешь – не заснешь. Теперь я пью только ликеры в кондитерских и изредка – шампанское. Все почему-то считают, что артисток нужно поить шампанским. Глупо, правда?
Фрау Берта улыбнулась.
Улыбка у нее была хорошая, круглое личико вмиг делалось совсем детским.
Вышел Ян, выслушал поручение, получил деньги и ушел.
– Помогите мне, – уже почти успокоившись, сказала фрау Берта. – Наши подозревают меня, я должна оправдаться. Вам они ни слова не скажут! А между собой говорят, что это я отравила собак их ненаглядной птички… У мадмуазель Мари какая-то птичья русская фамилия. Я русского языка не знаю…
– Скворцова, – вспомнил Лабрюйер и перевел фамилию на немецкий язык.
– Она не похожа на скворца, – возразила фрау Берта. – Совсем не похожа. Во-первых, волосы. Где вы видели скворца такой масти? И у нее лицо – вы присмотритесь, у нее пустое лицо! Если его не намажешь и не нарумянишь – его нет! На улице ее можно принять за поденщицу или за прачку. Правда, если ей удачно накрасить глаза и правильно подрумянить, она может быть похожа на женщину из хорошего общества. Я буду к ней справедлива – она умеет себя вести! Даже странно, что девушка из мещанской семьи так воспитана.
– Да, – согласился Лабрюйер. – Может быть, ее семья была зажиточной, и ей наняли гувернантку?
– А потом семья разорилась, родители умерли, и мадмуазель Мари пришлось самой зарабатывать на жизнь? А знаете, это очень похоже на правду. Тогда понятно, почему она такая злая… Да, да, она хочет вернуть то, что утратила! И вернет любой ценой! Вы ведь встречали таких людей? Обязательно встречали!
– Да, – ответил Лабрюйер, – разумеется. Очень много мошенников и дам полусвета – как раз из разорившихся богатых семей…
– Главное условие – уехать туда, где тебя не знают, чтобы начать новую жизнь.
– И это верно…
Лабрюйер чувствовал себя неловко. Он немного устал от страстных речей разговорчивой артистки. И при этом радовался, что вот сидит с удивительно красивой женщиной, что эта женщина охотно с ним беседует, открыто говорит о таких вещах, которые добропорядочная рижская фрау изображает всякими экивоками.
Однако Мария Скворцова не производила впечатления женщины, которая злобно добивается реванша…
Впрочем, она не была рижанкой. Лабрюйер вдруг понял это. Она точно откуда-то приехала. Ему показалось, будто девица здешняя, но почему показалось? Он стал вспоминать. Мадмуазель Мари рассказала о себе, что попала в цирк по знакомству благодаря двоюродной сестре, бывшей замужем за дирижером циркового оркестра. Но где сказано, что цирковой дирижер сидит сиднем на одном месте? Сегодня он машет своей палочкой в Риге, а завтра – в Мадриде. И жениться на этой двоюродной сестре он мог хоть в Керчи, хоть в Вологде (некстати вспомнилось непонятное присловье старого актера Самсона Струйского). Марья Скворцова могла приехать к двоюродной сестре, опять же хоть из Керчи, хоть из Вологды, и не мешало бы один раз отыскать эти загадочные города на карте Российской империи.
– И держать язык за зубами, – добавила фрау Берта. – Моя Эмма видела ее с мужчиной. Эмма – образцовая служительница, уверяю вас. Она помогает мне дрессировать голубей. Это она придумала трюк со шляпой. Вы не видели мое выступление? В самом финале я надеваю на голову особую шляпу из лозы, на нее слетаются голуби. Представляете – я стою в живой шляпе! Она задержалась в цирке, потому что чистила клетки, и слышала, как Мари договаривается с мужчиной о свидании. А Эмма как раз рижанка, и она понимает по-русски. Тот мужчина называл Мари птичкой, это было в цирковом дворе, в закоулке, и Эмма его не разглядела. Она отбила у меня поклонника, очень солидного человека, а сама потихоньку бегает на свидания!
Внезапно артистка расхохоталась.
– Так вы сумеете вывести эту особу на чистую воду? – спросила она. – Вы мне поможете? Конечно же поможете! Я по глазам вижу. У вас честные глаза и взгляд прямой. Не стыдитесь! Я за свою жизнь столько комплиментов выслушала, что имею право и сама сказать мужчине комплимент! Это даже будет справедливо! Разве вам никогда не говорили, какие у вас глаза?
Тут-то Лабрюйер и растерялся.
И впрямь – не говорили!
Никто и никогда.
Были, конечно, ласковые слова в известные моменты мужской жизни. Голубчиком называли, светиком, сердечком, мишкой косолапым – как у многих коренастых мужчин, у него была довольно мохнатая грудь, и эта золотистая шерстка его подругам страх как нравилась.
– Так, значит, мы обо всем договорились? – вдруг спросила фрау Берта.
Это означало завершение беседы. Внезапное, на взлете вдруг возникшего доверия, завершение.
– Договорились, фрау Берта. Когда вы собираетесь в зоологический сад?
– Я еще не знаю. Дня через два, может, через три. Еще нужно уговориться с газетчиками. У меня есть проспект вашего ателье, я взяла у Краузе, я вам заранее телефонирую. Помогите, пожалуйста, справиться со шляпой. И пошлите кого-нибудь за орманом.
– Но я хотел угостить вас коньяком.
Лабрюйер удивился – до чего же жалобно прозвучал его голос. Он вовсе не желал вкладывать в простые слова такой трагический смысл.
– А что мешает вам угостить меня коньяком в другой раз? Я не собираюсь уезжать – пусть лучше уезжает эта злобная птичка! Мы еще поедем вместе в зверинец… и я закажу вам карточки… Придержите поля!..
Фрау Берта повернулась к Лабрюйеру спиной, он увидел белую шейку под высоко подобранными волосами. Снова уловил аромат персидской сирени…
И ведь никаких иллюзий он не питал! Артисточка – вроде Валентины Селецкой, но не такая трепетная, не такая хрупкая. Тоже ищет мужчину, однако Селецкая была нежна и пассивна, нужный мужчина пришел – она ему отдалась, когда он оказался свободен – даже не попыталась за него бороться. Эта же готовилась к решительным сражениям. Эта, кажется, была бесстрашна…
Она ушла… нет, исчезла, оставив аромат, оставив повисшие в воздухе несказанные слова. Лабрюйер опустился на стул. Надо же, подумал он, совсем неожиданный сюрприз, подарок судьбы! Ввязался в дело о дохлой собаке – а оно вот как обернулось. Возможно, фрау Берта и права…
Некоторое время спустя явились Каролина и Пича. Каролина сразу взяла «Атом» и пошла проявлять пленку, а Пича радостно рассказал во всех подробностях, как шел за двумя топтунами и как исхитрился сделать кадры. Парня нужно было наградить.
– Мы скоро поедем в зоологический сад, – сказал Лабрюйер. – По такому случаю в школу не пойдешь, будешь помогать мне и фрау Каролине. А здесь останется Ян.
Радость была неимоверная.
Лабрюйер невольно вспомнил себя в Пичином возрасте. Рижане тогда и не помышляли о зоологическом саде. Выпросить у родителей пару копеек, чтобы побывать в передвижном зверинце, посмотреть на престарелого льва, слепого медведя, мартышек и козла с неимоверно закрученными рогами, уже было праздником.
Потом Каролина вынесла три карточки.
– Вот они, ваши топтуны. Петька у нас молодец. Узнаете?
– Да, этот – Пуйка. А насчет второго я спрошу у своих.
– Хорошо бы изловить Пуйку и допросить с пристрастием.
– Давайте карточки. Я их найду.
– Забирайте. И помогите мне – я выполнила заказ, нужно разложить товар по конвертам и надписать их.
Они взялись за работу, сверяясь с конторской книгой. Ян остался в салоне, Пичу отправили учить уроки.
– Птичка скачет весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий… – напевал Лабрюйер, раскладывая карточки по стопкам.
– Что это вы, душка? – удивилась Каролина.
– Да вот думаю об одной птичке.
– О птичках, – поправила Каролина. – Раз уж мы нанялись фотографировать голубей в зверинце.
– Те – пернатые… А вот есть одна птичка без перьев… Вот она-то мне и не дает покоя, – признался Лабрюйер.
– Не та ли рыжая дама, которая просидела с вами чуть ли не два часа?
В голосе Каролины было какое-то ядовитое любопытство.
– Нет, не она. Это… впрочем, неважно.
Ему не хотелось рассказывать Каролине о следствии по случаю собачьей смерти. Не для того его поставили хозяином фотографического заведения, имеющего загадочные цели, не для того содержат, как богатого рижского бюргера, чтобы он отвлекался на сыскную деятельность.
– Это чье-то прозвище? – спросила Каролина.
– Откуда вы знаете?
– Ремесло у меня такое – знать…
Лабрюйер постоянно забывал, что комическая эмансипэ, читающая тайком Бальмонта, – сотрудница весьма серьезной службы. Вот и сейчас – вспомнил и удивился.
– Да, прозвище, – подтвердил он.
– Где вы его слышали? И почему вы его услышали?
Лабрюйер и о другом забывал: что он – ходячая декорация, манекен респектабельного вида, а настоящая хозяйка заведения – как раз Каролина. И она имеет право задавать вопросы.
– Птичкой называют одну цирковую артистку. Кто называет – не знаю. Мой информатор того человека не разглядел.
– У вас в цирке информатор? Как это понимать?
– Я же туда относил контрольки, встретил знакомых, потом опять туда по старой памяти забрел, разговорился со служителями… – и тут на Лабрюйера накатило. – А что мне еще прикажете делать?! Я тут сижу без всяких поручений, трачу казенные деньги, говорю комплименты старым дурам и делаю пальцами козу рыдающим младенцам! По-моему, я имею полное право ходить хоть в цирк, хоть в варьете! И даже скорее в цирк – я тут глупею на глазах, и это для меня теперь – самое подходящее развлечение!
– Птичка, говорите?
– Да, птичка, курица, индюшка! Кстати, об индюшках – я же еще не обедал! Мои обеды в дорогих ресторанах входят в круг моих служебных обязанностей!
– Александр Иванович, перестаньте… – Каролина поморщилась. – Цирк – это мысль… Когда вы снова туда собираетесь?
– Сегодня вечером! – выпалил Лабрюйер. Ему действительно захотелось увидеть фрау Берту в шляпе из живых, хлопающих крыльями голубей.
– Узнайте, кого там называют птичкой. И, главное, кто и на каком языке ее так называет.
Судя по тону, вопрос был не пустяковый.
– Ее зовут Марья Скворцова, отсюда и прозвище. Называли по-русски… – Лабрюйер задумался, вспоминая. – Но, кажется, ее и по-немецки так зовут… кажется… Фогельхен…
– Откуда эта Марья Скворцова взялась?
– Откуда берутся цирковые артисты? Приехала! И снимает квартиру на Ключевой улице.
– Так, хорошо. Вам она зачем понадобилась? Если вы адрес узнавали?
– Да просто хорошенькая девица. Что я – обречен всю жизнь теперь созерцать лишь ваш дивный профиль? – возмутился Лабрюйер.
Каролина рассмеялась.
– Вы там других прозвищ не слыхали? – спросила она. – Не называли ли кого Щеголем? Или Атлетом? Или Бычком?
Тут-то Лабрюйер и задумался.
– Называть там кого-то особо Атлетом нелепо – они все атлеты. Про Щеголя – не знаю, не слыхал. Бычок – тоже отменное имя для борца, который впридачу жонглирует двухпудовыми гирями. У них шеи – как…
Он хотел сказать «как моя ляжка», но постеснялся – все-таки говорил с девицей, хотя и мечтавшей о страстях в духе поэта Бальмонта. Так у Бальмонта, поди, всякие уста, перси и пальчики, а не ляжки…
– Цирк… – пробормотала Каролина. – Самое простое приходит в голову последним… Надо же – цирк! Послушайте, мне нужен билет на представление. Два билета. Я пойду с Яном.
– Это несложно.
Лабрюйер хотел спросить, что Каролина надеется увидеть на манеже, но воздержался.
Если в Риге завели фотографическое ателье, вложив в него немалые деньги, то не для того же, чтобы зарабатывать деньги на картинках. Был какой-то неведомый Лабрюйеру смысл в том, что на Александровской улице торчало в «Рижской фотографии господина Лабрюйера» страшилище в вороном парике. И вот сейчас этот смысл стал проявляться – словно первые тени будущего портрета на фотографической бумаге.
«Птичка», «Атлет», «Щеголь», «Бычок»…
Похоже, начинается что-то любопытное.








