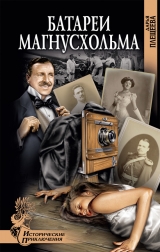
Текст книги "Батареи Магнусхольма"
Автор книги: Дарья Плещеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава вторая
Видно, на небесах его услышали, потому что утром, спеша в свое фотографическое заведение, Лабрюйер налетел на фрау Вальдорф.
Фрау была не дура. Она знала жильца довольно давно и не гнала его прочь, даже когда он превратился в унылого выпивоху. Платить-то он за квартирку платил, а остальное – не ее дело. Сейчас Лабрюйер дивно преобразился: его привезенные из Питера костюмы, и трость с дорогим набалдашником, и история с наследством, и расширение квартирки, и мудрое решение вложить деньги в фотографическое ателье, – все это делало бывшего полицейского инспектора завидным женихом. А жене его обещало приятное существование – необременительный труд и свежие впечатления. Что может быть для дамы лучше, как сидеть в заведении на Александровской, принимать клиентов, отвечать на телефонные звонки? Это же – идеальный образ жизни, именно такой, который требует всегда появляться в свежих и модных нарядах, с безупречной прической, знать всю рижскую аристократию в лицо.
Но заботилась фрау не о себе, а о сестрице супруга. Та безнадежно засиделась в девках. Приданое – великое дело, но когда к приданому прилагается тощая и длинноносая девица, с кислой физиономией и непомерным самомнением, женихи вокруг не роятся.
Так что фрау, уже совершившая в великом деле сватовства несколько роковых ошибок, не стала зазывать жильца на чашечку кофе со штруделем домашней выпечки. Она просто осведомилась, смогут ли ей в фотографическом ателье сделать хорошие карточки. Карточки понадобились для отправки в Америку дальним родственникам. Лабрюйер, естественно, пригласил туда квартирную хозяйку и даже галантно пообещал, что карточки ей ничего не будут стоить.
К тому же фрау Вальдорф знала, что жилец лет семь назад собирался жениться, и даже встречала в гостях у кого-то из дальних родственников его невесту, очень приятную, толковую и деловитую девицу по имени Юлиана. Когда Лабрюйер попал в неприятности и ушел из сыскной полиции, эта девица, служившая, кстати, гувернанткой в почтенном семействе, отказалась идти под венец – и, по мнению фрау, правильно сделала. То, что после этакого несчастья жилец не пытался найти другую жену и даже не приводил к себе особ легкомысленного поведения, для фрау Вальдорф служило хорошей рекомендацией. Теперь главное было – не терять времени…
Нужно быть каким-то особенным дураком, чтобы спозаранку бежать к фотографическому ателье и торчать перед запертой дверью. Лабрюйер знал, что с утра пораньше клиентов не будет, и полагал просто посидеть, глядя в большое окошко и беседуя с Каролиной. Нужно было убедить эмансипэ одеться по-человечески, чтобы не распугать публику.
Но когда он увидел «кузину» – у него глаза на лоб полезли.
Она в простом саке, в маленькой шляпке без затей, без румян, была страшилищем, но страшилищем скромным и непритязательным. Сейчас же Каролина вырядилась в синюю «хромую» юбку, позволявшую делать только самые крошечные шажки, в полосатую бело-розовую блузку с оборочками и кружавчиками, впридачу с большим лиловым бантом, а на голове у нее был вороной парик с кудряшками. И, в довершение ужаса, она густо нарумянилась.
– Боже мой… – прошептал Лабрюйер.
– Да, кузен, – томно сказала Каролина. – Я знаю, как нужно одеваться в приличном заведении. Я эмансипэ, да! Но я знаю правила и не подведу вас.
Лабрюйер понял, что произошла ошибка – он встретил не агента, владеющего фотографическим ремеслом, не командира наблюдательного отряда, а совершенно постороннюю женщину, которая, как на грех, тоже увлекается фотографией. Несколько секунд он был в этом убежден – пока сомнительная Каролина прихорашивалась перед зеркалом и выкладывала попричудливее свои фальшивые кудряшки. А потом Лабрюйера осенило: даже самый пронырливый вражеский шпион не заподозрит это страшилище в тайных замыслах. Каролину назовут дурой, нелепым созданием, спятившей охотницей на женихов, и на том успокоятся.
– Вы переигрываете, кузина, – заметил он. – Вы словно сбежали из какого-то низкосортного водевиля. Бант хотя бы снимите.
– Он подчеркивает мои достоинства, душка, – отвечала вконец распоясавшаяся Каролина.
– Мне телефонировать в Питер? И не называйте меня так, понятно?
– Все мужчины – душки, – сказала Каролина, причем высокомерно. И очень Лабрюйеру это не понравилось.
Дверь отворилась, вошел почтальон. Он принес посылку из либавской типографии Покорного, в которой многие российские фотографические ателье заказывали паспарту – белые картонные рамки с виньетками и прочими затеями.
– Разберите и разложите, – велел Каролине Лабрюйер.
Но вслед за почтальоном пришел первый клиент. Начало было горестное – он принес фотографическую карточку покойного деда, желая, чтобы ее отретушировали, пересняли и изготовили приличный портрет.
Потом пришли две дамы. Их интересовало, не продаются ли в ателье виды города Риги. Лабрюйер честно признался: ателье открыто первый день, своих видов еще нет, а чужими торговать даже неприлично. Он всучил дамам рекламные проспекты, в которых обещались «художественное и быстрое исполнение всех фотографических работ: портретов, групп и увеличений на невыцветающей роскошной белой глянцевой бумаге, а также платиноматовые снимки и миниатюрные марки с портретами».
Третий посетитель желал подарить невесте свой фотографический портрет на эмали в виде брошки. К таким безумствам Лабрюйер был готов, не зря изучал основы ремесла в Питере. Он честно признался, что подобной услуги не оказывает.
Наконец пришла дама с двумя малютками и нянькой. Пришлось вытаскивать чучело козы, от которого малютки шарахнулись с громким ревом. С немалым трудом были сделаны первые кадры «Рижской фотографии господина Лабрюйера».
И началась обычная деловая жизнь – с недовольными клиентами, не вовремя перегорающими лампами, перепутанными конвертами с карточками. Лабрюйер установил в лаборатории телефон, чтобы Каролина могла принимать заказы и вписывать их в особую тетрадь. Сам он принимал клиентов, отвечал на вопросы, а «кузину» вызывал только для исполнения ее прямой обязанности – возни с аппаратом.
Оказалось, место выбрано правильно, постояльцы «Франкфурта-на-Майне» протоптали дорожку в фотографическое заведение, а почему? Потому что Лабрюйер уговорился с хозяином гостиницы и изготовил ему меню для ресторана с видом большого обеденного зала и прочими дорогими сердцу путешественника видами. Для этого он вместе с Каролиной несколько дней подряд выбирался ранним утром снимать рижские достопримечательности: ратушу со статуей Роланда перед ней (какое отношение рыцарь Роланд имеет к Риге, никто не знал, но в немецких городках завелась такая мода, градоначальник Армистед пошел навстречу магистрату, желающему завести европейское украшение), замок, политехникум, городской театр на берегу канала, коммерческое училище – краснокирпичную пародию на готическую архитектуру.
В подручные Каролина взяла обоих сыновей Круминя – и Пичу, и Яна. Ян был высокий и крупный восемнадцатилетний парень, считался красавчиком, и дамы поглядывали на него с интересом. Он хотел получить прекрасное для латышского парня ремесло. А Пича стал рассыльным.
Примерно раз в три дня Лабрюйер ругался с Каролиной из-за ее кошмарных нарядов. Не то чтобы он разбирался в модах – а просто помнил, как одевались актерки в труппе Кокшарова. Одна только госпожа Эстергази могла нацепить на себя шляпу, украшенную целым курятником, а госпожа Терская и Валентина… Он не мог бы точно описать платья и тальеры Валентины, помнил только общее впечатление, и по нему выверял свое отношение к блузкам и бантам Каролины. Отношение было более чем критическое.
Фрау Вальдорф приводила сестрицу супруга, фрейлен Ирму, и Каролина сделала десятка два фотографических карточек: фрейлен Ирма в кресле с книгой, фрейлен Ирма на фоне древнегреческого пейзажа, фрейлен Ирма возле вазы с гигантскими розами, фрейлен Ирма в шляпе и без шляпы, с прической а ля Клео де Мерод, которая не шла ей совершенно, и с распущенными волосами. Лабрюйер, имевший немало забот, и не обратил бы внимания на эти маневры и демарши, но супруга дворника Круминя, очень благодарная за обучение Яна, воспитание Пичи и приработок в фотографическом заведении, с неожиданным ехидством осведомилась однажды, не идет ли дело к свадьбе. Тут-то Лабрюйер и прозрел. Он рассмеялся и дал осведомительнице рубль за приятную новость.
Фрейлен Ирма, конечно, была невеста с приданым. Но уж больно долгоноса…
В суете прошло около месяца, и Лабрюйер забеспокоился – ни одного телефонного звонка от питерского начальства, ни одного тайного послания, ни одного курьера, вообще ничего! Для чего же потребовалось фотографическое заведение? Чтобы дать средства к существованию бывшему полицейскому инспектору, которого угораздило впутаться в шпионскую историю и оказать Отечеству важную услугу?
Или же таково ремесло агента контрразведки – жить обычной жизнью месяц, полгода, год, и вдруг получить приказ…
Был солнечный октябрьский день – именно такой, когда хорошо прогуляться вдоль канала, выпить кофе с булочками в кофейне на вершине Бастионной горки, пока ведущие туда дорожки, как обычно случалось ближе к ноябрю, не размыло дождями; может, даже в последний раз перед настоящей прибалтийской осенью, тоскливой и промозглой, покататься на лодочке.
В такой день рижанки из хороших семей наверняка постараются выйти на прогулку – хоть в Верманский парк, хоть на Эспланаду, чтобы поймать иллюзию лета. Деревья еще зелены, лишь в кронах берез – длинные желтые пряди, и можно не обращать внимания на сухую, понемногу теряющую свежесть и гибкость своей растительной жизни листву. Иллюзия, иллюзия… глядя на стройные фигурки с тонкими талиями, можно много чего вообразить… Даже познакомиться можно! Этак ненавязчиво. В конце концов как-то же положено знакомиться с дамами и девицами, пригодными для семейной жизни. А не ждать, пока фрау Вальдорф придумает какую-нибудь брачную пакость.
Предвкушая прогулку, Лабрюйер стоял в салоне и руководил Яном. Тот чинил помост – из досок вдруг полезли гвозди и могли наделать много бед. На улице по ту сторону витрины, в которой уже были выставлены удачные фотокарточки, остановилась пара – пожилой господин и красивая дама. Лабрюйер подумал, что это были бы хорошие клиенты.
И тут дверь фотографической мастерской распахнулась.
Сперва Лабрюйеру показалось, что ураганом разорило магазин Мушата и охапки перепутанных полос разноцветной ткани стремительно внесло в помещение. Но ателье наполнилось криками, хохотом, визгом, и Лабрюйер понял: это всего-навсего компания молодых дам, их шесть или семь, хотя по ощущению – не меньше двадцати. Насчет тканей он не слишком ошибся – дамы принесли какие-то хламиды нежных цветов, завернутые в простыни, и стали их деловито развешивать по спинкам стульев. Говорили дамы по-русски.
Лабрюйер, опомнившись, подошел к маленькой бойкой блондинке, лет тридцати пяти, если не сорока, которая распоряжались подругами.
– Сударыня, – сказал он.
– Вы господин Гроссмайстер? Я телефонировала вам и договорилась с дамой, которая у вас служит, – ответила блондинка. – Мы арендуем ателье с двух до четырех.
Лабрюйер подумал, что неплохо бы эту служащую даму удавить.
– Так что благоволите запереть дверь в салон и задернуть шторы. Я не хочу, чтобы вся Александровская улица любовалась, как мы переодеваемся, – продолжала блондинка.
– Как вам угодно, – и Лабрюйер, закрыв салон, взял с собой Яна и поспешил в лабораторию.
Каролина была там и готовилась к съемке.
– Могли бы и предупредить, что у нас сегодня ожидается сумасшедший дом, – сердито сказал Лабрюйер.
– Не сумасшедший дом, а живые картины, душка, – миролюбиво ответила Каролина. – Эти дамы хотят иметь свои фотографические карточки в театральных костюмах, портреты, красивые группы, не хуже, чем в синематографе или в балете. Я думала, они опоздают. Это хороший заказ, душка, дамы очень приличные.
– Актерки? – спросил Лабрюйер, вспомнив свои приключения в труппе Кокшарова.
– Нет, душка, все из хороших семей. Госпожа Морус, Надежда Ивановна, – жена профессора рижского политехникума… что вы так смотрите, душка?..
– Ничего, – буркнул Лабрюйер, – предупреждать надо… Если я не нужен, чтобы подавать веера и подвязки, то пойду прогуляюсь. Ровно на два часа.
Лабрюйер не был чересчур сентиментален, но вот образовался повод прогуляться по Эспланаде и над каналом – отчего бы нет? И съесть порцию сосисок-«винеров» в «Лавровом венке»…
– Александр Иванович, без вас не обойтись. Нужно выставить фоны и декорации, душка. Это не женское дело – таскать античные колонны. Ян один не справится. Посидите тут, я приду за вами!
Каролина выскочила, а Лабрюйер принялся вспоминать те случаи смертоубийства, когда мужчина, задушивший женщину, дешево отделался.
В предбаннике лаборатории на столе лежали газеты и книжки. Лабрюйер, уверенный, что в хозяйстве эмансипэ, которая притворяется служащей дамой, не должно быть ничего дамского, раскрыл книжку наугад. Это оказались стихи господина Бальмонта. Современных стихов Лабрюйер не любил, не понимал и понимать не желал – достаточно было того, что он учил наизусть слова песен и романсов, которые у кого угодно отбили бы охоту к изящной словесности.
В томике была красиво вырезанная бумажная закладка, и потому он распахнулся на довольно неожиданных строчках:
Она отдалась без упрека,
Она целовала без слов…
– Ого, – сказал Лабрюйер. – Ну, поэты…
Начало было многообещающее, и он дочитал до конца:
Как темное море глубоко,
Как дышат края облаков!
Она не твердила: «Не надо»,
Обетов она не ждала.
– Как сладостно дышит прохлада,
Как тает вечерняя мгла!
Она не страшилась возмездья,
Она не боялась утрат.
– Как сказочно светят созвездья,
Как звезды бессмертно горят!
Дочитав, Лабрюйер положил томик на место и задумался. Мысли текли двумя параллельными потоками, и получилось примерно так:
– Вот что, оказывается, на уме у моей эмансипэ – отдаться без слов… И придумают же поэты… Кто бы мог подумать – и ей охота порезвиться… Но таких женщин не бывает, чтобы без упрека… Эмансипэ, однако! Экое лихое эмансипэ!.. Не бывает женщин, чтобы прямо сказали – люблю, хочу, возьми меня…
Тут на пороге появилась Каролина.
– Идем таскать колонны, душка. Ян, идем! Дамы уже готовы.
– Так скоро?
– Они приехали костюмированные, в ротондах и накидках.
Лабрюйер вышел – и увидел группу настолько очаровательную, что остолбенел.
В середине салона стояла женщина, вокруг которой вились подруги, весело чирикая и поправляя ее великолепный маскарадный костюм. Она же молчала, словно входила в роль, и эта роль была хорошо знакома Лабрюйеру.
Он не читал трагедии Шиллера, других пьес о Столетней войне тоже не знал, но в стройной брюнетке сразу опознал Иоанну д’Арк.
На ней были сверкающие доспехи, госпожа Морус прилаживала красный плащ с королевскими французскими лилиями, другая дама держала наготове рыцарский шлем.
Но Лабрюйер перестал видеть и лилии, и огромный султан на шлеме, и хорошенькую девушку в греческом наряде, что привязывала жестяные поножи к ногам брюнетки.
Ее лицо…
Многие молодые дамы остригали длинные косы и завивали волосы, расчесав на пробор. Но у этой кудри были свои – без парикмахерской симметрии, крупные, не достигающие плеч. И лицо – лицо героини, которой только меча недостает, чтобы спасти Францию. Четкие черты, прямой нос, большие черные глаза – и если бы Лабрюйера попросили определить, к какой национальности принадлежит воительница, он бы не смог ответить. Хотя служба в полиции научила его различать цыганок, евреек, темноволосых немок, ливок с курляндского побережья, малороссиянок, даже итальянок, даже турчанок (было дело, выслеживали тайный бордель и во время внезапного налета вывели оттуда и негритянок, и мулаток, и одну индианку, которая потом, когда ее отмыли, оказалась фальшивой).
Но ничего мужланистого в воительнице не было – достаточно было видеть ее красивую удлиненную шею, истинно лебединую, с тем особым наклоном, который сразу рисует в воображении и обнаженные плечи, и ложбинку на спине, исчезающую в кружевах низко вырезанного бального наряда.
– Француженка, южанка? – сам себя спросил Лабрюйер. – Гречанка? Да нет же…
Его смущал рост – дама была чуть повыше его самого, он привык считать южанок не то чтобы низкорослыми, а обычного для женщин роста; высокой могла быть статная северянка…
– Ставим фон с рыцарским замком! – сказала Каролина. – Ян! Фон номер четвертый!
– Сейчас, фрейлен Каролина.
Все эти древнегреческие пейзажи, виды старых английских парков и швейцарских гор, замки и морские пучины стояли в углу длинными рулонами. Ян выволок нужный, спустил штангу, прицепил его и развернул.
Замок был размещен с краю фона, чтобы посередке стоял или сидел позирующий объект. Но просто так стоять было непринято – требовались обломок колонны, чтобы опереться, или жардиньерка, увитая шелковыми розами, или хоть арфа. Все это мало годилось для Иоанны д’Арк.
– Меч, меч, где меч? – загалдели дамы. – Коломбиночка, меч забыли!
– Да вот же он, под юбками Пьеретты! – отвечала Коломбина, от которой, пожалуй, шарахнулась бы ко всему привычная лошадь ормана, из таких ярких ромбов был сшит ее наряд.
Воительница молчала и даже не улыбалась, когда подруги хохотали в ответ на шутку. Лабрюйер, отойдя в сторону, смотрел на нее – также молча.
А дальше было неожиданное.
– Наташенька, возьми рукоятью вверх, – сказала госпожа Морус, – как на гравюре. Получится крест, да, вот так… и ты молишься кресту, ты клянешься кресту, ну, я, право, не знаю, что еще… Да, да!..
Лицо воительницы преобразилось. Она смотрела на крестообразную рукоять деревянного меча с восторгом и надеждой.
Каролина нырнула под чехол фотоаппарата.
Женщины притихли. Это было уже не сеансом фотосъемки, а чем-то иным.
– Боже мой! – воскликнула госпожа Морус. – Если бы я не знала, что это Наташа, я бы поверила, что перелетела во Францию… Фрейлен Каролина, теперь она встанет, опираясь на меч, как рыцарь, и немного боком…
Лабрюйер вздохнул. Было мгновение, когда и он перенесся во Францию, увидев Орлеанскую Деву перед сражением. Было!
Тот, кто додумался нарядить эту женщину Иоанной д’Арк, угадал точно – была в ней готовность вступить в сражение, было благородное безумие во взгляде, или же – она, сама того не сознавая, оказалась гениальной артисткой.
С артистками Лабрюйер имел дело в труппе Кокшарова и знал, как легко они преображаются. Но только актерки, войдя в роль, и говорили, и пели, и двигались, слова роли и рисунок мизансцены многое делали за них, а тут – взгляд, движение гибкой шеи, и ничего более не требуется…
Потом Ян менял фоны, приносил и уносил корзинки с цветами, кресло с готической спинкой и кресло-качалку, заведовал электрическими фонарями и выполнял все распоряжения Каролины.
Лабрюйер отступил в самый дальний угол и смотрел. Молча смотрел. Не так, как пресловутый кролик на удава, но вроде того…
Наконец дамам надоело модное развлечение, они стали капризничать, Лабрюйер позвал Пичу и велел поймать трех орманов.
Дамы обступили Каролину с пожеланиями – каждая хотела выглядеть роковой красавицей. Одна лишь Иоанна д’Арк стояла задумчиво, наклонив голову, и жестяные доспехи, уже порядком помятые, не выглядели на ней смешно.
– Наташенька, стой смирно, – сказала госпожа Морус. – Сейчас я это от тебя отцеплю. Ах ты Господи, нужно было взять с собой Феликса, он умеет с этими штуками обходиться! Вера, Даша! Кто завязывал шнурки?! Боже мой, их придется резать…
Каролина побежала за ножницами, и тут Лабрюйер вспомнил, что у него в кармане лежит любимая игрушка, перочинный нож.
Этот нож он купил в Санкт-Петербурге, когда превращал себя в щеголя за государственный счет. Он выбрал французский складной нож «Опинель» с буковой рукоятью, очень острый – при нем приказчик в лавке рассек лезвием, как бритвой, подброшенную газету.
Раскрыв свой «Опинель», Лабрюйер молча и по всем правилам, рукоятью вперед, протянул его – но не госпоже Морус, а Иоанне д’Арк.
Тут только Орлеанская Дева посмотрела на Лабрюйера.
Был, был этот миг, всего лишь миг – когда он протягивал оружие!
Но госпожа Морус тут же схватила нож; поблагодарив, разрезала шнурки и сняла с Иоанны д’Арк нагрудный доспех. Под ним была голубая батистовая блузка со смятыми рюшами, кружевами и фестонами. Воительница преобразилась – однако и в батисте она смахивала на юношу, святого Георгия, победителя драконов. Это было странно – при такой удивительной красоте внушать столь неожиданные сравнения.
И опять по ателье пролетел ураган – дамы, накинув плюшевые ротонды, подхватили свои пестрые юбки, экзотические хламиды, корзинку с венками из шелковых роз, с хохотом устремились к дверям. И вдруг стало пусто. Так пусто, что хоть вешайся.
– Это прекрасный заказ, душка, – сказала Каролина. – Петер, приберись. Не понимаю я этих устаревших женщин – откуда только у них вылетают все ленточки и завязочки? Для чего их столько?
– Что с этим делать, фрау? – спросил Пича, подняв с пола небольшой дамский кошелек.
– Нет, они неисправимы. Кузен, нужно догнать дам и вернуть кошелек.
– Ничего не случится, если мы вернем его, когда они приедут получать карточки, – буркнул Лабрюйер.
– Душка, госпожа Морус живет в трех шагах отсюда, на Елизаветинской, за молочным рестораном.
Лабрюйер подумал и спросил:
– Больше никто не записывался?
Каролина заглянула в конторскую книгу, нарочно для записи заказов заведенную, и доложила: ожидаются два господина, с ними она управится сама.
– Кузина, хотите, я вам жалованье увеличу?
– Кто ж не хочет?
– Чтобы вы оделись прилично.
– Я одеваюсь прилично.
– В вашем обмундировании только в цирке клоунов представлять! Мое терпение лопнуло. Или вы завтра же идете к хорошей портнихе, можно в ближайший «Дом готового платья», или я пишу донесение начальству, или…
– Что?
– Или за руку отведу вас в цирк господина Саломонского!
Лабрюйер собирался было добавить, что это не совсем шутка, что он способен, разозлясь, и не на такие подвиги, но тут дверь ателье снова отворилась, вошли два обещанных господина. За ними третий, пожилой и низкорослый, тащил чемодан.
– Кто тут всуе поминает цирк Саломонского? – спросил первый господин.
– О волке речь, а волк навстречь! – добавил второй. – Цирк сам к вам пожаловал.
Один из господ был молод, не старше двадцати лет, хорош собой, светловолос, с лихо закрученными усами, второй – чуть за сорок, черноволос и черноглаз, тоже феноменально усат, и оба – довольно крупного сложения. Их костюмы явно вышли из мастерской хорошего портного, но были чуть более заметны, чем требовал хороший тон: у младшего – клетчатый, причем в клетку довольно крупную, у старшего – цвета маренго.
Эти клиенты также потребовали закрыть ателье и задернуть шторы.
– Не то на тротуаре образуется маленькое дамское кладбище, – сказал старший, который представился как господин Штейнбах. – Где тут можно раздеться?
Когда оба господина появились в костюмах для французской борьбы, Лабрюйер безмолвно согласился – да, есть риск, что дамская толпа перекроет Александровскую. Атлеты и борцы были в большой моде, и когда в цирке Саломонского устраивались чемпионаты по борьбе или по поднятию тяжестей, в первых рядах сидели именно восторженные дамы. Фотографические карточки красавцев пользовались огромным спросом, запас приходилось постоянно обновлять.
– Не всюду умеют хорошо снимать, – пожаловался старший из атлетов. – Мы для экономии времени пошли в ателье Карла Эде на Мариинской, от цирка – пять минут ходьбы. Не то! Были у Борхардта, у Былинского, у Выржиковского, у Кракау. Наконец одна дама сказала, что вроде у Лабрюйера трудится отменная фотографесса. Мы подумали – если мужчины не видят красоты мужского тела, так, может, фотографесса разглядит?
Младший, Иоганн Краузе, засмеялся.
Смотреть на полуобнаженных мужчин, выкатывающих грудь колесом и принимающих великолепные позы – огромные ручищи скрещены на широченной груди, нос задран, усы торчат, – Лабрюйеру было неприятно. Что-то в этом он чуял неправильное, даже стыдное. Щеголять телом – такое не вписывалось в его понятие о мужском характере. Одно дело – когда играешь в театре роль и скачешь с голыми ногами, потому что древние греки не знали панталон. Другое – выставлять голые ноги напоказ с единственной целью – чтобы публика визжала от счастья и помирала от зависти. И что любопытно – Каролина тоже не сгорала от восторга. Лабрюйер чувствовал – кузиночке явно не по себе, жизнерадостные атлеты чем-то ее раздражают. Но чем – понять не мог. Вдруг его осенило – недоступностью!
Пока она возилась с камерой, а мужчины позировали, становясь то так, то этак, Лабрюйер, не удержавшись, заглянул в потерянный кошелек. Денег там было немного, два рубля с копейками, но лежал талисманчик – серебряная подкова, чуть поменьше дюйма в длину и в ширину. Он вынул подкову и чуть не вскрикнул, уколовшись: оказывается, это была брошка.
Носить брошку-подкову могла только одна из дам. Она. Иоанна д’Арк. Наташенька… Нет, лучше на французский лад – Жанна.
Лабрюйер перевернул брошку и увидел выгравированные буквы: «РСТ». Что бы они означали? Инициалы, пожалуй. Но не Жаннины – она же Наталья. Какое русское женское имя начинается на «Р»? А мужское? Роман, Родион, новомодное Ростислав… Загадка, однако. Три буквы… И каждая – отдельно, хотя и для вышивок, и для гравировки придумывают обычно переплетенные инициалы. А поместились бы на оборотной стороне подковки переплетенные?
– Отличный заказ, душка, – сказала Каролина, когда атлеты оделись и ушли. – По две сотни каждого вида, всего – тысяча двести карточек! Но нужно будет отнести им контрольки. Для одобрения. Контролек будет, кажется, четырнадцать. Из них пусть выберут шесть.
– В цирк?
– В цирк, душка, в гардеробные. Я не могу – меня к мужским гардеробным не пропустят. Нужно послать Яна.
– Да, там выставлена дамская вооруженная охрана, – прокомментировал Лабрюйер. – Делайте контрольки, я отнесу.
– А я схожу на собрание женского экономического кружка. Прочитаю небольшой доклад о том, как женщина может без особых затруднений освоить ремесло фотографа.,
– Заодно зайду к госпоже Морус, отдам кошелек.
Но до госпожи Морус он не дошел.








