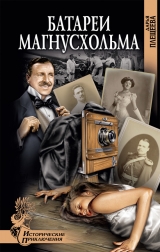
Текст книги "Батареи Магнусхольма"
Автор книги: Дарья Плещеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава первая
В маленьком кабинете на втором этаже дома номер тринадцать, в Саперном переулке Санкт-Петербурга, решалась судьба бывшего полицейского агента Александра Гроссмайстера – и почти была решена. Его прошение на имя руководителя Центрального регистрационного бюро подполковника Владимира Михайловича Якубова было изучено и одобрено.
Видимо, к делу приложил руку недруг-соратник, которого в Риге знали под фамилией Енисеев, а в оперетте «Прикрасная Елена», которая, собственно, и свела его с Гроссмайстером, он исполнял комическую роль Аякса Саламинского.
Никто другой не знал подробностей истории, приключившейся с агентами «Эвиденцбюро», вздумавшими этим летом сперва завербовать, а потом похитить российских авиаторов. Историю исследовали чуть ли не под микроскопом и убедились, что Александр Гроссмайстер, известный публике рижского штранда как опереточный певец Александр Лабрюйер, не попал в поле зрения «Эвиденсбюро».
Оставались придумать секретное имя.
Самому ему очень нравилась фамилия «Лабрюйер», к которой он за лето успел привыкнуть.
– Нет, это имя не годится, – сказали Лабрюйеру. – Во-первых, оно довольно известно. На афишах блистало. Во-вторых, оно вам потребуется для вывески. Одно дело – заведение господина Гроссмайстера, другое – заведение господина Лабрюйера. Парижский шик и все такое. Придумайте иное.
Лабрюйер вздохнул. Выдумщиком он был не ахти каким. Чтобы изобретать секретные имена для агентов – нужно книг начитаться, по греческой и римской истории хотя бы. А он читал мало – не до того было. Впрочем…
– Геркулес? – неуверенно спросил он.
Сидящий перед ним Якубов (без мундира, но выправку не скроешь) хмыкнул. На Геркулеса Лабрюйер не походил никак – ростом невысок, плотен, рыжеват, круглолиц. Он уж больше соответствовал своей подлинной фамилии «Гроссмайстер» – от нее бюргерским духом, некой немецкой прочностью за версту веяло.
Безымянный для Лабрюйера господин, бродивший по кабинету как бы без дела, также в штатском, повернулся и окинул новоявленного сотрудника задумчивым взором.
– Нет, это не Геркулес… Силен, скорее… Владимир Михайлович, пишем его Силеном…
– Нет, не стоит, тут как раз сходства многовато. Силен – божество пузатое и пьяное.
– И блудливое. Господин Гроссмайстер, хотите быть Силеном?
– Как прикажете, ваше превосходительство, – ответил Лабрюйер, которому на самом деле хотелось сохранить за собой давнее прозвище, придуманное антрепренером Кошкаревым. «Лабрюйер» – это было имя звучное, благородное, французское. И без всякой блудливости. Но раз велено его на вывеску – не поспоришь.
– А вот что! – воскликнул Владимир Михайлович. – Силен был в свите бога Вакха, ездил за ним, кажется, на осле. Там же были вакханки, менады, сатиры и леопарды. Александр Иванович, как насчет Сатира?
– Как прикажете, ваше превосходительство, – буркнул Лабрюйер. Ему эти поиски тайного имени уже немного надоели.
– А Леопард?
– Помилуйте, какой из него Леопард?! – воскликнул слонявшийся по кабинету господин. – Это зверь стремительный, гибкий, ловкий, хищный и даже прекрасный!
– Вот и замечательно, – подвел итог Владимир Михайлович. – При нужде наш новичок может быть и стремительным, и ловким, и в окошки прыгать, и верхом за аэропланом гоняться. Так что Леопард. Поздравляю вас, сударь, – имя прекрасное. И жду в среду. Для вас будет подготовлено все необходимое – деньги, аппараты, реактивы, бутафория. И также история. Ее потрудитесь зазубрить наизусть.
– Есть зазубрить наизусть, ваше превосходительство.
– Теперь ступайте, господин Леопард. В приемной сидит мой помощник Вайс. Он отведет вас к хорошему портному. Приоденьтесь, пока вы в столице. Поразите рижан столичным шиком.
– Не вздумайте отказываться, – добавил ехидный господин. – Наши портные на всю Европу славятся. Даже французские генералы у них мундиры заказывают.
Лабрюйер никого поражать не хотел. Но если служба того требует – придется.
Отродясь он еще не бывал у портного вот так – без всякой заботы о деньгах. Вайс, человек опытный, поставил задачу: одеть клиента как зажиточного господина, желающего нравиться приличным дамам, без лишней роскоши и без выкрутас; никаких расширенных плеч – немодно, да и собственных хватает; клетчатое пальто ему не по годам, а длинное темно-серое, двубортное, с каракулевым воротником, – в самый раз; два костюма-тройки также приглушенных тонов, один можно в скромную клетку, пиджаки на пару пальцев длиннее, чем диктует мода, клиент – не юный хлыщ, чтобы сверкать общелкнутой брюками задницей; да, и талию чуть завысить, а лацканы – удлинить.
– Визитка? – спросил портной.
– Делайте, – ответил Вайс. – Господин Лабрюйер будет вращаться в свете, без нее не обойтись.
От слова «вращаться» Лабрюйера аж передернуло.
Потом Вайс повез его на Большую Морскую, в ателье «Английская фотография» – учиться ремеслу.
Когда Лабрюйер по протекции Аркадия Францевича Кошко и, возможно, Аякса Саламинского (он же – Егор Ковальчук, он же – Георгий Енисеев, а подлинного имени собрата Аякса, с которым судьба свела в антрепризе господина Кошкарева, Лабрюйер, понятно, не знал; оно, может, только генералу Монкевицу, с недавнего времени заведовавшему российской контрразведкой, и было известно), отправился наниматься агентом контрразведки, у него выпытали всю родословную, чуть ли не до того Гроссмайстера, который при царице Анне Иоанновне пешком пришел из Мекленбурга в Ригу, чтобы проработать года полтора подмастерьем у сапожника, да так там и остался. Что касается происхождения по материнской линии, то Лабрюйер мог рассказать немного: матушка была дочерью гувернантки, кем-то привезенной из Москвы и неудачно вышедшей замуж за рижского почтальона. Девичью фамилию матери он, понятно, знал; с трудом вспомнил девичью фамилию бабки.
Тут сочинителям историй для агентов просто повезло – нашлась-таки где-то в Саратове недавно скончавшаяся одинокая дама, весьма зажиточная, с той же фамилией, что у Лабрюйеровой бабки; возможно, и впрямь дальняя родня. Оставалось выбрать на ее генеалогическом древе подходящую ветку, чтобы подвесить туда медальон с физиономией Лабрюйера.
Наследство невелико, но позволяет открыть в Риге свое дело. А что может быть лучше фотографического заведения? Фотография ныне в большой моде, ателье растут, как грибы. Если бывший полицейский инспектор, не пожелав возвращаться на службу, откроет в приличном месте ателье, это будет весьма достойным употреблением для наследства. Господина Гроссмайстера в Риге многие знают, и хотя вспомнят его чудачества в опереточном образе Аякса Локридского, но в ателье к нему придут охотно. Мало ли – побуянил, поколобродил, выпил отмеренную ему судьбой стоведерную бочку водки, в артистах побывал, угомонился, взялся за ум, стал почтенным гражданином и деловым человеком. Вовремя пришедшее наследство и не таких чудаков исправляло.
Фотографическое заведение – такое место, куда все приходят, и неоднократно, за день там перебывает с полсотни клиентов, в нем можно назначать встречи, а реквизит для фотосъемки, все эти разлапистые пальмы, обрубки античных колонн, чучела собачек и козочек вообще таит в себе неисчерпаемые возможности.
Так что Лабрюйер должен был хотя бы приблизительно знать, из чего состоят эти устрашающие аппараты; знать настолько, чтобы в беседе с собратьями по ремеслу не опозориться. Но усердствовать в постижении фотографический премудростей он не собирался – предполагалось, что он, устроив заведение в хорошем месте, выпишет из Москвы знатока с рекомендациями и приставит его к аппарату. Вот его-то, знатока, и готовили для фотографической роли всерьез. И он должен был возглавить наблюдательный отряд, для которого в Риге уже было серьезное дело…
К среде кое-какие сведения были вбиты в непослушную голову, оставалось вызубрить историю о тетке, жившей в имении под Саратовом.
Немного жалея, что не удалось побродить по Санкт-Петербургу, Лабрюйер сделал прощальный визит к господину Кошко.
Кошко, уже лет пять возглавлявший Московскую сыскную полицию, прибыл в Санкт-Петербург одновременно с Лабрюйером по своим полицейским делам и передал ему приглашение встретиться. Первая после долгой разлуки встреча состоялась в гостинице «Астория».
Лабрюйер шел туда, чувствуя себя как-то несуразно – во всем новеньком. Он пытался понять, как выглядит со стороны: господин средних лет, средней внешности, среднего роста, который благодаря удачно скроенной одежде не то что должен, а обязан выглядеть выше и представительнее. Но насколько нужна эта самая представительность? А если она появилась – отчего встречные дамы не задерживают взгляда на плотной фигуре и округлом лице? Или хитрый портной, привыкший обшивать агентов, знает какие-то приемы и ухватки, чтобы сделать их незаметными, почти незримыми?
Кошко, однако, узнал Лабрюйера издали.
– Лучше бы, конечно, вам вернуться в рижскую Сыскную полицию, – сказал Аркадий Францевич. – Я бы телефонировал, все бы уладил. Ваше место именно там – на Театральном бульваре. Но я ваш поступок понимаю.
– Сам бы я хотел его понять, – ответил Лабрюйер. Он не умел говорить красиво и даже за сто рублей не произнес бы монолога о службе Отечеству. А растолковывать бывшему начальнику все психологические выкрутасы отношений между Аяксом Локридским и Аяксом Саламинским – совершенно не желал – во-первых, стыдно, во-вторых, и самому многое непонятно. Однако решение принято, а все прочее – словоблудие.
Два дня спустя Лабрюйер прибыл в Ригу.
Ему следовало терпеливо пройти тем самым путем, что и всякому пожелавшему открыть фотографическое заведение. Следовало обратиться с прошением на имя генерал-губернатора, после чего оное прошение отправлялось в губернское жандармское управление – для подтверждения политической благонадежности Лабрюйера. Благонадежность имелась в должном количестве – учитывая нынешнюю должность Лабрюйера. Но формальность в этом случае должна была соблюдаться свято. Затем прошение передавалось в полицейское управление – полиция запрашивалась о поведении, нравственных качествах, образе жизни и занятиях г-на Гроссмайстера, проживающего в Риге по Столбовой улице в доме Вальдорфа, а также и о том, не состоит и не состоял ли он под судом и следствием.
Две недели спустя Лабрюйер получил «Свидетельство на право производства фотографических работ в пределах Лифляндской губернии».
Эти две недели ушли на поиски помещения и переговоры с владельцем.
Пробежавшись по десятку адресов, Лабрюйер выбрал дом на Александровской. Конечно, Александровская – самое фотографическое место Риги, в самом ее начале четыре ателье – Гомана, Гейслера, Малиновского и фон Эггерта, и на Александровском бульваре два ателье, но, рассуждая разумно, если все они, находясь по соседству, клиентов друг от дружки не отбили, не перессорились и не закрылись, значит, работы всем хватает. Опять же – вся Рига знает, куда идти за фотографическими карточками…
Прежде всего, Лабрюйера устраивало помещение: там раньше была кондитерская, так что хватало места и для зала, где производились съемки, и для лаборатории, и для склада реквизита. Затем – имелся выход на Гертрудинскую улицу, а он жил на Столбовой, почти на углу с Дерптской, так что дорога в свежеокрещенное ателье «Рижская фотография г-на Лабрюйера» занимала около пяти минут. И, наконец, место было бойкое – почти напротив стояла гостиница «Франкфурт-на-Майне».
Эту гостиницу он любил!
Семь лет назад появилась в Риге замечательная фигура – граф Рокетти де ля Рокка. С виду это был истинный испанский гранд – высокий брюнет с той неестественной для северян смуглотой, что отливает желтым, с красиво расчесанной вороной бородой; манеры не совсем аристократические, однако для графьев законы не писаны. Этот испанец хорошо говорил по-русски и удивительно скоро втерся в рижское общество. Он занял лучший номер «Франкфурта-на-Майне» и завел в гостинице крупную карточную игру, причем выигрывал бешеные деньги. Кошко сразу предположил, что Рига сподобилась внимания шулера высокого полета, причем удивительного наглеца – он даже пытался вступить в общество Черноголовых, которое было основано в бог весть котором средневековом году, считалось в Риге страх каким аристократическим и чужаков не принимало вовсе.
Запросив Москву и Петербург, Кошко выяснил, что шулера с такой экзотической фамилией там не знают. Подумав, вызвал Лабрюйера:
– Сыщите-ка мне Янтовского!
Тадеуш Янтовский уже оказывал Сыскной полиции кое-какие услуги и просился в штат. Вот Аркадию Францевичу и выпал случай его проверить.
Как Янтовский поселившись во «Франкфурте-на-Майне», изображал крупного коммерсанта из Лодзи, как обхаживал Рокетти, как похищал его паспорт, как Лабрюйер мчался с этим паспортом в полицию, чтобы сфотографировать и внимательно изучить, как приуныли сыщики, когда испанское посольство подтвердило выдачу паспорта, – вспоминать все это было даже радостно; может, еще и потому, что Лабрюйер возвращался в свою азартную молодость, в лучшие годы жизни. Тогда, кстати, он впервые в жизни позавидовал Янтовскому, который ухитрился сперва подпоить Рокетти в концерт-кабаре Шнелля, что на Елизаветинской, а потом затащить в фотографическое ателье Гебенспергера, буквально напротив того кабаре. По снимку петербуржские полицейские инспекторы его и опознали – шулер Раков, а как столь достоверно заделался испанским графом – даже помыслить страшно.
Брал Рокетти-Рогова прямо в его гостиничном номере лично господин Кошко, сопровождаемый Янтовским, инспекторами Швабо и Лабрюйером. На улице дежурили готовые к погоне и драке агенты.
Сейчас окно того номера Лабрюйер мог видеть, стоя у дверей своего фотографического заведения. Оно еще не имело вывески, не имело витрин, где выставлялись бы самые удачные карточки. Доставленные из Санкт-Петербурга предметы обстановки стояли упакованные. При одной мысли, чего там понапридумывало начальство, Лабрюйер ежился. В бытность свою полицейским инспектором он в ателье бывал и насмотрелся на фальшивые пейзажи во всю стенку, корзины с искусственными цветами, кресла и банкетки, пародирующие стиль всех французских Людовиков сразу, однажды даже видел чучело крокодила – на него верхом сажали детишек и делали пресмешные карточки. Теперь ему предстояло заведовать всем этим бедламом.
– Господин Гроссмайстер, – сказал, подходя, почтальон. – Вам телеграмма.
Пока не был установлен телефонный аппарат, Лабрюйер должен был ждать из столицы именно телеграмм.
Он развернул листок.
Тетушка Амалия предлагала ему встретить завтра утром на Двинском вокзале кузину, что прибудет московским поездом в шестом вагоне. С тетушкой Амалией все было ясно, слово «кузина» его смутило.
Обживаясь в фотографическом ателье, Лабрюйер с ловкостью агента Сыскной полиции свел знакомство не с богатыми жильцами из больших квартир во втором и третьем этажах, а с прислугой – горничными, кухарками, дворником-латышом по фамилии Круминь, что означало «кустик»; с его женой, бойкой языкастой латышкой родом из Курляндии, которую, несмотря на скромное положение, весь двор называл «госпожа Круминь»; с немолодыми швейками-сестричками Мартой и Анной с четвертого этажа. Это были люди, приятельство с которыми покупается недорого, а польза от них несомненна – всегда за скромные деньги выполнят несложное поручение.
Тринадцатилетний Пича был сыном дворника. По бумагам его звали Петером, и как из этого имени родня сделала Пичу – Лабрюйер не знал. Но парень на имя откликался – и ладно. Лабрюйер взял его с собой на Двинский вокзал, чтобы было кому помочь тащить багаж. Он даже устроил Пиче праздник – взял ему тоже перронный билет, чтобы мальчишка в подробностях разглядел паровоз.
Появления «кузины» Лабрюйер ожидал с трепетом – что еще за сюрприз припасло начальство. И сюрприз явился.
Это была невысокая и худая женщина, молодая, но поразительно уродливая. Лабрюйер впервые видел у дамы такой подбородок – крупный, угловатый, снизу – словно топором обрубленный и торчащий вперед, как бушприт у яхты. Одета «кузина» была в мешковатое пальто-сак какого-то крысиного цвета, в коричневую юбку, на голове имела крошечную шляпку из разряда дурацких – по личной классификации Лабрюйера. Из-под шляпки торчали коротко остриженные светлые прямые волосы.
Тому, что «кузина» сразу устремилась к «кузену», Лабрюйер не удивился – «тетушка Амалия» наверняка снабдила ее фотографической карточкой. Полагалось бы расцеловаться – но Лабрюйер не представлял, как целовать этакое страшилище.
Однако «кузина» была далека от сантиментов – решительно и стремительно протянула руку с растопыренными пальцами так, как это делают некоторые полоумные дамы для сурового мужского рукопожатия: на аршин вперед.
– Меня зовут Каролина Менгель, кузен, – негромко сказало страшилище. – Идемте.
– Пича, возьми у фрау саквояж, – сказал по-немецки Лабрюйер.
Саквояж был из потертой ковровой ткани, довольно большой, и вряд ли весил меньше тридцати фунтов. Но страшилище отмахнулось от услужливого паренька.
– Я сама понесу саквояж, – гордо сказала Каролина. —
Я – эмансипэ!
– Как угодно, – ответил Лабрюйер. – Пича, беги на площадь, возьми ормана.
Каролина устремилась вперед, таща саквояж с какой-то привычной легкостью. Идти рядом с кавалером, пусть это был всего лишь «кузен», она решительно не желала. Лабрюйер вразвалочку пошел следом, соображая: почему ему прислали нелепую эмансипэ? Неужто никого получше не нашлось?
До встречи Лабрюйер думал, что может поместить хорошенькую кузину в собственной квартире, благо по распоряжению нынешнего начальства присоединил к ней еще одну комнату. Это было несложно – всего лишь, уговорившись с хозяевами, отодвинуть шкаф, загораживавший дверь. Но, увидев Каролину Майер, Лабрюйер понял, что жить с ней под одним кровом не хочет, не может и не будет.
Пича был беспредельно счастлив, он увидел вблизи паровоз, он прошелся по всему перрону, он ехал домой на ормане, в кармане у него лежал настоящий перронный билет – для хвастовства перед дворовыми мальчишками! И когда Лабрюйер велел ему сбегать на четвертый этаж к Марте и Анне – узнать, свободна ли еще угловая комната, поскакал вприпрыжку.
Каролину, казалось, вовсе не беспокоило, где она будет жить. Войдя в фотографическое заведение, она первым делом устремилась в рабочие помещения – распаковывать ящики с оборудованием и химикалиями. Лабрюйер попытался ей помочь, но был выставлен с сердитым приговором:
– Кузен, вы в этом ничего не понимаете.
Ну что же, подумал Лабрюйер, если эти эмансипэ так отчаянно рвутся в мужской мир, чтобы выполнять мужскую работу, то дама-фотограф – еще не самое худшее, что можно вообразить. И, судя по физиономии, она пылает истинной и неподдельной страстью и к трехногому аппарату, и даже к четвероногому – павильонное фотографическое устройство опиралось на четыре ноги, намертво приделанные к платформе, а для камеры, чтобы ездила по нему взад и вперед, были устроены особые тоненькие рельсы.
Каролина высунулась из рабочей комнаты и спросила, где подручный. Лабрюйер ответил: он не знает, какими качествами должен обладать этот самый подручный, пусть кузина скажет – и если нужен мальчишка, то можно взять Пичу, его семейство будет счастливо, что парнишка после школы учится такому хорошему ремеслу. Каролина согласилась, и Лабрюйер привел Пичу.
Казалось, все устраивается очень даже неплохо. Однако был еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что Каролина курит папиросы, причем дешевые. Лабрюйер не выдержал и прочитал ей нотацию – приличный клиент, а в особенности дама, да еще дама с детишками, войдя в фотографическое ателье, провонявшее дымом, тут же выйдет и мало того, что не вернется никогда, так еще расскажет всем знакомым, что с «Рижской фотографией господина Лабрюйера» лучше не связываться. Опять же – голос от этих папирос делается какой-то скверный.
После нотации они расстались, сильно недовольные друг другом.
Лабрюйер съездил к жестянщику, привез вывеску, позвал дворника Круминя, тот притащил лестницу и с помощью своего старшего, Яна, укрепил вывеску над дверью. Госпожа Круминь вымыла в ателье полы – и со следующего дня можно было принимать клиентов.
Лабрюйер хотел расслабиться и отдохнуть.
Раньше он, пожалуй, употребил бы для этого стакан водки, круг копченой колбасы, потом – второй стакан. Но то было раньше – сейчас он не имел права напиваться до полного блаженства. Где-то далеко Аякс Саламинский, который, сам того не зная, втравил Лабрюйера во всю эту историю с фотографическим салоном, наверняка думает: с месяц, пожалуй, мой Аякс Локридский еще продержится, а потом опять начнет пить горькую. Нужно сделать все возможное, чтобы его разочаровать!
Лабрюйер очень хорошо помнил все мелкие пакости, которые устраивал ему бывший жандарм, ныне – агент контрразведки, когда они нанялись в антрепризу господина Кокшарова и исполнили в оперетке роли двух Аяксов. И, хотя в серьезном деле Енисеев его не подвел, настоящим доверием к нему Лабрюйер не проникся. Была одна безумная ночь, когда они действовали слаженно, прикрывая друг дружку, была! А потом вернулись недоверие, раздражение, даже злость. Хотя раньше Лабрюйер мстительным себя не считал, но желание проучить Енисеева угнездилось в душе и не давало покоя.
Водка, стало быть, откладывалась до лучших времен. А вот пиво…
Кварталы высоких, в пять и шесть этажей, рижских домов, выходивших на главные улицы, были великолепны – один дом краше другого, лепнина не повторялась, угловые башенки – одна другой причудливее, и кафель в подъездах – как в сказочном дворце. Но внутри такого квартала стояли как попало деревянные дома, в лучшем случае двухэтажные, окруженные цветничками и грядками, и к ним лепились всевозможные сараи и конурки. Квартира, которую нанимал Лабрюйер, как раз глядела во двор, и весной он, открыв окно, наслаждался ароматом сирени. Возле кустов стоял врытый в землю стол, при нем скамейки. Днем там сидели с рукодельем бабки, присматривая за играющими малышами, вечером собирались мужчины.
На подступах к дому Лабрюйера окликнул Акментинь:
– Добрый вечер, господин Гроссмайстер! Мне сегодня привезли бидон баусского пива! Могу предложить кружку!
Акментинь, городской латыш, имевший небольшую мастерскую, где вместе со старшим сыном мастерил ключи, точил ножи и чинил всякий кухонный скарб, котлетные машинки и мороженицы, обратился к соседу по-немецки. И по-немецки же Лабрюйер ответил, что охотно посидит с ним во дворе за кружкой пива. Хотя слово «кружка» было скорее символическим.
Десятилитровый жестяной бидон с дивным напитком из баусской пивоварни господина Барскова желательно было опустошить за вечер – деревенское пиво, покинув бочку, долго не могло стоять, портилось к третьему дню, да и пены давало мало, а пена – одно из великих удовольствий застолья.
Погода позволяла провести остаток вечера во дворе, за деревянным столом. Жена Акментиня вынесла сковородку с жареной кровяной колбасой, которую Лабрюйер не слишком любил – она на девять десятых состояла из разваренной крупы; сосед Лемберг, также латыш, также городской в пятом, если не шестом поколении, владелец бакалейной лавочки, принес хвост балыка и жестяную коробку с рыбными консервами; вкусный кисло-сладкий хлеб и свежайшее масло к нему принес хозяин обувной мастерской еврей Гольшмит, который пристрастился к пиву с юных лет; пожилой чертежник Сергеев выложил на стол кусок копченого сала; наконец, два фунта сосисок-франкфуртеров купил для застолья сам Лабрюйер. Разговор за столом шел самый подходящий – о превосходстве баусского пива над всеми прочими, а малых пивоварен в Лифляндской и Курляндской губерниях хватало, каждая чем-то могла похвалиться.
Увлекшись, собутыльники не заметили, как на стол бесшумно прыгнул кот госпожи Сергеевой. Он нацелился на гирлянду франкфуртеров. Бить кота не хотели, чай, не чужой, и разом закричали, хлопая по столу:
– Шкиц!
– Брысь!
– Фурт! Фурт фун тейгехц!
Прогнав животное разом на трех языках, мужчины допили пиво и замолчали – когда в животе два литра баусского нектара, это нужно вдумчиво осознать, а потом, опережая приятелей, прошествовать в «маленький домик», на дверце которого вырезано неизменное сердечко.
Потом Лабрюйер поднялся к себе и, разложив постель, встал у окна.
Он сам не знал, как это получилось: может, слишком давно не пел, а петь он любил, пусть даже в четверть голоса и без единого слушателя. И память подсунула голосу то, что полагалось бы забыть.
– Льет жемчужный свет луна, в лагуну смотрят звезды, – пропел Лабрюйер. – Ночь дыханьем роз полна, мечтам любви верна…
Проклятая баркарола!
Он проклял этот маленький сентиментальный шедевр Оффенбаха еще тогда, на штранде, поняв, что в жизни не осталось любви. Ночь была полна ароматом знаменитого белого шиповника, а Валентина Селецкая полна мечтаний о богатом кавалере – пусть не женится, пусть хоть так… Да и любил ли он Селецкую? Может, померещилось?
Что-то было, душа летела, голос звенел… Но как прикажете называть сорокалетнего мужчину, который, нанюхавшись белого шиповника, вообразил себя гимназистом, влюбленным в актерку?
А она, актерка, уехала вместе с кокшаровской труппой, и даже проститься не удалось – да и какой смысл в прощаниях? Сейчас Валентиночка, наверно, в Москве, отдыхает перед новыми гастролями, освежает гардероб – актриса должна одеваться модно. Иначе не завлечь богатого поклонника. Такова унылая правда жизни – актриске нужен мужчина, чтобы оплачивать расходы, так было всегда, так будет всегда, а муж он или не муж – после тридцати актриска мало беспокоится… она ведь уже не годится в хозяйки дома и матери семейства, и сама это отлично сознает, они помрет от тоски на кухне или в детской…
– Женюсь, – вдруг сказал Лабрюйер. – Мало ли женщин, которые после своего тридцатилетия поумнели и ищут благоразумного брака? Мало ли их – умеющих вести хозяйство и желающих материнства, а не корзин с цветами на сцене? Решено – женюсь.








