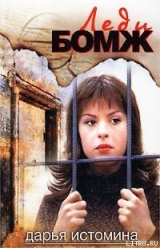
Текст книги "Леди-бомж"
Автор книги: Дарья Истомина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Ирка накрыла крышку палубного люка чистой скатеркой, выложила на стол хлеб, какую-то колбасу и доводила до ума на камбузе уху из рыбы, которую ей, как выяснилось, подкидывали рыбаки из местных браконьеров. Не за просто так, конечно. «Блядуем помаленьку… – призналась она. – Но не с каждым, конечно. Есть тут мужики на возрасте. Семейные, конечно… Оттянуться-то где-то надо? Вот они и заруливают, как бы на рыбалку, а по правде – ко мне…»
В общем-то, она устроилась тут не так уж плохо. Заняла каюту-люкс в палубной надстройке с невыдранными зеркалами, привинченным к полу столом, покрытыми лиловым плюшем диванами, креслами и выдвигавшейся из стенки кроватью. Барахлишко разместила во встроенных в переборки шкафах и даже завесила большие окна приличными занавесочками. В одно из окон был протянут кабель от столба на причале, от электричества работали потолочные плафоны, здесь стояла даже древняя радиола «Ригонда» с пластинками.
В одном из шкафов висело подвенечное платье из шифона, уже слегка зажелтевшее, с фатой, пронизанной золотыми нитями люрекса и идиотской искусственной лилией, долженствующей указывать на непорочность невесты. Как выяснилось, свадебного наряда Ирке так и не довелось надеть. В те дни, когда я жалко хлюпала носом на скамье в судейской клетке, Горохова, оказывается, уже таскала тайный плод, зачатый совместными усилиями с Зюнькой. В очередное замужество она перла, как танк в атаку, не предохранялась и рассчитывала дожать Зиновия и мамочку на ребенке, чтобы не отвертелись.
Свадебный марш в нашем загсе, думаю, для нее был наградой за ее усилия по упаковке и отправке на отсидку моей персоны. Наехала на Зиновия она, лишь когда меня загрузили в вагон с решеточками, а судья Щеколдина начала подгребать под себя мое имущество. Оказывается, Зюня поначалу ничего против наследника не имел и выразил полную готовность окольцеваться.
Однако выяснилось, что в семейные планы судьи Щеколдиной такой акт не входил ни с какого боку, отдавать в ее лапы сынка мадам и не собиралась. Двери той самой квартиры, где я лопала мороженое «роббинс» и примеряла бирюзу, перед Гороховой захлопнулись, Зиновий был отправлен на полгода к каким-то дальним родственникам в Новосибирск, Маргарита Федоровна отбила отчаянную атаку Ирки, нанесла визит к ее родителям и потребовала, чтобы они приструнили наглую девку, каковая, известная своим аморальным поведением, носит пузо неизвестно от кого. Перепуганные насмерть могущественной дамой предки то грозились карами, то умоляли Горохову абортироваться.
Но Ирка закусила удила. Ей казалось, что, как только она родит, Зюнька дрогнет при виде дитяти, а судья отступит под угрозой общегородского скандала.
Однако она слишком плохо знала Маргариту Федоровну. Родить-то она родила, но, во-первых, ее родители, по ее словам, наотрез отказались принять ее с нажитым ребенком. Во-вторых, когда она перебралась с детенышем в дальнюю деревеньку под Вышним Волочком, к бабке и деду, у которых была дойная корова и которые ее приняли, на двух машинах в ту деревню прибыли очень крутые мальчики с «голдами» на бычьих шеях и предупредили, что отныне ее появление вблизи Зюньки будет расценено как вызов со всеми вытекающими последствиями.
Впрочем, визитерами был предложен ей и конверт от неизвестного лица, с полутыщей баксов, на обзаведение, а главное, дальнюю дорожку. С тем, чтобы в городе молодой маманей и близко не пахло. Горохова деньги взяла. От денег она никогда не отказывалась. На эти баксы она умудрилась начать челночные операции, мотала в Польшу и даже в Турцию, реализовывала товар на рынках в Твери и даже добралась до ярмарки в Лужниках, так что в деревне бывала редко, и пацаненок рос на руках у бабки и деда.
Но с год назад пошла черная полоса. Сначала на территории Белоруссии автобус с «челноками», в котором ехала Горохова, был подчистую выпотрошен шоссейными бандюгами. И она разом потеряла все. Потом в одночасье помер дед, а через две недели и бабка. Покупателей на их избу не нашлось, Горохова заколотила двери и окна и начала потихонечку подбираться к родному городу.
Сначала устроилась кассиршей на железнодорожную платформу ближе к Дубне. А прошлой осенью определилась сюда, в затон. И наконец, вызвала своего Зиновия, втихую, конечно.
Щеколдин приехал на новой «тойоте» и впервые встретился со своим сынком. Разглядывал, по ее словам, чуть не под лупой его волосики, изучал ладошки и пяточки и сравнивал со своими лапами, заглядывал в ушки и бормотал:
– Вроде мое… А может, не мое?
Ирка утверждала, что рассвирепела, наорала на него и вытурила.
Но не совсем. Нынче раз в месяц Зюня конспиративно навещает ее, в постель не лезет, держится презрительно и отчужденно. Но привозит кое-что из еды, одежонку для пацаненка и не очень много, но денег. Так, по старой памяти, как бывшей постельной партнерше. Но предупредил, чтобы на людях, в городе, она не появлялась. Привозит и спиртное.
– Похоже, мадам знает, что я здесь… – безразлично сказала Ирка. – Может, ждут, когда я сопьюсь… Может, когда меня тут по пьяни дружки пришьют. Мне это как-то все одно теперь. Хрустнула я, подруга, и ничего уже не хочу.
Вот в это я не очень поверила. В каюте у нее был все-таки мощный набор дорогой косметики, наряды были сохранены, даже хорошая дубленка висела в шкафу и шапка из чернобурки, и когда она, оглядев меня ревниво, переоделась из своего сарафана и скрыла под симпатичным платьицем костистые ключицы, пробурчала: «Цвет лица в наших руках!» – присела к зеркалу и прошлась макияжем по своей бесцветной физии, я увидела почти прежнюю Горохову, на которую и мужички могли бы оглянуться не без интереса.
Вообще-то она была странной, и все здесь было странным. В чем-то она со мной опять темнила. Потому что у меня родилось ощущение, что, несмотря ни на что, для Ирки здесь какая-то временная стоянка, какой-то привал, где она дожидается неведомой мне перемены и готовится к очередной своей выходке.
Но может быть, я и ошибалась.
И еще мне на миг показалось, что слишком много она демонстрирует мне свою разнесчастность, как будто знала, что я найду ее, и заранее готовилась и репетировала, как вести себя со мной. Может быть, и ребеночек был выставлен на палубе, чтобы с ходу сокрушить мою гневную душу? Добиться милости? Или даже прощения?
Горохова наконец показалась на палубе, неся кастрюлю с ушицей, а под мышкой, – темную бутылку вина.
Разлила уху по мискам, наполнила кружки и сощурилась на солнце:
– Ну, со свободой тебя, Басаргина!
– Я пить не буду, – твердо сказала я. – И есть не хочу.
– Чего ж я тогда наизнанку перед тобой выворачиваюсь? – обиделась она.
Я полезла в свой пакет, вынула шариковую ручку, школьную тетрадку и положила перед нею.
– Давай, радость моя! Пиши!
– Что писать? – насторожилась она.
– А все, что знаешь… Как вы меня облапошили. Как Маргарита Федоровна операцию спроектировала. Как ты меня в капкан завела. Что было положено твоему Зиновию в тот вечер делать, что лично – тебе. Кто из вас, когда я дома дрыхла, эти цацочки приволок и в дедов кабинет засунул. Я так думаю, что это ты была, Горохова. Ты же в дедовом доме чаще, чем в своем, ночевала. Пила с нами, ела… Даже на нашем фортепьяно австрийской фирмы «Иванофф», работы тыща восемьсот какого-то там древнего года, «Собачий вальс» наяривала! Ты в дом забралась? В окно, что ли?
– Зачем в окно? У меня ключи были… Ты же их вечно теряла, – тихо сказала она.
– Вот так и пиши. Как свистнула у меня ключи. Чего боишься?
– Я не за себя боюсь… – вскинула она мгновенно проясневшие глаза. – Я за тебя боюсь, Лизка! Что было, то было, назад ничего не воротишь. Ты хотя бы представляешь, во что влезаешь?
– Разъясни.
– То, что они с тобой сотворили, для них это так… мелочевка. – Она говорила с трудом, похрустывая пальцами. – Тебя сколько тут не было?. Три года? Так вот, они и раньше не очень-то стеснялись, а теперь у них все схвачено. Куда ни ткнись – всюду они. Рынок, павильончики эти, даже супермаркет – ихний… Торговлишка оптом из контейнеров – тоже.
Ликеро-водочный в три смены водяру из левого спирта гонит. Земля, которая под дачи и коттеджи нарезается, – ихняя. Нефтебаза, все заправки – они. Обувная фабрика, порт, карьеры для песка и гравия – тоже они. Без них сам по себе никто и чихнуть не смеет. Тут азербайджаны пробовали укорениться, свое прихватить, «чехи», чечены то есть, крутились… Да те же вьетнамцы московские… Они всех вымели. Тут без тебя такие стрелки забивались, такие разборки шли! С гранатометами… Они свекровочку мою несостоявшуюся напрасно, что ли, над всем городом поставили? Мэр, поняла, не хер собачий! У них же команда! И похоже, крыша не только в области, в Твери то есть… Они в Москве сапогом двери открывают! Может быть, даже кремлевские… А чьи деньги они в наших четырех банках прокручивают? Ну, сама подумай, на кой черт в нашем вшивом городишке четыре коммерческих банка? А?
Я слушала молча. Потом кивнула.
– Значит, так… Пиши: «Чистосердечное признание от Гороховой Ирины…»
– Я Ираида по паспорту!
– «…от Гороховой Ираиды Анатольевны», год рождения и все такое… Кому – это я сама определю. Значит, дальше: «Находясь в трезвом уме и твердой памяти, без всякого постороннего нажима со стороны, исполняя свой гражданский долг, сообщаю следующее…»
Она долго смотрела куда-то мимо меня.
– Убьют ведь, Лиз… Тебе-то что, а у меня – ребенок…
– Пиши!
МЕНТЫ ВОЗБУЖДАЮТСЯ
Бывают сны как праздники. После них хочется петь и смеяться. Я заставила Ирку собственной рукой переписать признание в трех экземплярах, для страховки, потом выправила грамматические ошибки и воткнула, где положено, запятые. Эта грамотейка до сих пор писала «судейский произвол».
Словом, когда я спохватилась, что пора отчаливать, солнце уже село. Берега тут были окраинные, неофонаренные, только на севере, там, где город, отсвечивало зарево, и брести мне в темени было как-то не с руки. К тому же я только с виду держалась железно, в действительности нервничала от того, что Горохова может вильнуть и отказаться, и она действительно и виляла, и если не отказывалась, то дело поворачивала так, что меня сыграла в основном судья, а ее, бедную, заставили. В общем, я ее дожала, но устала так, словно мешки с мукой таскала.
Я осталась на «Достоевском». Но в каюту к Гороховой не пошла, она мне выделила подушку, одеяло и старый овчинный кожух, я постелилась на палубе на плоской крышке люка и наконец осталась одна.
Река шуршала камышами, было покойно и радостно от близких спелых звезд. Луна всходила поздно и не мешала звездам. Ангельская была ночь, теплая и мягкая, и сон ко мне пришел ангельский.
Я всю ночь летала. Но не одна, а с матерью. Как будто я уже взрослая, но мама берет меня за руку, как маленькую. Целует меня в губы теплыми мягкими губами, и от нее пахнет свежей мятой и скошенной травой, как будто она только с поля. Мы с нею стоим на высоченной горе, покрытой, как зеленым мхом, сплошным лесом, внизу в долине видны синие жилки речек и какие-то белые, как сахар, домики, И все это, оказывается, та самая Грузия, в которой я никогда не бывала. Вниз ведет дорога из белого камня, мать мне говорит: «Побежали?» И мы, задыхаясь от смеха, держась за руки, бежим что есть силы вниз, разгоняемся и вдруг взлетаем и парим в небе над горами, будто птицы, но нам не страшно, а весело.
Во сне я точно знала, что увижу море, то самое, Черное, на которое она меня так ни разу и не свозила, и я его увидела – на полнеба поднялся сверкающий темно-синий щит вод, над которым летали неизвестные мне громадные розовые птицы.
Потом – мы сидим с матерью на каких-то камнях на берегу ручья, она размыкает свои ладони, сложенные ковшиком, а в руках оказывается махонький живой ежик, серебристо-серый, с веселыми черными, как смородинки, глазками и дрожащим мокрым носиком. Такого я ждала от матери все детство и просила подарить мне его, но подарила она его мне только в этом сне.
Потом-то оказалось, что сон был в руку. Но до этого мне еще надо было дожить.
А в то утро я проснулась на палубе, закутанная в одеяло, вся в слезах. Оказывается, я отчего-то плакала. Но слезы были не горькими, а светлыми и легкими, от которых чувствуешь себя, отревевшись, очищенной, легкой, бездумно веселой, словно ничего похабного на свете не бывает.
Вылезать из угретого кокона мне не хотелось, но тут я услышала, что где-то внизу, в их каюте, плачет пацаненок. Я выждала, но он все скулил и хлюпал, я обозлилась на Ирку, которая никак не может проснуться, и побрела вниз.
На корабельной двери мелом было написано:
«Скоро вернусь!» Гороховой в постели не было, на стол были аккуратно выставлены упаковки с детским прикормом, пакеты с памперсами, стопка стираной и глаженой детской одежонки.
Искаженное личико промокшего дитяти привело меня в замешательство, но худо-бедно, я справилась с ним, обтерла попку, сменила памперс, погрела в ладонях и сунула ему в пастенку бутылочку с соской, наполненную детской смесью. Пацаненок заурчал и зачмокал, как насосик.
Вообще-то от Ирки я добилась чего хотела и делать на «Достоевском» мне было нечего, но и ребенка оставлять без присмотра было нельзя.
Я перетащила Гришуню на палубу, в его манеж с игрушками. И мы с ним начали знакомиться.
Развеселившись, он самозабвенно пытался объяснить мне что-то на своем еще птичьем языке. Такой птенчик с хохолком, толстенькими, похожими на крылышки у пингвиненка ручками и крепкими упругими ножонками.
Он то и дело издавал мощные индейские вопли, от которых закладывало уши, и, приседая, прыгал в манеже так, что тот только жалобно скрипел. Бесхитростно ликовал, радуясь сытости, солнцу, здоровенной живой игрушке, которую изображала я, и расплескивал это ликование, вопя во все горло. Так он пел. Неиссякаемая энергия переполняла его, и я впервые увидела, как он танцует. Позже я выяснила, что Гришуня может дать сто очков вперед всем и всяческим «брейкерам». Он мог отплясывать сутками, даже в полном одиночестве. Зрители его волновали мало. Он наслаждался сам собой.
Время летело как пришпоренное. И я как-то напрочь забыла, кто я теперь, зачем здесь и как оно там будет, в грядущем.
Ирка объявилась уже под вечер, когда Волга стала багрово-желтой от заката, над затоном поплыли клочья тумана и я переодела мальчика в теплый комби-незончик и шапочку.
Горохову привез на моторке здоровенный пожилой мужик в рыбацкой амуниции, причалил к внешнему борту, и она забралась на палубу по шторм-трапу, волоча за собой кукан с еще живой рыбой и сумку. В сумке стеклянно звякало, но Ирка была совершенно трезвой и злобно-веселой.
Она помахала вслед лодке рукой, поглядела на сонного ребенка и ухмыльнулась:
– Не умотал он тебя? С непривычки?
– Где тебя носило?
– Носило меня, подруга, на станцию рыбоохраны… Аж на острова! Должки собирала… Видишь?
На кукане висела пара метровых судаков и несколько красноперок помельче.
– Не скалься, как акула… Ну, надо было… Там у них прямой телефон есть. С городом. Вот я до Зиновия и дозвонилась. Прямо до аптеки. Мол, парнишка прихворнул, кое-какие лекарства нужны. Кашляет, значит, и температурит. Я так думаю, что на температуру он купится. Пришлепает сюда, никуда не денется. Как ни крути, но сам-то знает – его работы Гришка… Григорий, значит, Зиновьевич…
– Ты в своем уме, Ирка? Зачем?!
Она закурила свою «Приму» и похлопала меня по плечу:
– Не дергайся! И ничего не боись… Я-то раньше и не колыхалась! Потому как одна была… А теперь мы вместе. Они об нас подошвы вытерли, так что ж, так оно все и будет? Нетушки! Вот ты чего хочешь? Дом отыграть, барахлишко дедово, верно? Плюс моральная компенсация в виде суммы прописью! За моральную с них тоже содрать можно, будь здоров! А для этого что надо? Возбуждение процесса! Ты не думай, не такая я уж дура… У меня знакомый есть, наш городской, старенький адвокатишко, Абрам Григорьич Циферблат! Еврей, конечно, но умный, как змей. Я к нему шастала, когда хотела их насчет Гришки додавить. Только у меня ничего не завязалось, а у тебя-то, Басаргина, полный верняк! На тебя такую липу навесили – люди до сих пор шепчутся: дело темное! Только то, что я в твоей тетрадочке написала – каюсь, мол, и все такое! – этого мало. Мы Зюньку возьмем за жабры, он же слизняк, расколется! Получается – два главных свидетеля в отказ идут… Я и Зюнька! Какие-никакие, а законы все ж таки есть? Только знаешь, что я думаю? Если мы его расколем – Маргарита и не дернется. Она ж теперь блюсти себя обязана. Господи, да что ей ваш дом, когда у нее в лапах – город! А если еще и газетчиков свистнуть? Им только дай уцепиться! А тут ты – с совершенно поломанной автобиографией, внучка академического лауреата… И из-за чего? Вот увидишь, может, они и на мировую пойдут… Чтобы – никакого шухера!
Если честно, меня просто потрясла та злобная уверенная энергия, которую извергала Ирка Горохова.
– Только ты поначалу посиди где-нибудь… – прикинула она. – Не возникай. Чтобы он с перепугу не улепетнул…
– Вон там. Годится? – Я посмотрела на капитанский мостик над палубой. И покорно двинулась в укрытие.
Она заржала:
– Не суетись, подруга! Он же мамочки больше смерти боится… Прорезается только ночью. Чтобы – не дай бог! – никто не засек… Ему же даже видеть меня – запрет. Тем более Гришку…
– Ну и как ты представляешь весь этот процесс?
– А это уж позволь мне самой потрудиться! – Она сделала глаз с томной поволокой, прошлась туда-сюда походкой «от бедра», приподняла спереди юбку и задумчиво сказала:
– Вот трусики надо будет черненькие напялить… Прозрачненькие такие. Он от черненьких – просто балдеет. Ничего – прорвемся!
Мы переглянулись и прыснули.
…Весь идиотизм Иркиной затеи стал доходить до меня к часу ночи. Я корчилась на каком-то ящике на капитанском мостике, дрожа от речной сырости, и смотрела на мир сквозь дыру в парусиновом навесе. На причале лежали квадраты света, падавшие из иллюминаторов Иркиной каюты, поодаль чернела цистерна с мазутом. Я покуривала, то и дело ломая сигареты, и думала о том, что, случится, если Зиновий прибудет не один, а с какими-нибудь парнями. Хватит ли ума у Гороховой переиграть нашу комбинацию, или она попрет на рожон.
Вообще-то она меня удивила – готовилась к явлению Зюньки как к приходу долгожданного гостя. Накрыла стол свежей скатертью, выставила фужеры, тарелки и утятницу с умело приготовленным судачком в томате. Долго возилась с бутылками вина и водки, сливая жидкости в термос и перебалтывая их. Потом перелила эту смесь в тяжелый графин.
– А это зачем? – удивилась я.
– Его глушануть надо будет, – пояснила она. – Вообще-то у меня клофелинчик есть. Но от него уходят в полную отключку. А нам что надо? Чтобы был в полном и ясном уме. А вот ножки чтобы не работали. Чтоб не унесли его ножки-то… Убойная штука, проверено лично. Чуть-чуть водочки, чуть-чуть коньяку, херес и сухонькое. Получается вроде «спотыкача», песни петь можно, а вот встать с места – фигушки…
Манежик с Гришкой мы перенесли с палубы вниз, в соседнюю каюту, набросали в манеж подушек, закутали, мальчишка даже не проснулся.
Ирка долго перебирала платьишки в стенном шкафу, морщилась, откидывая белое, свадебное. Остановилась на длинном, до пят, халате с пояском, из зеленого атласа. Халат был немолод, но при тускловатом свете каютных плафонов смотрелся неплохо, а главное, открывал в шагу соблазнительно ноги и классно обтягивал великоватые груди.
Я обработала перед зеркалом щеткой и лаком ее прическу, взбив серые кудельки до пушистости, ресницы и бровки она навела сама, подумав, закапала в глаза атропинчику из пузырька, и ее гляделки странно и зовуще засияли и приобрели непривычную глубину от расширившихся зрачков.
– Годится, – констатировала она со злым весельем. – Во всяком случае, сразу он от меня не смоется…
* * *
Зиновий все-таки появился. Было уже почти два часа ночи, когда из-за цистерны засветили фары, на причал бесшумно вкатилась белая полированная «тойота» и из машины выбрался Зюнька, в попугай-ной расцветки спортивном пузырчатом костюме, белых кроссовках, с бумажным пакетом в руках.
Он еще озирался, когда на трапе появилась Ирка и защебетала:
– Ах, Зюнечка! А я уж и не надеялась…
– Где пацан? – Он отстранил ее и поднялся на палубу, она семенила за ним и лепетала что-то невнятное.
Я вздохнула облегченно – Зюнька был один.
Я все ждала, когда Горохова призовет меня к действиям, но ничего не происходило. Судя по тому, что я слышала и видела, уже выхаживая по мостику, Горохова разворачивалась по полной программе. Звякала посуда, тонко, с подвизгом, начинала хохотать Ирка, иногда басовито возникал голос Зиновия, но слов я не разбирала.
Время тянулось, как патока, вдруг неожиданно заиграла радиола, та самая «Ригонда». И пластинка была такая же старая, как и аппарат, – «Утомленное солнце…». Потом в каюте погас свет и квадраты его исчезли с пирса. Тут же снова включился, послышался звон битого стекла, какие-то вскрики.
Я скатилась с мостика, собираясь рвануть на выручку, но тут на темном трапе, шедшем под палубу, что-то застонало, захрипело, и Горохова, скорчившись, на четвереньках вылезла снизу и стала сильно кашлять и отплевываться.
Я приподняла ее под мышки, и она села, нелепо раскинув ноги.
Рукав халата был отодран, и из-под него белело ее плечо в глубоких царапинах. От Ирки жутко несло перегаром, но глаза ее были трезвыми. Вернее, один глаз. Второй был закрыт наплывом мощного фингала, черного от ресничной размазанной туши.
Из расквашенного носа стекали струйки крови, крашеный рот был надорван в уголке, и размалеванная помадой и кровью Горохова скалилась совершенно по-клоунски.
Она сплюнула в ладонь темным, рассмотрела плевок и ухмыльнулась:
– Слинять собрался… Что-то учуял. Между прочим, мы танго отрывали!
– С чем я вас и поздравляю, девушка… – Я пыталась обтереть ее лицо полой халата. Но она отвела мою руку.
– Ну, скотина… – вздохнула она хмуро. – Сначала свою пихалку выставил. И все больше – про любовь… А потом по морде! Вот тебе, Лизка, и вся моя «лав стори»… Думаешь, это в первый раз по морде?
– Могла и меня позвать…
– Зачем? Пойди посмотри… Я его не убила? А я хоть умоюсь…
Она поднялась, покряхтывая, бросила за борт парусиновое ведро на веревке и зачерпнула воды.
Когда я вошла в каюту, под ногами захрустели черепки разбитой посуды, один из плафонов тоже был разбит, а на диске радиолы с шипением крутилась пластинка.
Зюнька полулежал в кресле, запрокинув голову, и сначала я даже не разглядела, что во рту его торчит кляп, сделанный из занавески, мощно завязанный на затылке. На руках у него были никелированные наручники, а ноги по щиколоткам связаны тонким шнуром, тоже явно из занавески.
Все лицо Зиновия было залито чем-то темно-красным, и сначала я перепугалась до икоты, но потом поняла, что это Иркин судак в томате.
Горохова пришла почти сразу, сунулась к зеркалу, осторожно трогая пальцами отекавшее, как пузырь, лицо, потом взяла со стола графин, отхлебнула из него лихо и сказала:
– Почти все выжрал… Видишь? Иначе я бы его не удержала…
– Он что, действительно пьяный? И ничего не слышит?
– В зюзьку… Только он все слышит.
– А откуда у тебя наручники, Горохова? – по-настоящему удивилась я.
– Да заруливает тут ко мне один хмырь из гаишников, – с трудом шевеля губами, хмыкнула она. – Документы проверяет. Как бы. Забыл как-то, когда мундир снимал. А я и не напомнила. Между прочим, жениться предлагает! Не то что некоторые… Слышишь, Зюня? Жениться!
Зюнька дернулся, приподнял башку и замычал, промаргиваясь. Глаза у него были мутные и злые. Он приподнял руки и начал рассматривать наручники. Потом вскинул повязанные ноги и ударил ими об пол, пытаясь подняться.
– Тпрусеньки, бугаеночек ты мой… – сказала Ирка. – Не дергайся, больнее будет.
– Ну и что делать будем, Горохова? – очумело спросила я.
– Жрать будем. Напрасно я готовила, что ли? Бабахнем по стограммулечке, подруга! А потом проведем собеседование… Насчет того, кто кому обещал, кто кого облапошил и что изо всего этого в нашей счастливой жизни воспоследует.
Что-то я такой Гороховой не помнила – совершенно невозмутимой, напористой и опасной.
Она словно не замечала Зиновия, будто его здесь и не было, по новой переставила уцелевшие тарелки, выставила новые стаканчики и откупорила бутылку водки.
Я в полной растерянности ухватила веник и стала заметать осколки битого в угол, но она рявкнула:
– Садись! В ногах правды нет!
Я пожала плечами – этой Ирке было просто опасно противоречить. К тому же я видела, ей очень больно, и не только от Зюнькиных лап.
Я села к столу, Ирка налила по стопарику и сказала:
– А вот теперь ты со мной тяпнуть не откажешься – со свободой тебя, Басаргина!
Зиновий снова замычал, качая башкой и изумленно уставившись на меня.
– Вот видишь, он тебя уже узнает, Лизавета… – жуя, заметила Ирка. – Он у нас многое теперь узнает. А главное, мы с ним по новой знакомиться будем. Лично я. При помощи вот этого инструмента.
Она взяла со стола здоровенный кухонный нож, потрогала его осторожно за наточенное лезвие и с силой воткнула в столешницу. Нож запел, как струна, вибрируя.
– Ты про что это? – настороженно осведомилась я.
– А чего нам бюрократию разводить теперь, Басаргина? – задумчиво сказала Ирка. – Признается этот гад, подпишет, что положено, про то, как они с мамочкой тебя законопатили? Или не подпишет?.. Бумага – она и есть бумага! Они на наши любые бумаги свои накропают! С печатями! Тем более его мамочка главных чинов из Москвы постоянно к нам таскает! Даже депутатов! Стерлядку втихую половить, на сохатых поохотиться… Вон Зиновий при них постоянно отирается, задницу лижет… Верно, Зюнь?
Зюнька явно трезвел – во всяком случае муть в его глазах оседала, и они начинали светиться яростью, прозрачно-белой.
– Верно! – продолжала Ирка. – Когда я еще при них в невинных невестах ходила, мне ведь тоже позволялось этих самых всемогущих гостей на острова сопровождать. Под сестрицу Аленушку работала, в кокошнике, с косой привязанной и в сарафане! Чару вина белого на подносике подносила, за щечку ущипнуть какому-нибудь брюхатику, а то и за задницу – это пожалуйста! Помнишь итальяшек-коммерсантов, которые по мебели, Зюня? «Синьорита! Синьорита!» – а сам все под подол лапой норовит… И я терпела! Для дела же, для семьи, не помнишь, Зюнь?
Ирка заводилась все пуще и пуще, всплывало из прошлых ее дней с Щеколдиным что-то такое, чего я не знала и что, кажется, больно вонзалось и в Зюньку.
Я не поспевала за Гороховой, она засаживала рюмку за рюмкой, жадно, взахлеб, будто старалась как можно скорее оглушить себя.
– Так с чего нам волокиту заводить, Лизка? – вдруг вскинула она голову. – Вот он – он, сынуля, единственный и неповторимый, главная драгоценность у мамулечки! Она из-за него на все решится. Так что давай, сочиняй ультиматум! Как в кино про крутых! Что ее ребеночек находится в мрачных кровавых руках малоизвестных преступников… Пусть гонит наличку! И дом Панкратыча переписывает у нотариуса! На тебя! И – чтобы полное признание отцовства! Чтобы у Гришки в метрике законное отчество было.
– Не дури, Горохова… – Мне стало тошно. – Если про отцовство – она сразу поймет, что это ты…
– Ну и пусть понимает! Мы его так припрячем – ни одна ищейка не унюхает. Мало тут барж брошенных… А по течению пониже – целый дебаркадер бесхозный. А чтобы до мамочки дошло, что шутки – в сторону, мы к ультиматуму ушко приложим.
Горохова поднялась, пошатываясь, выдернула нож и пощекотала острием пухлое розовое ухо Зюньки. Он закрыл глаза и заскулил.
– А потом еще кое-что отрежем… Верно, Зюнечка?
Она ткнула острием в ширинку.
– Прекрати!
На лбу Зиновия крупным горохом выступал пот, он дергался. Я вывернула нож из руки Ирки и вышвырнула его за дверь.
– Жалеешь? Они тебя не жалели… – пробормотала она. – А кого они вообще жалеют, а?
Зюнька хрипел и задыхался, кляп, съехав, закрывал ему ноздри.
Я выдернула его, отшвырнула слюнявую тряпку, сняла полотенце со стены и хотела обтереть ему лицо.
Он отшатнулся и сказал хрипло:
– Суки бешеные! Вы что творите? Мы же вас по стенке размажем!
– Я так понимаю, Басаргина, что этот тип ничего не подпишет, а? – серьезно спросила Горохова.
– Отпусти меня! Ты! Алкоголичка!
– Ну что за народ эти мужики? – озадаченно вздохнула Ирка. – То ты у него почти что Мадонна или Шэрон Стоун с розочками в самых интересных местах, то алкоголичка…
Нужно отдать Зюньке должное – в общем-то так и не протрезвевший, оглушенный убойным пойлом Ирки, повязанный и беспомощный, он разглядывал меня с каким-то странным интересом.
– Ага… – наконец сказал он с кривой ухмылкой. – Значит, это все-таки ты…
– Что – я?
– Наш дом навестила. С мелкими дребезгами. Мать считает, что это кто-то, кому мы поперек глотки. Но я как-то сразу понял, кроме тебя – кто вот так, сдуру, сунется? Тебя же пристрелить могли, идиотка!
– Спасибо за заботу. Мне от ваших забот до сих пор икается…
– Ну а катер где?
– Какой катер?
– Ничего не знаешь, ничего не ведаешь, да? – поиграл он желваками. – Чего ты добиваешься, Басаргина?
– Правды я взыскую, Зиновий. Истины. Высшей справедливости.
– Чего?!
– Я дома жить хочу. В том самом доме. Который мой. Дедовы книжки читать. В кресле-качалке Панкратыча на верандочке кайф ловить. И мемуары сочинять, про былое и думы…
– Ну, ты ваше! – оскалился он.
И тут громко заиграла радиола. Музыка была знакомой, как старый гимн, – свадебный марш Мендельсона. Я вздрогнула и оглянулась. Горохова выглядела как белое привидение с ухмыляющейся рожей. Она успела напялить на себя свадебное платье и шляпу с лилией и фатой. Пьяная женщина – вообще зрелище не для слабонервных, а хмельная Ирка, одновременно извергавшая потоки жалостливых слез и хохочущая, была точь-в-точь ведьма.
– Вот теперь он никуда не смоется! – заорала она, пошатываясь и приплясывая. – Свадьба! Свадьба! Даешь свадьбу! Венчай нас, Лизка! Гражданин Щеколдин, согласны ли вы взять в жены гражданку Горохову?
– Да пошла ты! – сказал злобно Зюнька.
– Не хочет… – горестно всхлипнула Ирка. – А ведь обещался. Все обещаются, а потом не хочут… А я вот – хочу! Пусть у нас будет первая брачная ночь с музыкой!
Я оторопело смотрела на то, как она стянула свадебное платье через голову, сбив шляпку, но потом подняла ее и напялила снова на голову. Парадное бельишко на ней было действительно новенькое, полупрозрачное и черное. На поясе и подвязках, поддерживающих черные чулки, краснели идиотские цветочки. Она только казалась тощей – полная грудь, мощная задница, сдобная и чуть оплывшая, распирала кружевные прозрачности.
– Ты что, совсем свихнулась, Ирка?! – завопила я.








