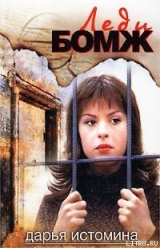
Текст книги "Леди-бомж"
Автор книги: Дарья Истомина
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Ну уж нетушки! Я не такая! Хоть какие-то признаки достоинства во мне еще остаются? Что-то свое, собственное, незаемное? Мы не рабы – рабы не мы!
Я ускорилась и понеслась…
Из кабинета – в светелку, чемоданишко со шкафа на пол, барахлишко внутрь, из светелки – к Гришке, сонная Арина захлопала ресницами перепуганно, но покорно пошла собирать его имущество, вплоть до бархатного тигра величиной с телка, дареного Элгой на его трехлетие, от Гришки – в ванные апартаменты, за мылами, мочалами, подмазками, чтобы отмыть от слез опухшую физию и быстро переодеться в теплую спортяшку из байки с начесом…
Перед зеркалами я на мгновение тормознулась. Стояла голенькая, ревизовала свое отражение, не без злого удовольствия. Вот это все – только мое, незаемное, и если придется выставлять на торги – уже есть чем торгануть!
Эти сто двадцать четыре дня не прошли бесследно. Усилиями заботливого Цоя я подкормилась, тренаж и пробежки тоже не прошли даром, ну и, конечно, все во мне проснулось, включилось и отозвалось – в общем, то, что я из полудевиц шагнула в нормальные женщины. Чего стесняться? Я расцвела… И уже мало чем напоминала ту селедочного типа шкидлу, которая впервые глянула в эти зеркала четыре месяца назад. Костлявые плечи плавно округлились, ребра пропали, под смугло-розоватой, безупречно чистой выхоленной кожей переливались выпуклости и струились впадинки, крепкие грудки налились и торчали врастопыр, увенчанные твердыми и алыми, как – губки младенчика, сосками. Пожалуй, чуть-чуть великоватыми были поплотневшие бедра, литые и мощные, но попочка подтянулась, и талию я могла свободно обхватить пальцами. И кажется, впервые я поняла, что прежняя дрынообразность, то есть высокий рост, – не помеха, а, наоборот, преимущество. Было на что лепиться плоти, соразмерно обтекающей мои мослы, и мои длиннющие ходули нынче смотрятся – ого-го!
На Афродиту, выходящую из пены морской, я, конечно, не вытягивала. Хотя любила устраивать себе в джакузи нечто мореподобное, соленое и с пеной. Но тем не менее как-то незаметно шагнула в какие-то новые измерения.
Правда, афродиты не скалятся в зеркало злобно, как собаки, увидевшие палку, у них не бывает красных и опухших от слез носов, и они не пялятся на свои отражения бешеными, потерявшими от ярости естественную зелень, темными и горькими глазами…
Я вступила в кабинет величественно и невозмутимо, упакованная уже по-дорожному, в шубейке и шапке, небрежно набросив шарф на плечи. Это чтобы он сразу понял – возврата не будет!
Туманский сидел перед камином, спиной к двери, полусъехав из кресла так, что я видела только его голую плешь. Ноги он задрал на решетку, грел, значит, над темнеющими угольями. Возле кресла валялся стакан и стояла полупустая бутылка. На мои шаги он даже не шелохнулся.
Я выложила на стол, помедлив, связку ключей, кредитную карту, мою смету, которую я прогнала на принтере, его золотую зажигалку, которую случайно прихватила вчера из спальни, шлепнула расписку и сказала:
– Это расписка. Я просчитала, во что вам обошелся ваш гуманный акт. Начиная с девятнадцатого июня сего года. С учетом инфляционных процессов… Он молчал.
– Я обязуюсь вернуть вам долг в течение шести месяцев.
Он даже головы не повернул.
– Под шесть процентов годовых. Он молчал.
– Вашу доброту я никогда не забуду! Век буду благодарить судьбу… – добавила я истово.
– Вали!.. – наконец хрипло сказал он. Но так и не обернулся.
Я свалила.
Чемодан я уже вынесла в вестибюль, но Арина с Гришкой еще не спустились. Только узел с его барахлишком, включая стеганое одеяльце, лежал на паркете. Наверное, она его одевала в дорогу.
Я хотела закурить, но тут услышала из-под лестницы костяной стук шаров. Внизу у нас, то есть теперь «у них», была роскошная биллиардная с тремя столами.
Мне стало обидно. Вот, я ухожу навсегда, а меня даже никто не провожает. Как будто ничего не происходит. Я решила, что нужно показать себя игрокам – пусть хоть кому-нибудь станет стыдно.
Игроков не было, свет под колпаком горел только над одним столом. Оказывается, это всего лишь Кен, сняв пиджак и оставшись в рубашке, с бордовыми подтяжками поверх, сам с собой гоняет шарики.
В биллиардной было приторно от его китайских сигарет, дымно. На зеленом сукне стояла бутылка коньяку и хрустальная пепельница. Я здорово удивилась. Кен никогда не оставался ночевать на территории. Всегда уезжал в свое жилище в Москве, ссылаясь на то, что старики плохо спят в посторонних постелях. Но впервые на моей памяти он застрял.
– А… это вы, – сказала я разочарованно.
– А вы-то с чего еще здесь курсируете? – Он смотрел на меня холодно, с какой-то внезапно прорвавшейся неприязнью. – Передумали?
– Нет!
– Тогда – всех благ!
Он отвернулся и сердито всадил кий в шар так, что тот с сухим треском вошел в лузу. Кен был непривычно груб, и было такое ощущение, что он будто выталкивает меня из-под этой крыши.
Когда гораздо позже мне пришлось вспомнить все подробности этого позднего вечера, я никак не могла понять, как я не разглядела главного – этот старец был не просто груб, он был напряжен, чего-то ждал и уже просто вычеркнул меня из окружения Туманского.
Во всяком случае, он ясно дал понять, что мне здесь делать больше нечего, так что я и сама невольно заторопилась.
Когда уходила из биллиардной, сработал сотовик Кена, и он сказал кому-то:
– Вы опаздываете!
«Шестерка» моя стояла в теплом гараже, так что греть мотор не приходилось. Дежурный механик и гаражный охранник дулись в дежурке в шашки, и охранник сказал мне:
– Далеко собрались, Лизавета?
– Отсюда не видно… – огрызнулась я. Но они привыкли особо не любопытствовать, открыли с пульта мне воротца, и я выехала.
Когда рулила к парадному входу, сквозь мглу и мелькание снежинок было видно, что дом темен, светились только пара окон внизу, остекленный пузырь крыши над кабинетом Туманского и оба его громадных окна.
Счастливый, что не надо спать, Гришунька, в теплом комбинезоне с капюшоном, похожий на гномика, гонял на трехколесном велосипеде по вестибюлю, а растерянная Арина в халате поверх ночной рубахи топталась и ничего не понимала.
– А как же я? Я как же? – испуганно спросила она меня. – Я же к Гришке привыкла!
– Я тебе позвоню… – многообещающе заявила я, хотя чего обещать-то? – Не боись, у тебя же контракт? Значит – заплатят…
В последнем я уже уверена не была. Но ведь расходы и на няньку числятся в долговой смете? Вот пусть Туманский и решает.
– Мама, мы слонов смотреть? – заорал Гришка. Букву "л" он еще не выговаривал, получалось «свонов», но лепетал он уже почти внятно, две недели назад я его возила в цирк на Цветном, на дрессированных слонов, и он теперь ими бредил и постоянно теребил и меня и Арину.
– «Своны» отменяются, парень… Придется нам теперь обходиться без слонов. Привыкай…
Он ничего не помял, я его взяла за шкирку и потащила в машину. Загрузилась, расцеловалась с Ариной и потихонечку двинулась на выезд.
И только теперь, когда дальний свет выхватил из поземки стальные ворота, до меня дошло – я не знаю, куда ехать…
Я машинально даванула на тормоза, «шестерка» взвизгнула покрышками по льду и стала.
Гришка полулежал позади, среди вещичек, закутанный поверху комбинезона в мохнатый шотландский плед, и глаза его становились сонными. В автомобиле он всегда отключался мгновенно, тем более что печка у меня работала мощно, и в салоне в минуту становилось тепло.
Я уткнулась лбом в баранку, бессильно свесив руки, и задумалась. Хотя именно с этого и надо было бы начинать. С «куда». Город был для меня закрыт. Если не считать прочего, хотя бы потому, что Зюнька может увидеть меня с Гришкой и – чем черт не шутит – заявить на него свои права. Вообще, видно, стоит все это забыть – наш с дедом дом, Щеколдиных, честную работу Чичерюкина и даже сегодняшнее рандеву с Нефедовым. Все мои хитромудрости рухнули в одночасье.
Обратиться к Клецову? После того, как я устроила ему такую подлянку, это будет просто мерзко. Хотя и теперь я была уверена, что Петюня лоб бы расшиб, но нашел какой-нибудь разумный и приемлемый выход. Но что-то во мне яростно восставало против такого варианта.
Осесть на зиму у Гаши в Плетенихе? Она-то, конечно, нас с Гришкой примет. Но что мне там делать в глухомани всю зиму? Корову доить, печку топить, играть по вечерам в дурачка с домочадцами и дрыхнуть от света до света на печи? Еще день-два, долбанут настоящие метели, проселок на Плетениху и лесные дороги завалит, снегами, и меня с моим «жигулем» напрочь отсечет даже от намека на цивилизацию. От возможности найти хоть какую-нибудь приличную работу. Я же не Ленин в Шушенском или Пушкин в Болдине, чтобы планировать всеобщее переустройство мира или сочинять сказки о попе и балде…
От одной тоски сдохну..
В Москву? К Козину? Но турфирмы, как утверждает Чичерюкин, больше нету, и он сам там кувыркается на подхвате…
И вообще, Москва меня пугала – там офис и службы Туманских, а вдруг, если прижмет, я не выдержу и поплетусь, как побитая, к тем, кого уже знаю и кто знает меня, и скажу «Спасайте меня, мужики!»
Но, главное, в Москве будет постоянно возникать Сим-Сим, и даже одна мысль о том, что он где-то рядом и я могу его увидеть, может поколебать мою несокрушимую решимость – его не было, нет и больше не будет!
Я будто гадальные карты раскидывала, прикидывая поэтапно «что было», «что будет» и «на чем успокоится сердце», и вдруг разглядела некую даму треф, у которой была физия незабвенной экспедиторши по торговле пиломатериалами из Калуги, той самой Софьи Макаровны, от которой я драпанула весной. Она сулила мне златые горы и реки, полные вина. Но прежде всего – работу!
О Калуге я знала только то, что там родился глухой космический пророк и ракетчик Циолковский, но решила, что лесных складов или фирм по торговле лесом там вряд ли слишком много и Софу я сыскать могу.
Выходит – в Калугу?
В боковик стоявшего «жигуля» кто-то поскребся. Это была овчарка. Собаки на территории меня прекрасно знали, и она не лаяла, а просто любопытствовала, куда это я собралась?
«Дворники» уже забило снегом, и они двигались плохо, я вылезла из машины. Охранник в романовском полушубке, ушанке и валенках, недоумевая, сказал мне:
– Ничего не понимаю…Ты уезжаешь или уже приехала?
Укороченный «калаш» висел у него под мышкой.
– Смываюсь! «Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет»…
Он ничего не понял, но попросил:
– Сигареткой сподобишь?
Я выудила пачку «Ротманса» с суперфильтром, угостила его и тщательно пересчитала сигареты, их оставалось девять штук, последний крик валютной роскоши, завтра придется переходить на моршанскую «Приму». И машинально глянула на часики, было ровно двадцать три ноль-ноль. Я уже двадцать раз могла вырулить с территории и заниматься своими размышлениями где-нибудь подальше отсюда, может быть, даже на своротке на трассу, но что-то непонятное удерживало меня здесь.
Может быть, это было предчувствие? Странное ожидание какой-то новой пакости. Или срабатывала в какой уже раз полная луна? Хотя ночное небо покрывала мутная пелена белесого снега, она висела над лесом призрачным серым кругом, и ее мертвенная харя будто прищурилась и помаргивала от снежной взвеси, которую крутил ветер. А может быть, это Главный Кукольник, развлекаясь и злорадно хихикая, решил, что все готово к новой гадости, непременным участником которой должна быть именно я, и все переиграл по новой, подергав за свои веревочки и еще раз показав, что все решения безмозглой куколки совершенно ничего не стоят и не имеют значения, когда решает Он…
Но смутная, неясная тревога, которая жила во мне весь этот день, начиная еще с безмятежного утра, ощущение какой-то сгущающейся и накатывавшей мглы, которая не имела никакого отношения к тому, что выкинул Туманский и что делала я, вдруг получило разрешение.
Первой это учуяла овчарка, взвизгнув и уставившись в сторону леса. Мы обернулись и успели увидеть, что со стороны чащобы летит багровая точка. Она летела не очень быстро, во всяком случае, мне так казалось, каким-то странным повиливающим рыскающим полетом, будто принюхивалась, прижимаясь к земле. Потом взметнулась и пропала из виду. Что-то скрежетнуло и сухо прошелестело над нашими головами, ушло в сторону дома и вдруг долбануло в дом.
Наверное, это продолжалось всего лишь какие-то секунды, может быть, даже доли секунды, но я успела не то чтобы понять – просто почувствовать, что это блеснувшее багровым и прошелестевшее нечто нацелено именно в Туманского, на освещенные окна его кабинета на третьем этаже, желтовато-теплые и громадные. Но попало оно не в окна, а чуть повыше, в подсвеченное снизу остекление фонаря на крыше, и в самую крышу.
Рвануло так, что я оглохла, охранник успел сбить меня с ног подсечкой и, раскинув руки, навалился сверху, накрывая меня Но еще до того, как над нами пронеслась раскаленная волна твердого воздуха, сдвинув машину и заставив кувыркаться собаку, я успела увидеть, как в крошеве металла и стекла вздыбилась нелепо крыша, выхлестнулись струи и рваные полотнища багрово-оранжевого и синего пламени, взлетела и стала расползаться шапка красного дыма, а свет в окнах мигнул и погас.
Почти сразу охранник вскочил, передернул затвор своего «калаша» и, матерясь, стал стрелять в сторону леса, хотя над оградой видны были только отдаленные кроны голых деревьев, тут же взвыла сирена на крыше сторожки (я и не знала, что она есть), включился и развернулся мощный прожектор на дальней вышке, и его синий луч уперся в дом, на который оседала, скрывая его, целая туча черного дыма, потом метнулся на чащобы, и вдруг туда, в ту сторону, с вышки почти беззвучно понеслись цепочки красивых разноцветных трасс.
Я поднялась с карачек и бросилась к дому. Последнее, что я успела увидеть снаружи: черный джип охраны уносился в открывшиеся ворота, на его подножке висел и орал что-то яростное Чичерюкин, в кальсонах, тельняшке на голое тело, валенках и каске на башке.
В вестибюле было темно, метались, сталкивались и что-то орали полуголые люди, воняло омерзительно горелым металлом и химией, на лестнице стояла и кашляла Элга в ночной пижамке, в руках у нее была свеча.
Я рванула наверх, в кабинет Туманского. Дверь была высажена и сорвана с петель, под ногами захрустело битое стекло, сильный ветер уже выдувал отсюда едкий дым сквозь провалы выезженных наружу окон, крыши тоже не было, сверху свисали какие-то ошметки и лохмотья и, как металлические кости, остро торчали остатки какой-то арматуры. Сильно искрили, раскачиваясь, оборванные провода, стеллажи с книгами были завалены, и я спотыкалась о книги, которые, как скользкие рыбины, покрывали паркет. Горело в трех местах: лениво вздуваясь, потрескивала штора на выбитом окне, огонь лизал бумаги на письменном столе и стену за ним, и безмятежно, будто ничего не случилось, потрескивали березовые поленья в камине.
Я приостановилась в замешательстве – помещение было загромождено битым стеклом: видно, крышу приподняло и обрушило вниз почти целиком. Толстые битые пластины его торчали остриями и лезвиями со всех сторон, льдисто отсвечивая, мелкие тонкие осколки утыкивали даже стены, и я сильно порезала руку.
Здесь все было покрыто потеками какой-то странной маслянистой копоти. И в горле першило не только от дыма, но и от мелкой, как пудра, известковой и кирпичной пыли.
Сим-Сим скорчился под опрокинутым на него креслом у камина У кресла была разворочена вся спинка, нелепо торчали какие-то щепки, ошметки обивки и щетина горелого конского волоса. Потом-то оказалось, что именно это старинное массивное кресло из мореного дуба, как щитом, прикрыло Туманского.
Когда я, поскуливая, кряхтя и напрягаясь, опрокинула его на ножки – сердце отчаянно и безнадежно стиснуло: он лежал, как-то странно и безжизненно подвернувшись, вниз лицом, и голая голова его была уже не голой, ее облепляло какое-то грязное месиво из крови и копоти, на макушке и сбоку скальпа вздувались пузыри ожогов, но он был живой, он дышал, булькая горлом и хрипя.
Я опустилась на колени и осторожно повернула его.
Лицо его было темным и серым, как глина, веки сомкнуты. Но самое дикое – из правого плеча нелепо и остро торчал, как лезвие кинжала, тонкий обломок стекла длиной почти в полметра, чистенький и прозрачный, прошпиливший материю костюма и плоть с какой-то сатанинской аккуратностью. На губах пузырилась черная кровь.
Все отлетело куда-то, унеслось, растворилось… И было уже неважным.
Важным было одно: его кровь и ему – больно!
И где они все – соратники, подельники, друзья и слуги?!
Я заорала.
Он открыл глаза, долго разглядывал меня, морщась.
– Достали они меня, Лизонька… – прохрипел он. – Видишь, все-таки достали! Такие пирожки с котятками… Ты знаешь что? Ты прости меня.
– Заткнись! – сказала я.
За спиной захрустело. Кен стоял в дверях, лощеный, изысканный, безупречный – на пиджаке ни пятнышка, крахмалка сияла белизной, он покуривал, невозмутимо разглядывая дымящееся пепелище. Ну, конечно, в биллиардной – как в бомбоубежище, туда ничего не добралось.
– Похоже, из гранатомета, а? – задумчиво сказал он. – «Муха» или «Шмель»? Да нет, полагаю, кое-что серьезнее… Может быть, даже «Фагот»? А я ведь предупреждал тебя, что-то готовится…
– Вы бы, Кен, сначала поинтересовались, жив человек или нет?! – зябко ежась, крикнула я.
– А я и так вижу. Он ведь у нас… бессмертный…
Может быть, мне показалось, но что-то мелькнуло в его голосе. Какое-то неясное, дружеское сожаление.
– Больно… О, черт! Как больно… – скрипнул Сим-Сим зубами.
И потерял сознание.
– Господи! «Скорую» давайте!
– Уже едут. Я вызвал Только не «скорую». У нас свои врачи… Специфика, таете ли… – сказал Кен. – И вообще, Лизавета Юрьевна, я бы вас очень попросил Здесь ничего особенного не произошло. Нормальный бытовой пожар в загородной резиденции. Ликвидированный собственными усилиями – Всего лишь элементарный несчастный случай! Это в его интересах. В ваших тоже.
– В моих? – не поняла я.
– Полагаю, теперь вы не собираетесь нас сызнова покидать? Это ведь так трогательно и полезно – прекрасная дева у постели почти павшего воина!
Кен уже почти не скрывал досады.
– Вы – против?
– Я умываю руки.. – усмехнулся он. – И надеюсь, когда-нибудь вы сами поймете, что именно сегодня вы могли избавиться от многих грядущих бед. Быть рядом с ним становится слишком опасно.
– Но вы же – рядом?
– Я друг, – пожал он плечами. – А что навечно. Во всяком случае, для меня.
Это был совершенно идиотский разговор – потрескивая, догорала штора на окне, ветер разносил со стола пепел от сгоревших бумаг, густо дымилось зеленое сукно столешницы, ледяной ветер заносил сквозь пробоины снежинки, на стенах проступала густая рябь от осколков, капала из моей порезанной руки на голову Туманского и смешивалась с ею кровью моя кровь, меня запоздало начинало трясти от ужаса, а Кен задумчиво курил свою китайскую сигаретку, и свет луны, смотревшей сквозь исчезнувшую крышу, делал синеватой его седую голову.
– Не шевелите его, – сказал он. – Вы же ни черта не соображаете. Могут быть переломы, внутренние повреждения, кровотечения… Я принесу коньячку…
Он ушел, и почти тотчас же возник Чичерюкин, уже в полушубке внаброс на плечах, тащил в руках автомобильный огнетушитель, спросил: «Не кокнули?», вздохнул облегченно и начал поливать пеной догоравшее.
– Кто это был? – спросила я.
– А хрен его знает… Не достали мы их! Ушли! – сплюнул он. – Похоже, знаешь, что каша варится по новой, вкрутую! При Викентьевне такого не бывало! Учуяли слабину, падлы…
– По слабым не палят!
– Много ты понимаешь, барышня! – фыркнул он. – Слабый, сильный, главное – не свой.. А чужих всех мести положено! Или хотя бы страху нагнать! Чтобы не колыхались… Я прокололся, мои мужики, чего уж тут. Но ничего, ничего… Еще не вечер! Вот увидишь!
А я и так видела – получил поддых наш безопасник, и оказалось, все его старания, вся его служба – тьфу, да и только!
ЖИЗНЬЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ ЖИВУЩИЙ!
Начиная с той дикой ночи в конце октября время ускорилось, подхлестнулось и понеслось вскачь, словно пришпоренное безумным наездником. И навсегда пропало – во всяком случае, для меня – ощущение размеренной, безмятежной и лениво-будничной жизни. Оказалось, что все это лишь оболочка, видимость, как черный лед на нашем пруду Он выглядел крепким и надежным, особенно когда наметало снегу, но никто через пруд не ходил, потому что все знали – со дна постоянно бьют мощные ключи, пролизывают ледяную скорлупу, истончают и не дают ей окрепнуть, и лишь время от времени круглые, как язвы, полыньи, желтые пятна непромерзающих промоин показывают: не вздумай ступить, булькнешь – и с концами…
Пожалуй, впервые я поняла, что Большая Монета для людей, которые ее имут. – это еще и вечное проклятие, постоянное ожидание удара исподтишка, не просто пакости – пули или чего-нибудь похожего.
И так же впервые я содрогнулась и прониклась запоздалым уважением, когда догадалась, что Туманская существовала в режиме этого постоянного ожидания удара от тех, кто запоздал к Большой Дележке или преуспел, но остановиться уже не мог и старался оттеснить ее на зады деловой жизни или просто смести и уничтожить. Но, насколько я могла судить, она умела не просто держать удар, но и упреждала его и всегда вовремя огрызалась и переходила в атаку, и похоже, что кто-то именно из тех, кого она сокрушила, решил, что время пришло, и долбанул по Сим-Симу.
Несколько дней я думала о том, что, может быть, это возбудились Щеколдины, и весь этот ералаш – дело Зюньки, но потом поняла, что это у меня просто с перепугу, я как персона для них ничего не значу, для Сим-Сима они тоже – мелочь пузатая, и никакой связи между тем, что стряслось на территории, и тем, что они творили в городе, нету.
Наутро после долбежки я скурсировала в лес, поглядеть, что там и как. Оказывается, что неизвестные злодеи, расположившись в дубняке, пальнули по дому не с земли, а с дощатого помоста, закрепленного на сучьях на высоте метров в десять. Чичерюкин, мрачно посасывая сигаретку, следил за тем, как эти доски охранники скидывали с дерева вместе с какими-то оптически-боевыми железяками, а у его ног валялась здоровенная закопченная ствол-труба военного цвета.
Припорошенная снегом палая листва была затоптана, чуть поодаль валялась наскоро сколоченная лесенка, по которой эти сволочи влезали на верхотуру, а Чичерюкин вертел в руках порожнюю бутылку из-под водки. Еще пара пустых бутылок валялась на земле, и их обнюхивала служебная овчарка. Оказалось, что след она взяла еще ночью, но довела только до проселка, где эти гады сели в ждавшую их машину С земли дома не было видно, только ограда, но с верхотуры, конечно, просматривалось все. Напрямую отсюда до дома было почти полкилометра, но всадили они точно.
– Чуть бы пониже, не в крышу, а в окна – и «Умер наш дядя, а тетя рыдала…», – злобно сплюнул Чичерюкин. – Эта хреновина в Чечне опробована, от любого танка – зола! Согласно принципу реактивного движения. Судя по тому, сколько выжрали, их тут не менее трех голов кувыркалось. А вмазали лихо, видать, не впервой… Спецы! «Кубанская», видишь, а закусывали докторской… Мерзли, значит, дожидаючись. А курили «Петра Первого», с фильтром…
Он бросил бутылку под ноги.
– А зачем так? – удивилась я. – Снять надо же отпечатки пальцев…
– Ты поменьше про Шерлока Холмса читай. Проверено. Нету тут никаких отпечатков! – усмехнулся он – Судя по всему, заезжая бригада. Гастролеры. Исполнили арию – и с концами! Может, уже где-нибудь в Сочах цинандали кушают…
– Если заезжие, как же они знать могли, что Туманский именно на месте, да еще точно – в своем кабинете? – удивилась я.
– Понимаешь… – кивнул он. – Вот и у меня от этого самого – сплошная мозговая чесотка… И так выходит, что сидит где-то в нашем гнездышке какой-то дятел, постукивает. Протечка вышла, Лизавета… Мой прокол!
Он говорил сдавленно, негромко и был совсем не похож на себя прежнего – грубого и уверенного.
Но действовал он стремительно – в двадцать четыре часа вышиб почти всех прежних охранников, сменив на новых парней из какого-то московского частного охранного предприятия, установил жесткий проверочный режим для каждой автомашины, въезжающей на территорию, для чего обзавелся очень дорогой спаниелькой, натренированной в питомнике на запах пластита и иной взрывчатки, которая постоянно дежурила на воротах и ежедневно по утрам обходила дом и нюхала все углы от биллиардной, кухни и до туалетов, и теперь круглосуточно территорию по периметру с внешней стороны объезжали вооруженные патрули на финских снегоходах, оснащенные приборами ночного видения.
Как-то я услыхала, что для Сим-Сима заказан новый «мерс», очень дорогой, бронированный, почти президентский, но на фирме в Германии на эти автомобили большая очередь, в связи с заказами от всяких арабских шейхов, чернокожих монархов и диктаторов и прочих кокаиновых королей. Но в основном – от россиян, таких, у которых задницу подпекает, но которые могут платить почти столько же, сколько те же шейхи.
Туманскому пока «мерсы» были не нужны, ни прежний, ни новый. В каком-то закрытом военном госпитале в Москве, куда его увозили в ту ночь и куда меня не допустили, он пробыл всего неделю, потом его вернули на территорию, но уже не на носилках, а самоходом, и он, грузно опираясь на палку, шипя от боли и ругаясь, проковылял в спальню и засел там, только приказал поставить компьютер и телефоны. Плюс, конечно, портативный бар-холодильничек с выпивкой.
Сим-Сим выглядел жутко: обожженная и подранная голая голова была пятнистой и разноцветной, в пластырях и наклейках, в розовых отметинах подживавшей молодой кожи и коричневых корочках на содранных местах. К тому же башку ему густо промазали какой-то желтой мазью, и она лоснилась, как у тюленя, только что вынырнувшего из воды. Стеклянный осколок, пробивший его правое плечо, проник глубоко, но, к счастью, до легкого не достал и прошел в каких-то миллиметрах от артерии, но рана была глубокой и заживала плохо, так что сквозь бинты еще торчали идиотские дренажные трубки, и приглашенная медсестра, поселившаяся у нас, дважды в день делала перевязки и вгоняла лошадиные дозы антибиотиков. Когда его вышвырнуло из кресла и оно падало на него, накрывая сверху, он сильно ударился коленом о литую каминную решетку, и коленная чашечка треснула, так что теперь он щеголял гипсовым наколенником и обходиться без палки или костылей не мог. Что его больше всего и бесило.
Во время взрыва он кокнул свои обожаемые стеклышки и теперь носил большие очки в массивной оправе, которые ему не шли и в которых он становился похожим на филина. Лицо ему, конечно, отмыли, но из-за мелких порезов и ссадин он бриться не мог, и его возраст вдруг явственно обозначила густая, совершенно старческая неряшливая седая щетина, лишь кое-где пробитая рыжими волосиками. К тому же во время взрыва этого мощного дерьма его так долбануло волной и звуком, что он оглох. Почти начисто. Мне сказали: это что-то вроде контузии и пройдет со временем. Но пока ничего не проходило, и он орал так, словно командует парадом на Красной площади.
Я орать не могла, к тому же были вещи, о которых не стоило громыхать на весь дом, чтобы слышали посторонние.
Он это сразу же сообразил, и мы стали переписываться, используя блокнотик. Лишь иногда он присматривался к моим губам, пытаясь понять, что я говорю, криво ухмылялся и хватался за шариковую ручку.
В первый же вечер, когда его вернули из госпиталя, я написала: «За что и зачем ты меня вышибал?»
«Спящий в гробе – мирно спи, жизнью пользуйся, живущий!» – ответил он.
«Не виляй!»
«Меня „заказали“».
«Кто?»
«Еще не знаю. Есть „братки“. Есть другие. Много».
«Я с тобой. Всегда».
«Зачем?»
«Идиот!» – написала я.
– Дура! – заорал он.
Медсестра, возившаяся со шприцами в дальнем углу спальной, перепуганно ахнула и оглянулась.
Но мы уже ржали, стукаясь лбами.
Наверное, для того, чтобы понять, что для тебя значит человек, нужно вот такое – когда его могло не стать и он больше бы не был. Все мои закидоны и соображения куда-то улетели, растворились в этом каком-то новом счастье – он есть!
И все стало совершенно иным, все приобрело совершенно другое, неизвестное раньше значение. Каждый день, каждый час, каждая минута теперь для меня были просто драгоценными, и, кажется, я впервые поняла, что любить – это прежде всего не брать то, что щедро и безоглядно дают тебе, но отдавать. Всю себя, до донышка, не задумываясь, что там в остатке, ничего не оставляя на завтра, ничего не просчитывая и не прикидывая. Кажется, я мощно и безоговорочно поглупела, просыпалась с ощущением какого-то бесконечного солнечного праздника, ликования и ни от чего не уставала, как будто меня подпитывал какой-то новый источник могучей, неиссякаемой силы.
Элга посматривала на меня с неясным удивлением, но как-то за завтраком не выдержала и сказала:
– Это явление метеорологическое, климатическое или гинекологическое?
– Что именно?
– Я вынуждена признать, что вы похорошели. – Она задумчиво выпустила перед собой струйку табачного дыма и рассекла ее пальцем. – Распустили лепестки, как майская розочка, несмотря на то что скоро Рождество. От вас исходит запах улыбки. И я уже не наблюдаю шипов и колючек, которые недавно вы мне не без успеха демонстрировали. Вы припрятали клыки и втянули когти.
– Очевидно, меня хорошо и вовремя кормят и дрессировщик неплох! А?
– Кажется, вас готовят к большому аттракциону? И когда вы полагаете выйти на манеж в нашем идиотском цирке?
– Понятия не имею…
Элга унюхала точно – Сим-Сим явно переводил меня на какой-то новый уровень. И по-моему, все это было как-то связано с ночной бомбардировкой. Во всяком случае, вел он себя со мной совсем не так, как раньше. Сам он в Москву не выезжал, да и не смог бы, пока не залижет свои героические пробоины и ожоги, тем более что это бы вызвало ненужное любопытство (шухер в доме подавался как взрыв бытового газа в одряхлевшей системе, которая дала протечку), ремонтники в три дня накрыли крышу новым стеклянным колпаком, и снаружи дом уже смотрелся так, словно ничего не случилось.
В самом кабинете работы было невпроворот, я как-то заглянула, и новое остекление мне не понравилось, оно было тонированное, дымчатое и меняло цвет и прозрачность в зависимости от солнца, пригашая яркость; от этого казалось, что это не комната, а аквариум, заполненный зеленоватой водой. Окна ставили новые, с тройным остеклением, бронированные. Кажется, бронированным был и колпак.
Туманский вышибал меня в главный офис каждое утро, составлял писулечки, что и как я должна делать и с кем встречаться в течение дня, я вымачивалась и не успевала каждый вечер возвращаться из Москвы, и как-то так вышло, что я стала застревать там на недели и приезжала к нему только по выходным.








