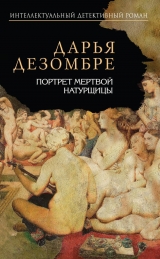
Текст книги "Портрет мертвой натурщицы"
Автор книги: Дарья Дезомбре
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Андрей
– Это еще ничего не значит, – упрямо сказал Андрей, рассматривая паспортные фотографии одалисок. – Я вообще не совсем понимаю, зачем ты это сделала! И заметь: такие пухленькие девицы пользовались спросом в 1848 году, но не в ХХI веке! Если б вдруг кто-то предложил их писать, они б сами прибежали, и похищать не нужно!
– Андрей! – насупилась Маша. – Я не знаю, что с тобой происходит, но, пожалуйста, вернись в нормальное состояние! Девушек похитили, и они служили убийце натурщицами! Я еще не знаю, почему он их убивает – возможно, избавляется от свидетелей, но сходство явное! Далее: у нас есть еще три одалиски и несколько сот пропавших за последние месяцы женщин. Если мы сравним фотографии «потеряшек» из базы данных…
– С лицами одалисок, обработанных тобой в «мордодельне», и найдем пары, то узнаем, кто будет следующей, – медленно закончил за нее Андрей.
– Именно! – облегченно выдохнула Маша.
– Тогда, вычислив из «потеряшек» нужных нам девушек, мы сможем поставить у них дома засаду, – быстро соображал Андрей. – Маньяк «возвращал» жертв в их квартиры примерно раз в месяц – три недели, значит…
– Пока это ничего не значит, – покачала головой Маша. – Их было слишком мало, чтобы рассчитать математическую функцию… И потом – этого недостаточно. Ждать, пока он их убьет, Андрей.
Он помрачнел:
– Ты лучше меня знаешь: иногда приходится ждать новых жертв, чтобы подобраться к маньяку.
– Верно, – кивнула она. – Но мы должны хотя бы попытаться подойти с другого бока. Чтобы успеть спасти оставшихся… – умоляюще посмотрела на него Маша.
– Идеи? – поднял бровь Андрей.
– Рисунки! Понимаешь, они не дают мне покоя! Если даже специалисты по Энгру не заметили подлога, значит…
– Значит?..
– Значит, они очень хорошего качества, Андрей. Положим, маньяк и человек, совершивший подлог в музее, – одно лицо (а это, согласись, очень вероятно), тогда выходит, что он прекрасный художник, так?
– Так, – Андрей смотрел на Машины сомкнутые брови, а она смотрела сквозь него, как всегда, когда прокручивала в голове цепочку рассуждений.
– Нам необходимо запросить у французов копии набросков, подложенных в хранилище музея. Если копии настолько хороши, то и художник должен быть известен хотя бы узкому кругу лиц, которые могли бы опознать его манеру письма. Мы должны обойти с ними всех, кто разбирается в рисунке середины ХIХ века: оценщиков для экспертизы на элитных аукционах типа Сотбис, коллекционеров, музейщиков…
– Хорошо, – перебил он ее. – Тогда я буду портить глаза в поиске подходящих нам «потеряшек», а ты иди, нарой своих экспертов и музейщиков.
– Я могу остаться с тобой, вдвоем проще будет заметить сходство, а потом уже пойти по антикварам…
– Нет, – снова опустил взгляд в бумаги Андрей. – У тебя глаз с раннего детства замылен этими «Турецкими банями». И с антикварами без моего молчаливого присутствия ты проще найдешь общий язык. Не говоря уже о комиссаре, у которого ты собираешься запрашивать копии.
– Хорошо, – Маша переступила с ноги на ногу, вопросительно посмотрела на Андрея.
– Да? – спросил тот еще более суровым тоном.
– А вчера я не позвонила, потому что убежала с концерта, чтобы убедиться в том, что мне не показалось – жертвы действительно…
– Ты ушла с концерта? – перебил он ее, преувеличенно удивляясь, а в душе зачиналось что-то вроде розовой зари, и впервые почти за сутки чуть-чуть отпустило.
– Ага, – Маша кивнула. – Я знаю, что безумная, все-таки Мацуев и «Аппассионата», но…
«Ничего-то ты не знаешь», – думал Андрей, и в душе параллельно с зарею запела, похоже, свирель.
– Ушла от Пети прямо посреди концерта? Публику перешугала? Ноги небось куче народу отдавила… – вкрадчиво начал он, и Маша болезненно поморщилась.
– Да, и с Петей неудобно получилось, надо будет ему позво… – Но Андрей вскочил, вытащил ее за руку в коридор, где, зайдя за угол, прижал к себе и прошептал в прохладный белый висок:
– Невежда, грубиянка ты, Мария Каравай! Петю бросила, Андрюше не позвонила, роковая ты женщина! Все мысли – о маньяках, а нам, простым смертным, не дотянуться, чего уж там…
Маша тихо что-то прошептала ему в плечо, и он поднял ее лицо за подбородок:
– Что?
Она улыбнулась смущенно:
– Соскучилась я по тебе, вот что!
* * *
Она его очень любила – это Перрен понял сразу, только склонившись над телом в ванной. Из кровавой воды выступало бледное величественное лицо с закрытыми веками. И в этом лице было страдание, торжественное и величавое, потому что погибшая Матильда предпочла смерть истеричному заламыванию рук и бабским слезам.
Эксперты проверяли комнату на отпечатки, но Перрен знал: здесь не убийство. И если бы ему было сентиментальные двадцать, а не побитые жизнью пятьдесят, он бы мог поспекулировать на эту тему в романтическом ключе: мол, убийство, но более изощренное. Нелюбовью.
Он попросил позволения у монтобанских коллег почитать дневник, который мадемуазель Матильда Турне вела, похоже, еще с отроческих лет. Потрясающая дисциплина для нашего века, полного новых технологий, позволяющих с много большей легкостью и простотой потратить свободное время. Впрочем, – Перрен огляделся – компьютера в квартире не наблюдалось. Комнат было две: одна – спальня, вся в мелкий цветочек, с аккуратно застеленной девичьей кроватью и томиком Толстого на тумбочке в изголовье. Вторая служила гостиной и столовой: синяя скатерть на большом столе, темного дерева массивные стулья: спинки и сиденья обиты темно-красной кожей. Тяжелый буфет – в нем китайские вазы, бело-синие, явный антиквариат. На стенах фотографии и пастель, изображающая задумчивую девочку лет четырнадцати с букетом полевых цветов на коленях. При известном допущении девочкой могла быть сама мадемуазель.
Перрен вздохнул. В этом возрасте Матильда была уверена, что жизнь откроет для нее свои объятия, и там будут любовь, и шумная веселая семья, и путешествия в дальние страны. Но жизнь обманула: ни семьи, ни мужа у мадемуазель не случилось. Путешествовала она в основном в своем воображении, схоронила родителей, получила небольшое наследство и тихо его проживала, не изменив своим привычкам: утром в музейный архив, вечером – из музейного архива.
Но любовь Матильду все-таки настигла, когда ни она, ни кто другой и предположить не могли этакого взрыва чувств. Мадемуазель скрывала свою позднюю страсть от всех, доверяя по юношеской привычке только дневнику.
Перрен, усевшись в углу на один из темно-красных стульев, неспешно перелистывал страницы толстой тетради. Буквы были круглыми, четкими – так писала шестидесятилетняя дама, чей почерк еще не испортила клавиатура.
Итак, Андре – молодой человек (для Матильды молодым человеком мог быть любой в возрасте до пятидесяти, отметил про себя Перрен), приехал аж из Владивостока, чтобы полюбоваться на шедевры Энгра. Что не могло не потрафить Матильде – в Монтобане редко встретишь русских, это вам не авеню Монтень в Париже. Андре со своей доской для рисования примостился на складном стульчике в одном из залов Энгра и копировал картины.
И вот однажды, заглянув через его плечо, Матильда замерла на месте: Андре был очень, очень талантлив. Более того, плюс к обаянию талантливой личности он был тонок (они беседовали через его русско-французский разговорник искусствоведа). Он – ей: «Какая линия!» Она – ему: «А вы заметили изящество растушевки?» В общем, родственные души сразу узнали друг друга, а Перрен со спокойной душой пропускал искусствоведческие пассажи.
Потом Андре пригласил ее в местный ресторан – к этому моменту Матильда и сама купила свой вариант разговорника – франко-русский, а к нему старое, почтенное издание Достоевского и Толстого в переводе Шарля Мориса и Ирины Паскевич соответственно. Два почтенных классика русской литературы уже означали начало женского интереса.
В ресторане Матильда учила Андре расправляться с фуа-гра (слегка поджаренный тост из деревенского хлеба, свежемолотый перец, а теперь попробуйте с фиговым конфитюром), они разговаривали об Энгре и не только – еще о Рембрандте, Делакруа и Коро. Андре уговаривал Матильду приехать в Петербург и посмотреть на эрмитажную коллекцию, которую мадемуазель всю жизнь мечтала увидеть, да так и не собралась. Они пили отличный сотерн и редкое бургундское, и Матильда боялась за содержание своего кошелька: такого уровня вино она не пробовала уже лет десять. Но Андре оказался настоящим джентльменом – все оплатил, да еще, оставляя щедрые чаевые, добавил (в качестве дополнительного десерта), что она – удивительная женщина и он счастлив, что с ней встретился.
Они были уже весьма подшофе, когда он предложил романтическую прогулку по ночному музею. И Матильда, неожиданно для себя самой – согласилась! Тем более – ресторан находился совсем рядом, охранником в этот вечер был Сильван – они с Матильдой знали друг друга уже лет двадцать! – и он пропустил мадемуазель и «директора Эрмитажа» (так она, хихикнув, представила Андре для солидности) внутрь. А дальше – еще волшебнее: ночь, гениальные рисунки Энгра, живые, у них в руках, шепот, шелест страниц франко-русского разговорника, тепло от вина, тепло от присутствующего рядом Андре. Самая волшебная ночь в ее жизни.
На рассвете он отвез ее на такси до дома, поцеловал руку, проводил долгим взглядом и… Пропал. Тщетно перечитывала Матильда «Войну и мир» в поисках разгадки русской души (Андрей Волконский был так похож на ее Андре!) и придумывала себе самые разные оправдания его, такого внезапного, отъезда. Он говорил ей, что вынужден заниматься во Владивостоке делами, совсем не связанными с искусством: он опутан повседневностью. Может быть, внезапно нарисовалась крупная сделка? Или – Матильда за иронией пыталась скрыть страстную надежду: возможно, он понял, что влюблен? И, скованный, кроме бизнес-пут, еще и иными, тоже банальными, путами супружеского долга, предпочел уехать, чтобы не поддаться…
Одним словом, Матильда еще пребывала в любовном томлении, ждала возможного появления Андре на своем пороге с фразой, которую она нашла в разговорнике и тихо произносила вечером, перед отходом ко сну: «Лублу, лублу вас!», когда вчера утром директор вызвал всех сотрудников к себе и сообщил пренеприятнейшее известие: в музее произошла крупная кража набросков Энгра. Каким-то образом последние были вывезены за территорию Франции.
– Куда? – едва слышно, с подкашивающимися коленями, спросила мадемуазель Турне.
– В Россию. В Москву, – ответил директор. И сердце Матильды, хрупкое сердце старой девы – разлетелось вдребезги.
С разбитым сердцем еще можно жить – история знает много подобных примеров, но что делать со стыдом, горячим и обжигающим, как любовный гон? И Матильда, прикупив в местном мужском салоне опасную бритву (в подарок! – пояснила она парикмахеру, и он обвязал коробочку элегантной черной атласной лентой), легла в горячую же ванну, сняла траурную ленточку, разорвала подарочную обертку и вынула оттуда лезвие ослепительно-холодной стали.
Перрен закрыл дневник и передал его местному следователю. Пора идти в музей! Он, честно говоря, очень надеялся на содействие Сильвана, который должен, просто обязан был запомнить «директора Эрмитажа»!
Андрей
Андрей сидел и смотрел в стену. Этому осмысленному занятию он предавался с того момента, когда пазл, заданный Машей, наконец сложился. Пять часов он пялился в экран компьютера на чужие женские лица, отыскивая среди «потеряшек» – своих. И нашел действительно «своих». Энгровских. Эта была последней. И она оказалась не только нечаянной героиней «Турецких бань». Но еще – Андреевой жизни. Он вздрогнул и потер раздраженные от «гляделок» с компьютерным экраном веки. Возможно, подумалось ему, дело в ракурсе? Это не может быть она, потому что таких совпадений не бывает. «В жизни – все бывает. Жизнь, брат, штука почище мексиканского сериала», – говаривал его папаша, когда еще был жив, а мексиканские сериалы – в большой моде.
Девочка, глядящая на него с экрана, строила свою жизнь в стилистике такого сериала, а он, Андрей, некоторое время точно был ее главным героем, героем-любовником, доном Педро и доном Антонио в одном лице. Андрей считал, что это сериальное начало замкнуто на ней же и пишется-снимается только в ее недалекой головке. Но вот пожалуйста – он, Андрей Яковлев, находится сейчас прямо посреди абсолютно сериального хода судьбы и не знает, что с этим делать? Надо ли поделиться сбивающей с ног новостью с Машей? Или лучше все-таки нет? «Нет! – мотнул он головой. – Маше об этом рассказать никак невозможно!» Но как не рассказать – со всех точек зрения? Он снова с надеждой взглянул на экран, потом на фотографии реальных одалисок. Сверил фамилию и адрес…
Нет, не показалось. Девушка-«потеряшка» и одалиска Энгра были похожи, как сериальные двойняшки, разлученные злой судьбой и нашедшие друг друга после тридцатилетней разлуки. Только тут разлука растянулась на века и расстояния. Зато появился новый элемент – убивающий их маньяк. А он, Андрей, в виде рыцаря на белом коне не просто мимо проскакал, а должен спасти ее, «потеряшку», дуреху, дурашку.
* * *
А потеряшкой она была всегда. В намного более глубинном, но и абстрактном смысле этого слова. Мать ее тоже потеряла свою женскую судьбу, оставшись работать билетершей на пригородной железнодорожной станции. Там же, рядом со станцией, и стоял их маленький слепенький домик. Там родилась и выросла девочка Света: под гудки паровозов, лязг колес и дрожь бесконечных, уходящих вдаль рельсов. Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. Окошко, за которым бессмысленно и беспощадно стучали поезда, проезжая мимо. Экран телевизора – как окно в иной мир. Чужие фазенды, куда хозяева в основном наезжали только в сезон.
Андрей принадлежал к постоянным жителям. Но со Светой они долго не пересекались, хоть поселок их был мизерный. Просто Андреева дачка находилась далеко от железнодорожной станции, которой он и не пользовался – мотался в Москву и обратно на машине. Но однажды верный «Форд» его встал: износились подшипники. И Андрей решил проехаться на электричке. Расписания он не знал, поэтому притопал заранее, купил билет до Москвы и сел на скамейку на платформе – ждать. Она села рядом десятью минутами позже. Андрей, конечно же, по неопытности своей не взял с собой чтива и потому от нечего делать стал рассматривать будущую попутчицу. Ему понравились светло-рыжие волосы в мелких воздушных кудряшках надо лбом и брови, тоже светло-рыжие – в общую масть. Веснушек у Светы почти не было – только на кончике маленького вздернутого носика. Кожа белая с розоватым отливом, как ряженка. А больше ничего особенного: маленький бледный ротик, небольшие светло-карие глаза, почти без выраженья. Андрей отвернулся, вынул сигареты, закурил.
– Не поделитесь? – услышал он голос рядом. Девушка несмело улыбалась и смущенно оглаживала пухлые, торчащие из-под мини-юбки колени, обтянутые дешевыми колготками с блеском.
– Поделюсь, – улыбнулся он. И усмехнулся про себя – уж больно она смущалась. Он дал ей закурить, почувствовав, наклонившись к ней поближе, смесь запахов: сладковатый – дезодоранта, совсем простой, честный – детского мыла и еще искусственно-фруктовый, недорогого шампуня. Она, скосив на него глаза и закинув, не без труда (юбка была узковата), ногу на ногу, затянулась и сразу закашлялась, покраснела всем, что было видно в декольте и выше: грудью, шеей, лицом, даже ушами, как могут краснеть только рыжие. Занавесилась волосами.
Андрей продолжал курить, прищурившись. А когда она откашлялась, сказал:
– Если еще не начала, то брось придуриваться с куревом. – И, покосившись на коленки с ямочками, добавил безжалостно: – Это не сексуально. В твоем конкретном случае.
– Почему? – растерянно спросила она, а на горизонте, разрастаясь с каждой секундой, появилась электричка. Андрею было лень задумываться, но она смотрела на него с жадной надеждой – видно, ей очень хотелось стать именно сексуальной.
Он пожал плечами:
– Ну, не знаю. Должен быть, ну – какой-то элемент, э… Порока. Походка, то-се. А у тебя, кхм, другой совсем имидж.
– Какой? – Она так ждала ответа, что даже глаза казались больше и выразительней.
– Невинный, – сказал Андрей, уже входя в зловонное нутро тамбура. – Свежий. Вот на нем давай и играй! – И он подмигнул неинтересной незнакомке, прошел в вагон и забыл о ней, решив, что никогда в жизни ее больше не увидит. И ошибся.
Он
Для него все они были красавицы. Хотя бы потому, что подходили под энгровский сюжет. Он ненавидел дилетантизм, и хотя никогда не бывал на Востоке и уж точно не подглядывал в замочную скважину хаммама, понимал, что правдивость не в антураже, а в этих телах: влажных и жарких. В сто тысяч раз более женственных, чем дешевые картинки из липких порножурналов.
«Что ж, – думал он, – и Энгр, старый сластолюбец, когда писал свою картину, ни разу не выезжал дальше Рима, а о хаммаме судил исключительно по сказкам «Тысячи и одной ночи», возбудившим в то время всю Европу. Зато о женщинах, об их чарующей и ароматной плоти – о женщинах Энгр знал все. Весь донжуанский опыт, накопленный к восьмидесяти двум годам, выплеснут в этой картине, и потому и мне, копируя, нельзя ошибиться».
Он охотился за ними не в ресторанах в центре – где высушенные диетой пожирательницы женского глянца не позволяют себе ничего, кроме спаржи с французской минералкой. Нет, эти округлые спины и плечи, тяжелые ягодицы явно жили вне гламура, бесстрашно поглощали макароны и считали, что запечь окорочка под майонезом – верх изыска. Вот, к примеру, теперешняя его барышня: провидение не одарило ее правильными чертами лица, но наградило гениальной спиной, которую мог оценить лишь он. Да и то случайно – увидев девицу летом, выходящую из маршрутки: потную, измученную столичной жарой и смогом.
Он шел за ней бездумно, прикидывая ракурс, который сейчас, долгие месяцы спустя, и выстраивал в этой чердачной дыре. Лютня, найденная в антикварном магазине, платок в крупную золотистую полосу – еще хранящий тепло волос неизвестной туркменки (он сторговал его на рынке, текстура и цвет почти идеально совпадали)… Он обвязал платок вокруг ее головы нежным, почти ласкательным движением. Мягко, рассеянно улыбаясь, поставил ее пальцы на грифе лютни. Девушка не сопротивлялась, а скорее наслаждалась неожиданным вниманием.
– Еще, еще правее… – диктовал он ей, а она все не могла оторваться от своего отражения в том самом барочном зеркале, преображенного золотистым сиянием (он установил фильтр на мансардное окно), тюрбаном, наготой и тяжестью загадочного старинного инструмента в руках. – Голову чуть ниже… Вот так, молодец. Теперь подвинься ближе к свету – я буду писать твой полупрофиль и спину.
Девушка снова разочарованно бросила взгляд на себя в зеркале:
– Только спину?
Он усмехнулся, прикнопил свежий лист, привычно погладил его, будто приласкал, ладонью:
– А ты считаешь свое лицо выразительней спины? Весьма распространенное заблуждение. Все хотят повернуться к собеседнику лицом… Тут-то и наступает разочарование. – Он продолжал говорить, быстро набрасывая сангиной абрис спины. – Ты будешь воплощать самую загадочную героиню картины. И самую притягательную. Ведь нет ничего притягательней тайны. Никто не увидит твоего лица, но все станут мечтать о тебе, будучи уверенными, что ты – прекрасна…
И скорее почувствовал, чем увидел, как расслабилась роскошная спина его модели.
* * *
Перрен сидел в вагоне-ресторане, катящемся в сторону столицы, и задумчиво поедал резиновый сэндвич, беспардонно названный «парижским». Но поесть следовало, иначе он не мог додумать мысль, которая его мучила с момента опроса персонала музея в Монтобане.
Итак, что мы имеем: никто не заметил одинокого рисовальщика. Некто сидел на низеньком брезентовом складном стульчике, что-то там копировал, но, кроме покойной Матильды, никто не полюбопытствовал, не заглянул ему через плечо. «Даже странно для пытливых провинциальных умов», – с раздражением подумал Перрен.
Дальше – охранник Сильван. Отличный малый, но в тот вечер, когда Матильда решила устроить любовную эскападу в закрытом архиве музея, он видел «господина директора Эрмитажа» только издали и при слабом освещении. Заявил, что роста – нормального, телосложения – нормального. Нечего сказать, очень помог следствию. Впрочем, уже выходя из директорского кабинета, где Перрен проводил дознание, Сильван смущенно остановился и почесал почти полностью плешивую башку. Перрен поднял на него взгляд, в котором, по мнению комиссара, должна была читаться терпеливая доброжелательность… Охранник кашлянул, еще раз почесал голову и вернулся, снова сел на стул напротив комиссара.
– Видите ли, – сказал он доверительно. – Вот все говорят, «использовал старую деву», а по-моему, не все тут так просто.
– Да? – поощрил его Перрен.
– Он был с ней очень обходителен.
– Вы это заметили за те полминуты, когда он заводил ее в музей? – поднял ироничную бровь Перрен. – На расстоянии – цитирую ваши показания: «двадцати метров»?
Сильван сконфуженно кивнул:
– Я, это, заметил, как он ее поддерживал под локоток, и еще – она оступилась чуть-чуть, видно выпила за ужином-то, ну и…
– Ну и? – Комиссар начал терять терпение.
– Видите ли, он ей руки подставил, будто держал наготове. Знаете, как с ребенком. – Сильван замолчал, а Перрен молча ждал продолжения. – Ну, мне кажется, такое не сыграть. Потом – она спиной к нему была, все равно его не видела. Я вот думаю, – Сильван сглотнул, все глубже погружаясь в пучину смущения, – может, он ее и правда – того? Ну, любил?
– А рисунки взял просто для прикрытия большого чувства? – Иронии в голосе комиссара не услышал бы только глухой. Сильван согласно мотнул башкой – мол, да, глупости – и вышел вон.
И Перрен, пытаясь прожевать кусок индустриального багета, в мыслях тщетно ходил вокруг Сильвановских ощущений. Действительно – ведь он и сам имел такой, пусть и неудачно закончившийся, любовный опыт. Когда влюблен, бывало, окружаешь объект страсти тысячью мелких легких движений: чтобы не дать упасть, отойти далеко, улизнуть от чувств. И если это правда и неизвестный Андре, которого, конечно, зовут совсем иначе, и живет он наверняка вовсе не во Владивостоке… Так вот, если он действительно испытывал что-то к пугливой в жизни и бесстрашной в смерти Матильде Турне, что это меняет в ходе расследования? А ничего! Просто как соринка в глазу, сразу не проморгаться.
Фальшивого Энгра Перрен послал срочной почтой в Москву еще из Монтобана. Пусть теперь российские коллеги помучаются, стараясь выяснить, кто их умелец. И удовлетворенно кивнув самому себе, вытер губы бумажной салфеткой и заглотнул остатки колы, которую взял из-за глюкозы (полезной для работы мозга) и разъедающей, как серная кислота, здешний мерзкий фаст-фуд (в помощь желудку).








