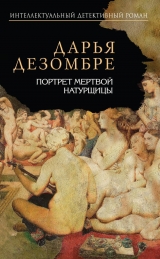
Текст книги "Портрет мертвой натурщицы"
Автор книги: Дарья Дезомбре
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Маша
Маша неловко приняла букет.
– Они завянут уже в первом отделении, – смущенно сказала она.
– Не страшно, – беспечно пожал плечами Петя, – завянут – передаришь Мацуеву. – И добавил самодовольно: – Наши места – в шестом ряду. Пойдем. Я припарковался тут во дворах.
Она положила букет на заднее сиденье – уложенные чинно на коленях длинные стебли либо тыкали Петю в бок, либо, поставленные на попа, заслоняли Маше весь обзор.
– Слышал, твой научный руководитель заочно поставил тебе пять с отличием за дипломную работу, – улыбнулся Петя. – Поздравляю! От Урсоловича это – большой комплимент. Ты как на Петровке-то? Надолго?
– Я… – Маша отвернулась. – Не знаю. Практика закончилась, и я пока в подвешенном состоянии.
– Ясно. – Петя ловко занял единственное свободное место у филармонии. И тактично перевел разговор на другую тему.
Перед концертным залом уже стояла толпа ожидающих и оптимистов, застывших с жалостливыми лицами в надежде на лишний билетик не от спекулянта. Маша чувствовала себя намного свободнее, ненароком забыв в «Порше» огромные, агрессивные почти розы. До начала концерта оставалось еще немного времени, и Петя повел ее в буфет.
– Буфет – гениальное изобретение в театре, филармонии и прочих, не чуждых высокому, общественных местах! – философствовал он. – Спасение для посредственностей! Все бездарные артисты должны скидываться, чтобы обеспечить его качественным алкоголем.
– Чтобы иметь возможность напиться там с горя, сравнивая себя с великими? – усмехнулась Маша, с интересом рассматривая выставленные бутерброды с красной рыбой и сырокопченой колбасой: есть хотелось зверски.
– Ну нет, – подмигнул ей Петя. – Я, эгоист, думаю только о наших, зрительских переживаниях. Ты вот, например, никогда не замечала, что если чуть выпить перед действом, становишься намного более благожелательным к происходящему на сцене?
– И «лебеди» лучше танцуют, и теноры громче поют? – с наигранной серьезностью спросила Маша.
– А если не лучше, то значит…
– Мало выпил?
– Ты понимаешь меня без слов!
Маша улыбнулась и повернулась к молодому человеку за стойкой:
– Два бутерброда с колбасой, пожалуйста, и…
– Бутылку французского шампанского! – безапелляционно произнес за ее спиной Петя.
– Оно же тут стоит безумных денег! – зашипела на него Маша, а буфетчик неприятно хмыкнул.
– А ты предлагаешь пить дешевый мартини или вот это? – и он, поморщившись, показал на бутылку «Советского шампанского». – Маня, нельзя быть такой патриотичной. Это может губительно сказаться на твоем желудке! Эта «Вдова Клико», наследие пушкинской вкусовщины, – и он положил пару крупных купюр, забрав у юноши бутылку французского шампанского и бокалы. – Тоже, конечно, не бог весть что, – и тут Петя холодно посмотрел на ухмыляющегося буфетчика: – Вот молодой человек явно в этом понимает. – Улыбка с широкого лица парня за стойкой мгновенно испарилась. – Но на безрыбье, как говорится…
Маша кинула виноватый взгляд на парня, вздохнув, взяла тарелку с бутербродами и прошла за Петей к высокому столику.
Петя разлил шампанское, поднял бокал:
– Ну что, за встречу? За чудесный случай, снова сведший нас вместе, так сказать!
Маша отпила из бокала и со сладострастием откусила от бутерброда.
– Да ладно тебе, Петька, что ж в ней чудесного? В меру интеллигентные люди встретились в музее. Вот если бы мы с тобой столкнулись где-нибудь в рюмочной на вокзале, к примеру. Ты – в своем костюме за десять тысяч…
– А ты – в своей новой элегантной полицейской форме… – подхватил Петя.
– Кстати, – Маша положила в рот остаток бутерброда и чуть было по примеру Андрея не облизала пальцы – господи, как же она проголодалась! – У меня ее нет!
– Да ладно! – Петя откровенно веселился. – Не удостоили? А тебе бы пошел сизо-голубой.
– В цвет моего сизого носа, который сразу привлек бы твое внимание в рюмочной? – Они весело рассмеялись, как когда-то, дружно прогуливая пары в универе.
– Ох, Каравай! – Петя подлил ей еще шампанского. – Как же я по тебе соскучился!
– Ох, Осипов! – Маша отпила шампанского – по телу разлилось сытое тепло, и приятно покалывало в кончиках пальцев: божественная смесь колбасы и игристого после рабочего дня. – Не подлизывайся!
Но Петя вдруг посмотрел на нее со всей серьезностью, и Маша, склонив голову к плечу и подняв глаза на хрустальную люстру, решила сменить тему:
– Кстати, что ты думаешь о творчестве Энгра?
Петя нахмурился:
– Кого?
– Да ладно, Осипов, это художник, классик.
– Тот, что рисовал в основном дам, обнаженных и не очень?
– Вообще-то, любимец утонченной парижской публики, – с притворной строгостью заявила Маша. – Отличный портретист и знаменитый рисовальщик! Эти самые дамы к нему в очередь выстраивались!
– Так а я о чем? – развел руками Петя. – Одно другого не исключает. Только для меня, Каравай, все эти ребята – ну, я имею в виду живопись классическую – вариант, чуть хуже «Кодака».
– В смысле? – нахмурилась Маша.
– В том смысле, – интимно взял ее под локоть и повел в сторону зала Петя, – что даже у самых приличных дам в XIX веке не было приличного фотоаппарата. Поэтому, вместо того чтобы зайти по-простому в ванную, встать, понимаешь, перед зеркалом и сделать штук десять селфи на последнюю модель айфона, они выстраивались в очередь к таким, как Энгр. Та же фигня – с пейзажами. И разница между твоими художниками такая же, как между мыльницей и хорошей камерой с качественным объективом.
Будто в подтверждение его слов зазвонил третий звонок.
– У тебя, – наставительно сказала Маша, усаживаясь в кресло в шестом ряду партера, – очень ограниченный взгляд на искусство.
– Ограниченный – не значит неверный, – парировал Петя. – И заметь: чем больше совершенствуется фотография, тем хуже рисуют наши современники. Отражение реальности теперь не востребовано: достаточно просто нажать на кнопку мобильника.
– А что востребовано? – невольно заинтересовалась Маша.
– Эмоция, – пожал плечами Петя. – Элементарная эмоция. А ее может вызвать и просто цветовое пятно. Или музыка – поэтому мы сюда и пришли!
– Это не просто музыка, – сказала Маша, присоединившись к аплодисментам, поскольку оркестр уже вышел на сцену. – Это Бетховен. И вот скажи мне, почему тогда, несмотря на востребованность эмоции, Бетховен в наши дни мало кому нужен?
– А это оттого, – ответил Петя, – что большинство умудряется получать свои эмоции от песен «Виагры». Кому сейчас нужен Бетховен?
– Мне. – Маша бросила на него чуть рассерженный взгляд и повернулась к сцене.
– Я помню, – сказал Петя просто.
Он
На этот раз все прошло совсем гладко. Он приноровился, и удовольствие от конвульсий и тяжести тела не то что стало привычным: нет, адреналин был тот же, но он заранее предвкушал конечный миг, когда жертва слабела в его руках, становилась окончательно мягкой и податливой.
Шелковый шнурок, который он использовал для этой цели, был идеален. Он говорил, что должен переодеть ее в новый костюм для позирования, сажал бедняжку перед зеркалом, накидывал шнурок на шею – будто часть экзотического перформанса… А дальше – резко смыкал руки, поднимая их чуть вверх. Зеркало являлось частью ритуала. Большое, под два метра в высоту, в псевдобарочных завитках на раме, оно стояло, чуть откинувшись на крепкой ножке. Всем этим девочкам нравилось в него глядеться – в его отражении была завораживающая глубина, преображающая их примитивное существо. Поэтому он и не отказывал им в таком удовольствии перед самым концом. И вместе с ними ловил последние мгновения никчемной жизни, приоткрывавшие завесу над их истинным началом: выпученные глаза, звериный оскал и хрипы. Они хватались за его руки, пытаясь отвести их от себя, сучили ногами, грозясь опрокинуть зеркало.
Но он все обычно предусматривал: на руки надевал перчатки для мытья посуды из грубого латекса, а зеркало ставил в точности на полметра за пределами досягаемости бьющихся в агонии ног.
Сразу после действа ему становилось нехорошо. Он скидывал бездыханную барышню с колен и шел чуть-чуть подышать свежим воздухом. Бывало и так, что, прогуливаясь, он раскланивался со своими коллегами, поддерживая с ними светскую беседу про погоду: хорошую или плохую – по обстоятельствам. Иногда они обсуждали насущные дела, и он полностью абстрагировался от мертвого тела, лежащего совсем рядом. Две его жизни шли параллельными прямыми, как и положено по математическим аксиомам – не пересекаясь.
Несколькими часами позже он возвращался обратно – но не сразу к телу, нет. Он доставал большую картонную папку, развязывал тряпичную тесьму. Вдумчиво просматривал уже знакомые наизусть рисунки и выбирал – с каким из них готов расстаться на этот раз. Все они были хороши, каждого было жаль. Но он заставлял себя сделать выбор. Это была его личная жертва – прощальный подарок той, что лежала лицом в пол перед старым зеркалом.
Дальше – проще. Уже подготовленный кусок строительного полиэтилена: обернуть и заклеить скотчем. Потом, для маскировки, он закатывал тело в ковер. И все – можно уже выносить жертву по месту жительства: в отдельной тумбочке в подвале у него хранились аккуратно развешенные на гвоздиках ключи от всех девочкиных квартир, с собственноручно им приклеенной биркой с адресом.
Прежде чем вытащить труп, он всегда делал «круг предусмотрительности» – как сам это называл. И только уверившись, что никого нет поблизости, вытаскивал тяжелехонький сверток. Сегодня, однако, вышла накладка: на скамейке недалеко от выхода сидела парочка и взасос целовалась. Он поглядел на часы: десять вечера. Можно, конечно, парочку шугануть, но это будет лишний и совершенно не оправданный риск.
«В подвале сейчас холоднее, чем на улице, – размышлял он. – За пару дней с телом ничего не случится». Он просто вывезет его позже и без приключений.
Маша
Мацуев вышел на сцену, коротко поклонился и, отмахнув привычным жестом концертирующего музыканта фалды классического фрака, сел за рояль.
Будто принесенные порывом ветра, грянули первые аккорды «Аппассионаты». И Маша почти физически почувствовала проходящую по клавишам дрожь. Замерев, она слушала Бетховена, но постепенно, параллельно музыке, в голове зазвучали мысли, и они двигались по кругу в связи с недавним диалогом…
Кому нужен сейчас Бетховен? А кому в современной Москве может быть нужен Энгр? Да в такой степени, чтобы убивать и оформлять место преступления его же рисунками более чем вековой давности? И еще что-то зацепило ее в словах Пети про фотографию, заменившую классическую живопись. Она пыталась отвлечься, вслушиваясь в волшебные бетховенские аккорды. Но перед глазами вставали «Турецкие бани», лица убитых девушек, вновь лица наложниц с картины… Маша вдруг широко распахнула глаза. Посмотрела прямо перед собой, уже не слыша музыки. Ей надо это проверить! Сейчас же!
Вскочив в паузе, когда благодарная публика только заносила ладони для бурных аплодисментов, она прошептала путаные извинения ошеломленному Пете и стала пробираться к выходу.
Он
Он не сразу рассказал матери – отец уже стал подуспокаиваться. В тот злосчастный вечер, заметив сына в ванной, он за ухо вывел его в коридор и дальше – в детскую. Толкнул внутрь и закрыл дверь на защелку снаружи. Мальчик забился в угол между столом и шкафом, сел на пол и ждал, пока за дверью не послышались голоса: смущенный девичий и снисходительный папин. Хлопнула входная дверь. Но отец так к нему и не зашел. Он сидел в темноте и ждал маму. Но даже когда та пришла, не смог объяснить ничего внятно по поводу своего бледного вида и дрожащих губ.
– Отстань от него, – сказал за столом отец, сменивший один мокрый шелковый халат на другой – сухой, но тоже шелковый. – Устал в школе. С учительницей повздорил, с мальчишками подрался, мало ли? – И он, продолжая смотреть в газету «Правда», перевернул большую шуршащую страницу.
Мать положила сыну руку на лоб, проверить – нет ли жара. И, убедившись в нормальной температуре, мельком улыбнулась и стала убирать со стола.
И вот уже весной, когда мать и думать забыла о той странной бледности и вновь убирала со стола – теперь уже за завтраком, сын внезапно поднял глаза от тарелки с манкой, украшенной дефицитным клубничным вареньем, и произнес:
– А у папы в ванной была чужая тетка. И еще одна – в машине в гараже. Они целовались.
Отец замер, поднося ко рту бело-синюю чашку с золотым ободком и – перевел взгляд на сына. А мать, так и не выпустив из рук грязных тарелок, опустилась на стул. И уставилась на свои покрасневшие ладони без маникюра.
И сын вдруг понял, что она не хочет смотреть на отца, будто и так знает ответ. А тот отпил чаю и медленно поставил чашку на блюдце. Прошла добрая минута, или даже две, тикая рядом, на звонких «военных» круглых часах, подаренных академику благодарными моряками. Мальчик чувствовал, что сердце его сейчас взорвется от напряжения.
И тут наконец их глаза встретились.
«Я знаю, что это правда», – читалось в материнских.
«Делай, как знаешь!» – говорили отцовские.
Позже мальчику стало ясно, что если бы мать застала тогда отца в ванной, она просто прикрыла бы дверь. Как годами прикрывала ее в мыслях, не желая признаваться в собственной женской ненужности. Но сын сидел между ними, смотрел на нее и ждал ее решения. И мать кивнула. И пусть ни слова не было сказано, отец понял: кивок обозначает вовсе не согласие на прикрытые глаза и закупоренные уши. Кивок означает – надо разводиться. Дверь в ее голове, распахнутая мальчиком, отказывалась закрываться, и из нее мучительно сквозило. Мать поежилась и погладила сына по волосам.
– Все у нас будет хорошо, – тихо сказала ему она и вновь встала, чтобы положить-таки посуду в раковину.
«Ничего уже у нас хорошо не будет», – понял он и впервые – но далеко не в последний раз – пожалел о произнесенных словах. Но себе он не мог признаться: дело тут было не в том, что он все-таки больше любил мать и хотел ее защитить. И не в мальчишеском гордом и бессмысленном правдоискательстве.
Дело – в элементарном животном страхе. Он знал, что отец никогда не откажется от молодых женских тел.
А он очень боялся снова увидеть то, что видел в тот вечер в отцовской ванной.
Андрей
Андрей плохо спал ночь. Весь вечер он думал о том, чтобы позвонить Маше, и отдергивал руку от телефона каждый раз, когда желание узнать, где она и главное – с кем! – становилось нестерпимым.
– Надо держаться! – говорил он Раневской. – Где мое мужское достоинство?
Раневская – приблудный пес с душой великой актрисы и выразительнейшей мордой, уже давно был его ближайшим конфидентом.
– И потом, – размышлял вслух Андрей, – там концерт, черт знает, когда он заканчивается, этот Бетховен? В десять? Одиннадцать? И после концерта у старых университетских друзей будет – что? Ужин при свечах и обсуждение прелестей исполнения того же Бетховена? А я своим грубым телефонным звонком перебью великосветскую беседу и все испорчу, потому что поддержать ее, даже кратко, не могу. И опозорюсь. Буду выглядеть бледно перед Петей.
С горя Андрей даже зашел на страницу Википедии, посвященную Бетховену, и прочел Раневской избранные отрывки из жизни великого композитора.
– Умер в забвении, – наставительно сказал он псу, склонившему лобастую голову набок. – В забвении, – повторил он и покосился на телефон. Тот все так же молчал. Похоже, у них с великим композитором есть что-то общее. Итак, что важнее: мужская гордость или спокойный сон? Андрей с Раневской решили, что, конечно, мужская гордость. В два часа ночи, ворочаясь на смятых в бессоннице простынях, Андрей был готов изменить свое решение, но было стыдно перед Раневской.
В семь утра, так и не дождавшись звонка, невыспавшийся, злой и решивший остаться небритым в пику Пете из Вестминстера, он поехал на Петровку, уверенный в том, что никогда еще так не ревновал.
Мертвая пробка, растянувшаяся по всей Ленинградке, дала ему возможность поразмыслить со всей логикой, на какую он был способен после бессонной ночи, чтобы в сотый раз объяснить себе на пальцах: Маша ему ничего не должна. Она ему в любви не клялась, он ей тоже. Маша ему – не жена, и даже, как он понял, вообще застряла из-за той страшной осенней истории[4]4
Читайте об этом в романе Дезомбре Д. «Призрак Небесного Иерусалима», издательство «Эксмо».
[Закрыть] на смежной туманной территории между любовницей, подчиненной и, прости господи, герл-френд. «Какое все-таки отвратительное слово «герл-френд», тьфу!» – подумалось ему, когда в сотый уже раз логичное объяснение не сработало.
Хотелось найти Петю, вытащить его из шикарной машины и отдубасить от души – за все. За эту ночь, за розочки, за Людвига вана, который Бетховен, и за хороший вкус, обусловивший выбор Маши. Он хочет увезти ее с собой в Лондон, внезапно понял Андрей. Пете, как бы по-революционному это ни звучало, нужна соратница в вестминстерской ссылке. Она со вкусом оформит его дорогую квартиру, сможет прекрасно поддержать беседу и помочь в бизнесе…
Поднимаясь в лифте на свой этаж, Андрей просто-таки воочию видел Машу, накрывающую чай на файв-о-клок: прямая спина, костюм с юбкой, с запасом закрывающей колени, невысокие каблуки, бесцветный маникюр… Он так завелся, что даже не сразу заметил, что с его появлением в кабинете установилось странное молчание.
– Что? – огрызнулся он на многозначительные лица присутствующих вместо «здрассте».
– Тебе звонили, – сказал наконец Хмельченко.
– Сверху? – Андрей раздраженно взглянул на переглядывающихся коллег.
– Ну, – протянул Хмельченко, – можно и так сказать.
– Так из Парижу, по делу – срочно! – съерничал Серый, но Андрей догадался по обеспокоенным лицам, что дело действительно срочное, и действительно – из Парижа. И, судя по времени – тут Андрей взглянул на часы и понял, что в Европах сейчас и десяти нет – явно важное.
* * *
И не ошибся: в префектуре по адресу: набережная Орфевр, 36, с семи утра сидел крупный мужчина с мягким, безвольным лицом, одетый как типичный представитель левой французской интеллектуальной прослойки: вельветовые болотного цвета брюки в крупный рубчик, чуть потертые ботинки, серо-зеленый шерстяной пуловер под пиджаком в клетку, тяжелые очки. Перрен, приходивший на работу засветло, сначала решил, что перед ним – профессура Сорбонны, но очки – очки были не модного, круглого, а совсем уж винтажного вида.
«Похоже, провинция», – подумал комиссар, отпирая дверь кабинета. Мужчина был явно очень расстроен: нервно теребил серьезных размеров потертый же портфель и, когда Перрен сделал приглашающий жест рукой – мол, проходите! – судорожно дернул кадыком и уронил с глухим стуком портфель на пол. «Точно не парижанин», – покачал головой Перрен, проходя внутрь кабинета и снимая на ходу плащ. Он был уверен – истинные парижане (такие, как сам Перрен – переехавший в столицу в студенчестве из Нанси) не выдают так легко своих эмоций.
Комиссар сел за свой необъятный стол и ободряюще кивнул провинциалу. Спросил:
– Хотите кофе? – надеясь на отрицательный ответ: кроме него, варить сейчас кофе в отделе некому, а он предоставлял общение с капризной кофеваркой Софи. Но посетитель нервно кивнул, и Перрен с мрачным видом встал из-за стола и, проклиная свое гостеприимство, заварил в общей комнате кофе. Две чашки, раз уж так вышло.
– Сахара я не нашел, – сказал он, снова входя в кабинет и ставя кофе перед посетителем в твидовом пиджаке. – Ложечек тоже.
– Ничего, и такой подойдет, спасибо, – впервые несмело улыбнулся тот. – Я приехал вчера последним поездом и всю ночь глаз не сомкнул! Случилось неслыханное. – Провинциал издал носом странный звук, и Перрен испугался, не всхлипнул ли тот. Мужские слезы – страшная штука, комиссар был совершенно не готов к ним в столь раннее время.
– Неслыханное? – переспросил он, рисуя в воображении гору разнополых трупов. – Но почему вы не обратились в полицию по месту жительства?
– О, – смущенно опустил чашку посетитель, – но ведь именно из вашего ведомства пришел запрос… – И, не увидев на лице комиссара понимания, быстро продолжил: – Я из Монтобана, месье.
Англичане называют это состояние звонком колокольчика. Именно такой колокольчик прозвенел в голове Перрена, еще находившейся в утреннем тумане. Что-то, связанное с Москвой, тамошним комиссаром с жутким акцентом в английском.
– Рисунки Энгра! – возопил посетитель, не в силах больше ждать от Перрена проблесков памяти. – Мы проверили наши архивы. Те рисунки, скан которых вы послали нам по мейлу. Они должны быть подлинными! Но они – фальшивые!
– Стоп! – Комиссар одним глотком допил горький кофе и поморщился. Именно это и говорила ему московская девица. Только с точностью до наоборот: должны были быть фальшивыми, а оказались – подлинными. Эскизы, найденные в тысяче километров от Монтобана. – Начнем сначала. Кто вы?
– Я? – Посетитель страдальчески улыбнулся. – Я – месье Мазюрель, директор музея Энгра. Это моя ответственность, и такой позор! Родина великого соотечественника потеряла самое дорогое! Меня уволят, но дело даже не в этом…
– Стоп, – повторил комиссар. – Давайте по порядку. Вы проверили рисунки. И они оказались фальшивыми? Все три?
Подбородок Мазюреля затрясся:
– Нет, комиссар! Они оказались фальшивыми – все! Все этюды, наброски в карандаше, сепии, угле к «Турецким баням», хранящиеся в архивах, – голос его поднялся на несколько октав. – Все они – фальшивки! Как, как такое могло произойти?!
Он вынул из кармана пакет бумажных носовых платков, вытащил – не с первого раза – один и шумно высморкался. Перрен пожевал задумчиво верхнюю губу, потянулся привычным жестом за сигаретами и привычно же оборвал себя: курить теперь разрешалось только на улице, чтоб их!
– Послушайте, месье…
– Мазюрель, комиссар.
– Да. Ничего не могу вам обещать, но думаю, я знаю, где находятся те три рисунка, что я послал вам по почте.
Мазюрель поднял на него глаза, полные детской надежды:
– О боже, месье комиссар, где они?!
И Перрен не мог отказать себе в маленьком удовольствии:
– В Москве, господин директор. В Мос-кве.








