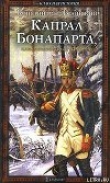Текст книги "Священный дар"
Автор книги: Даниил Гранин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Булгарин, изничтоженный, высмеянный пушкинскими фельетонами и эпиграммами, остался для нас как полицейский доносчик, автор злобных рецензий на Пушкина, Некрасова, Видок Фиглярин, рептильный журналист. Да еще издатель «Северной пчелы». Сведения мои были самые примитивные, в размере примечаний петитом к пушкинскому собранию сочинений.
Известность Булгарина не соответствует знаниям о нем. Нечто вроде Малюты Скуратова, Бабы-яги, Аракчеева – в общем, имя нарицательное. О Булгарине слышал каждый сколько-нибудь интересовавшийся Пушкиным, он стал олицетворением фискальства, продажности, он завистник, злобный ругатель всего передового, прогрессивного – словом, вместилище низостей.
За всем этим исчезла личность Булгарина, то есть нечто более сложное, многообразное, чем условный злодей. Вспоминалось его предательство, описанное в «Кюхле» Тынянова… Портрет в воспоминаниях Панаевой.
«Черты его лица были вообще привлекательны, а гнойные, воспаленные глаза, огромный рост и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был грубый, отрывистый; говорил он нескладно, как бы заикался на словах.»
Рассказывали, пишет далее Панаева, «что Булгарин в своей семейной жизни был точно чужой, как хозяин дома не имел никакого значения, сидел всегда у себя в кабинете. Его жена-немка и ее тетка распоряжались по своему произволу домом, детьми, деньгами. Булгарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы, а все доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщательно скрывал от жены свои мелкие доходы, получаемые от фруктовых магазинов, лавочек и винных погребов, восхваляемых им в своей газете».
Все это тоже явно предубежденно. Подобный Булгарин – схематический образ подлеца, у которого все гнусно, начиная от его мыслей, образа жизни и вплоть до внешности – образ этот передавался от поколения к поколению все более избавленным от каких-либо противоречий. Нам он достался в виде карикатуры, назидательным олицетворением мерзости николаевской эпохи, каким его выставляли Белинский, Герцен, Некрасов.
Когда я захотел узнать подробности о жизни Булгарина, я удивился тому, как мало специальных работ о Булгарине. Упоминают его бессчетно, но почти никто (кроме М. Лемке) не занимался им самим. Словно и тут существует заговор отвращения.
Мемуары, исследования пушкинистов содержат множество отдельных фактов из жизни Булгарина. Сложить из них законченный портрет нелегко. Некоторые поступки выпирают, не укладываются в заданную постоянно ясную систему подлости.
Ночью 14 декабря 1825 года Булгарин пришел к Рылееву. Огромный, страшный для заговорщиков день кончился. Восстание было разгромлено. Рылеев жил в доме Русско-Американской компании, где он служил правителем канцелярии. Дом этот сохранился. Он стоит на набережной Мойки. Из окон виден Синий мост, спина памятника Николаю I. Тогда он был не памятником, а царем, кончался первый день его царствования. В нескольких шагах, на Сенатской площади, горели костры, блестели пушки. Полицейские взваливали на сани трупы. Цепи часовых перекликались вдоль Сената, вдоль Зимнего. Возы с убитыми тянулись к Неве, в проруби спускали закоченелые тела. Окна ближних к Петровской площади домов были выбиты при стрельбе. В темноте приглушенно стучали молотки, раздавались стоны, окрики. Фонарщики не зажигали фонарей.
Какой крюк проделал Булгарин, пока добрался до квартиры Рылеева? Он бывал здесь часто. Он дружил с Рылеевым. Когда-то они слыли приятелями. Потом рассорились, и Булгарин старался примириться. По-своему он любил Рылеева. И остальных – братьев Бестужевых, Кюхельбекера, Тургеневых. Они печатали его рассказы в своем альманахе «Полярная звезда». Конечно, для Булгарина, только начинавшего литературную карьеру, было важно оказаться в одном альманахе с Жуковским, Пушкиным, Дельвигом, Баратынским, Грибоедовым – все лучшее литературы двадцатых годов было там представлено.
«Его и в то время терпели только как шута балаганного, балагура и площадного остряка – Александр Бестужев бывал у него очень часто, но уже вовсе не из-за его прекрасных глаз», – писал М. Семевский.
Никто из декабристов в ту пору не считал Булгарина доносчиком, в какой-то мере они доверяли ему, и когда в квартире Рылеева распевали революционные песни, хриплый голос Булгарина звучал громче всех.
Впрочем, и это можно считать уликой. Недаром его не вызывали на следствие по делу декабристов. Каховский показывал, что часто встречал Булгарина у Рылеева, но замечал, что в нем всегда сомневались.
Первые рассказы Булгарина были ужасны, литературно беспомощны. Язык их – пользуясь выражением Пушкина – язык камердинера профессора Тредиаковского. Единственно, что там любопытного, – циничность рассказчика. Никак не спрятать, не заглушить «дух его сочинений». Тот самый «дух», о котором вспоминал Н. Бестужев: «Булгарина я любил как собеседника; часто с ним бранился за дурные его наклонности в журналистике и некоторых частных сношениях с людьми; некоторые статейки его хвалил, но вообще дух его сочинений решительно мне не нравился…»
Но, может, и в самом деле какая-то часть души Булгарина тянулась безрасчетно к отчаянным поручикам. И сочувствовал проектам, и революционные идеи были ему милы. И тут же, вернувшись ночью домой, он писал свои верноподданные проекты Милорадовичу. Утром бежал на поклон – к магницким, руничам. А по дороге, встретив Рылеева, лобызался с ним – и все от души, нараспашку… Понимал ли он себя – кто же он, с кем? Бывают такие натуры путаные, вроде и с теми они заодно, и с этими, всюду поддакивают, всюду приняты. Конечно, все можно объяснить тем, что Булгарин страстно жаждал выбиться в люди. Любыми способами, любым путем. Прошлое его незавидно. В Петербурге он человек ниоткуда. Ему нужны связи, нужны покровители. Он заискивает перед Аркачеевым и Шишковым. Его «Северная пчела» безудержно льстит властям… Однако и либералы были в силе. Они главенствовали в литературе. Булгарин, «человек деловой и расторопный» (Греч), подлаживается и к ним. И это можно объяснить. Но через несколько часов он совершит бесспорную подлость. И то, что происходит сейчас, и то, что было, все станет двусмысленным.
Итак, теперь Фаддей Булгарин стоит перед дверью квартиры Рылеева. Что привело его сюда? Страх, растерянность? Хотел ли он убедиться, что у заговорщиков нет никаких надежд? Живы они? Что с ними? Не схватят ли его сейчас? В квартире, может быть, уже полиция. Она действительно появилась через час. Приехал обер-полицмейстер, предъявил приказ об аресте…
Булгарин дернул ручку колокольчика. Слуга провел его в комнату. За столом сидели Рылеев, Штейнгель, Бестужев, еще несколько человек. Шумел самовар. Пили чай.
Позже, рассказывая об этом Гречу, он ужаснулся обыденности их поведения. Он ожидал чего угодно, но не этого преспокойного чаепития. Достоверность воспоминаний всегда подтверждают нелепые, казалось бы, немыслимые подробности.
Рылеев встал из-за стола, вывел Булгарина в переднюю.
– Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой.
Несколько недель тому назад, разозленный холуйством булгаринской «Северной пчелы», Рылеев в этой же квартире крикнул ему: «Когда случится революция, мы тебе на „Северной пчеле“ голову отрубим». Вспоминались ли им сейчас эти слова?
Через несколько месяцев не Булгарин, а Рылеев будет казнен.
«Ты будешь жив, ступай домой.» Он остался жив. Он пошел домой. В своих воспоминаниях он старался забыть этот вечер. Человек, наверное, никогда не может представить, что именно из его жизни окажется интересным для потомков, тем более решающим. Булгарин стыдился непонятного самому себе порыва. К тому времени, когда он будет писать воспоминания, все безотчетное будет в нем вытравлено.
Дверь захлопнулась. Он вышел на набережную. Громада Исаакия, недостроенного, в лесах, чернела впереди, нависая немыслимой своей высотой над двухэтажными домишками.
Захлопнулась дверь в прошлое. Он остался наедине с быстро растущим страхом.
Через несколько часов по требованию полиции он подробно и точно описал приметы разыскиваемого Кюхельбекера.
V
История русской реакции богата и поучительна. У нее были свои традиции, опыт, теории, свои герои со времен Малюты Скуратова и вплоть до Каткова, до Победоносцева.
Граф Федор Ростопчин – яростный защитник рабства. Или Аракчеев, этот ефрейтор, мечтавший превратить Россию в огромную казарму. Или иезуит Жозеф де Местр, один из фанатичных апостолов реакции, оракул петербургских салонов, «Вольтер наизнанку», как его называли. Невежество было его культом. Он воспевал палача как представителя божественного правосудия на земле. Он пламенно клеймил все университеты и лицеи, которые «угрожают России ужасным злом».
«Наука, – писал он в своих страстных памфлетах, – постоянно подвергает государство опасности, постоянно стремясь доставить государственные должности людям ничтожным, без имени и богатства…»
Это сегодня их высказывания кажутся дикими. Для своего времени они были серьезными противниками революции и прогресса. Любыми заклинаниями они пытались остановить Россию, ослабить ее духовную мощь.
У каждого были свои проекты. Каразин, например, доказывал Александру I необходимость образования для крепостных – разумеется, не для развития их, а для «воспитания в них чувства пассивности и рабской зависимости». Каразин не просто душитель-крепостник. Харьковский помещик Каразин был человек образованный, мало того – ученый. Он разрабатывает оригинальный проект использования атмосферного электричества. И в это же время он пишет другой всеобъемлющий проект – по учреждению системы доносов, искоренения вольнодумства, укрепления монархии.
Что только не делалось, чтобы задержать просвещение, русскую науку!
Тот же де Местр главные свои усилия обращает против естествознания: «Библии совершенно достаточно, чтобы знать, каким образом произошла Вселенная». Правительство должно «стеснять науку разными способами, а именно: 1) не объявляя ее необходимой вообще, ни для каких должностей гражданских или военных; 2) требуя только познаний, существенно необходимых для известных должностей, например математики для инженеров и т. п.; 3) уничтожая всякое публичное преподавание сведений… как, например, история, география, метафизика, мораль, политика и проч.; 4) никоим образом не оказывая покровительства распространению знаний в низших слоях народа и даже стесняя (не надо только, чтобы это было заметно) всякое предприятие этого рода…»
В 1819 году в Казанский университет приехал для ревизии Магницкий, рыхлый, бледный молодой чиновник с лицом старой девы. Начал он с того, что выбросил из библиотеки Вольтера, затем приказал сжечь все остальные вольнодумные сочинения, а затем вообще потребовал у начальства публично разрушить университет. Его не отозвали, не посадили в сумасшедший дом. Нисколько. Магницкого назначили попечителем Казанского университета. И там он принялся учинять свои знаменитые реформы. Собственноручно он пишет для преподавателей строжайшие инструкции: «Профессор физики обязан во все продолжение курса своего указывать на премудрость Божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания окружающих нас чудес». «Профессор истории Российской покажет, что отечество наше в истинном просвещении упредило многие современные государства.» Преподаватель политических наук должен «прежде всего внушать студентам чувства покорности и повиновения»…
Инструкции и принципы Магницкого быстро распространились и на другие университеты. Рунич, попечитель Петербургского университета, устраивает суд над профессорами, изгоняет таких замечательных ученых, как Арсеньев, Герман, обвиняя их в безбожии и революционности. Реакционеры воспряли и стали увольнять лучших профессоров университетов Москвы, Харькова, Дерпта.
Происходит это в двадцатые годы XIX века, в годы бурного расцвета физики. В Европе публикуются замечательные работы Араго, Дэви, Ампера, Карно, Ламарка. Закладываются основы новой биологии, термодинамики, электрофизики, химии. Да и в России, тут же на берегу Невы, идут знаменитые работы по электрофизике Василия Петрова, Власова, затем Шиллинга, в Дерпте – Паррота, позже Якоби, Ленца.
Как могла среди этих воплей, угроз, преследований существовать русская наука, не только существовать, но и добиваться результатов мирового класса, даже первенствовать в некоторых областях? Мы все же недооцениваем силы отечественной науки, мы часто судим о ее достижениях, не задумываясь об условиях, в которых работали ученые. Мы лишь сопоставляем по датам с тем, что происходило на Западе. Но стоит представить себе, что стало бы с Лондонским Королевским обществом, если б там хозяйничали руничи, магницкие, шишковы, уваровы.
Дайте Василию Петрову такую лабораторию, как у Г. Дэви, такие средства, научную среду, пусть он встретится с Ампером, Араго, обсудит, проверит, тогда б гений его действительно мог развернуться, создать куда больше, тогда и можно было бы сравнивать…
Идеи реакции развивались.
Через несколько лет после инструкции Магницкого указания зазвучали иначе. Историкам следовало сопоставлять уже не с Западом, а с прошлым:
«Прошедшее России удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что только может представить себе самое смелое воображение…» Слова эти принадлежат Бенкендорфу.
На смену выступают новые герои реакции, и среди них Фаддей Булгарин.
VI
…Его не трогали, арестовывали остальных, ему оставалось лишь бояться. Страх разъедал его. Милорадович, петербургский генерал-губернатор, которому Булгарин писал всевозможные записки о цензуре и укреплении власти, был убит декабристами 14 декабря 1825 года, и некому было заступиться, подтвердить благонамеренность.
«Тон общества менялся наглазно, – вспоминал Герцен, – быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства: одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно.»
У Булгарина началось со страха, затем пришла подлость, корысть, а затем и бескорыстие, бескорыстная подлость. Он подает проект за проектом. Поскольку общественное мнение уничтожить невозможно, правительство должно им управлять, доказывает он, и лучше всего это делать посредством книгопечатания. Но как? Булгарин разделяет читающих на несколько групп и для каждой группы разрабатывает свои средства воздействия.
Увы, писателей, готовых писать на заданную царем тему, мало, поэтому их следует не раздражать, а привлекать «ласковым обхождением и снятием запрещения писать о безделицах, например о театре и т. п.»
Словно бы и всерьез, и словно бы и глумясь, и не понять, над кем ерничает: «Нашу публику можно совершенно покорить, увлечь, привязать к трону одной только тенью свободы в мнениях насчет некоторых мер и проектов правительства».
Что касается грамотных мещан и нижнего сословия, то для них годится «магический жезл» – матушка Россия…
Ах, если бы к нему, Булгарину, прислушались, дали б ему право распоряжаться, уж он бы…
Желание оправдаться, заслужить доверие переходит в неподдельное возмущение тупыми чиновниками, так бездарно служащими царю:
«…вместо того, чтобы запретить писать против правительства, цензура запрещает писать о правительстве и в пользу оного. Всякая статья, где стоит слово „правительство“, „министр“, „губернатор“, „директор“, запрещена вперед, что бы она ни заключала… Один писатель при взгляде на гранитные колоссальные колонны Исаакиевского храма восклицает: „Это, кажется, столпы могущества России!“ Цензура вымарала с замечанием, что столпы России суть министры».
После казни декабристов он пишет записку «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного», касающуюся непосредственно Пушкина. Сочинение это поразительно по сочетанию лжи и точности, клеветы и наблюдательности. Чего стоят заголовки разделов: «Что значит лицейский дух. Откуда и как он произошел. Какие его последствия и влияния на общество. Средства к другому направлению юных умов…»
Булгарин обличает лицейский дух за то, что этот дух «обязывает» молодежь «порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или самому быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен, предосудительных на русском языке… Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществе. Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал – почетные названия…» С эрудицией осведомителя Булгарин разбирает пагубную роль Н. И. Новикова, А. И. Тургенева, порядки в Царскосельском лицее, вред «Арзамаса» – общества, которое, «покровительствуя Пушкина и других лицейских юношей, раздуло без умысла искры и превратило их в пламень».
И далее предлагает ряд мер для истребления лицейского духа. Надо отдать должное Булгарину – на фоне николаевских «идеологов» мысль его выделяется блеском демагогии, гибкостью. Он далеко обошел своих наставников, примитивных «гасителей» типа Магницкого – Рунича. Булгаринские «исследования» производили впечатление на николаевскую камарилью…
И самому Николаю I как нельзя кстати была реакция думающая, способная обосновать, мотивировать всяческое искоренение личности.
На его лощеной физиономии, по словам русского историка Сергея Михайловича Соловьева, были обозначены всегда три слова: «Остановись, плесневей, разрушайся!»
Остановись всякая гражданская мысль. Плесневей общественная жизнь. Разрушайся, личность, сколько-нибудь выдающаяся индивидуальность. «Это был страшный нивелировщик… – писал С. М. Соловьев, – до конца он не переставал ненавидеть и гнать людей, выдающихся из общего уровня по милости Божией… Не знаю, у какого другого деспота в такой степени выражались ненависть к личным достоинствам… Он хотел бы… по возможности одним ударом отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем… Он инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное: „Не рассуждать!“»
VII
Сальери ненавидит Моцарта. Но за что? Сальери убивает Моцарта. И опять же – за что?
Казалось бы, Сальери достиг того, о чем мечтал. Он добился славы, признания, он одолел Природу. Тайное тайных открылось ему – секрет создания прекрасного. Его убежденность победила. Он создал себя – осуществив то, что проповедовал Гельвеций еще в XVIII веке: «Тем, чем мы являемся, мы обязаны воспитанию: большинство людей должны приписывать посредственность своего разума не убедительной причине собственного несовершенства, но воспитанию и обстоятельствам».
И тут вдруг перед Сальери-победителем разверзлась пропасть. Когда уже все преодолено, завоевано, возникает препятствие непонятное, непосильное анализу, неподвластное ни труду, ни терпению: оно отделяет его от Моцарта, как мертвое от живого. Сколь ни искусно сделан робот, оказывается, все же это не человек. Моцарт недостижим. Это иное качество, иное состояние. И, что самое ужасное для Сальери, это качество не поддается вычислению. Сальери может научиться поражать цель еще более метко. Но Моцарт поражает невидимую цель. Сальери может высчитать движение звезд сколь угодно точно. Моцарт открывает новые звезды. Сальери знает, чего он хочет, – у Моцарта получается непредвиденное.
Сальери властвует над своим даром, он может направлять его, совершенствовать – дар Моцарта властвует над ним самим. Пользуясь выражением Шумана: талант работает, гений творит. Моцарт порой не способен выразить, сформулировать то, что он делает. Прислушайтесь, как сбивчиво, невнятно пытается он передать замысел новой вещи:
Представь себе… кого бы?
Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка —
С красоткой или с другом – хоть с тобой,
Я весел… Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое…
Лепет его откровенно беспомощен. Да ему это неважно. Перо гения, как говорил Гете, более умно, нежели он сам.
Поэтому сам Моцарт не в силах был бы объяснить, помочь Сальери открыть свой секрет.
Боги смеются. Борьба Сальери кончилась поражением, Сальери низвергнут, уже не ученик, а мастер, истративший годы, достигший вершин, и на этой высоте он понял всю разницу между собой и Моцартом.
Несправедливость восторжествовала.
Несправедливость вдвойне, ибо мало того, что повержен он, Сальери, служивший искусству беззаветно, но кто же избранник, кто победил? Гуляка праздный. Легкомысленный, пустой, не боготворящий искусство, не достойный своего дара.
Такова первая статья обвинения.
Знакомые попреки – гуляка праздный. Игрок. Повеса.
«…Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют в легкомыслии, во всей беззаботной ветрености. К несчастью, это человек, не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в действиях», – писал Бенкендорфу фон Фок, наслаждаясь своим прелестным бисерным почерком и чувством превосходства и презрения.
Вскрывая письма Пушкина, он сообщает еще определеннее: «Пушкин, сочинитель, был вытребован в Москву. Выезжая из Пскова, он написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмо, извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег, с тем чтобы употребить их на кутежи и шампанское. Этот господин известен всем за мудрствователя в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец – деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждою вожделений, и, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить при первом удобном случае…» В глазах того общества Пушкин не слыл тружеником. Он не получил достойных званий, не добился положения.
Наверное, все свои обвинения Сальери мог адресовать Пушкину.
Булгарин и булгарины тоже могли бы повторить слова Сальери. Но свои обвинения Булгарин писал в III отделение, поэтому он добавлял и многое другое.
А когда в «Литературной газете» появилась критика булгаринского «Дмитрия Самозванца», Булгарин, приписав ее Пушкину, разразился уже ничем не сдерживаемой публичной руганью. 11 марта 1830 года он печатает в «Северной пчеле» пасквильный «Анекдот», где Пушкин у него (не названный по имени, но всем было понятно, кого он имел в виду) – «природный француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова – род побрякушек, набитый гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камнями в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан, который марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство – суетность».
В этой брани взбесившегося Булгарина вопиют, перебивают друг друга – доносчик, завистник, торгаш, почуявший угрозу своим доходам. Булгаринские обвинения: «природный француз», «служащий усерднее Бахусу» – смыкаются с определениями фон Фока:
«Ненависть к добродетелям», «жажда вожделений».
Картежник!..
Вольнодумец!..
То, что ходило в тайных донесениях, в пакетах, запечатанных сургучными печатями, прорвалось у Булгарина. Проговорился. Не хватает лишь заключения фон Фока: «Проучить его при первом удобном случае», – все же остальное вполне смыкается с мнениями руководителя III отделения: доставляет себе житейские наслаждения «ценою всего самого священного», «бросает рифмами во все священное», «служит Бахусу», «ни одной полезной истины», «картежник».
Опять же выходит сальериевский «гуляка праздный», да еще «вольнодумец», да еще «плут»!
Булгаринский пасквиль как бы обнаружил, обнародовал ненависть к Пушкину всего жандармского начальства. Роль Сальери выполняет здесь не только Булгарин, а и фон Фок, и многие другие.
А Пушкин считал фон Фока добрейшим, милейшим человеком. Он принимал его обходительную ласковость с той же доверчивостью, с какой Моцарт принял стакан вина от Сальери.
У Булгарина своя ненависть. Он не просто рупор жандармской николаевской России. Но об этом позже. Сейчас же примечательно другое – бесстыдство, цинизм, с которым он приписывает собственные качества Пушкину.
«…тишком ползает у ног сильных» – это пишет Булгарин, жизнь которого состоит из самого беззастенчивого холопства. Он, который пресмыкался перед Аракчеевым, Бенкендорфом, Фоком, Дубельтом, перед кем угодно. И как пресмыкался – истово. Он с умилением называет себя Дубельту Фаддеем Дубельтовичем, он пишет ему: «Отец командир! Я не знаю, как вас называть! Милостивый государь и ваше превосходительство – все это так далеко от сердца, все это так изношено, что любимому душою человеку – эти условные знаки вовсе не идут! А я люблю и уважаю вас точно душевно! Ваша доброта, ваше снисхождение, ваша деликатность со мною – совершенно поработили меня, и нет той жертвы, на которую бы я не решился, чтоб только доказать вам мою привязанность!»
Мучила ли когда-нибудь Булгарина совесть за клевету и грязь, которыми он чернил гения России? Представлял ли он величину Пушкина и то, каким он, Булгарин, окажется перед будущими поколениями?.. А если б и представлял – остановило бы это его? Вопросы наивные и бесполезные. Нам всегда кажется, что булгарины, бенкендорфы, дантесы мучаются, совесть их грызет и «мальчики кровавые в глазах». Мы утешаем себя воображаемым возмездием. В том-то и хитрость, что творят они свои злодейства не как злодейства, а как суд, как защиту. Они уверены или уверяют себя, что они осуществляют возмездие, они обвиняют, они защищают и защищаются.
Булгарин оставался верен себе до конца. Он продолжал писать доносы на Белинского, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, он никогда не раскаивался, не предавался сомнениям, не мучил себя вопросами о злодействе. Любую мерзость, совершенную им, он приписывал своим противникам. С изощренностью он уверяет всех и самого себя, что это не его качества, а это все Пушкин, это Надеждин, это другие: «Замечено искони веков, что лучшее средство погубить человека, которого опасаются, есть клевета, облаченная в одежду сплетней…»
Это пишет Булгарин про Пушкина. Оказывается, его опасается Пушкин и губит сплетней. Булгарин упрекает Пушкина в корыстолюбии. В том, что Пушкина снедает честолюбие. И даже в том, что Пушкин творчески несамостоятелен, что он заимствует у Булгарина, что он «привык искать ошибок в других и вследствие этого не видит собственных».
Технику намеков, зашифрованных, упрятанных в аллегории, Булгарин разработал мастерски. Иногда работы пушкинистов над булгаринскими текстами напоминают скрупулезный труд следователя. Раньше я как-то не представлял глубины и точности исследований наших лучших пушкинистов. И тем не менее роль Булгарина в пушкинской судьбе остается во многом еще не выясненной. Может быть, она была куда более роковой, чем нам кажется.
Итак, Моцарт в глазах Сальери – виновен.
Виновен в том, что священный дар, бессмертный,
…не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..
Статья вторая обвинения. Что дал искусству Моцарт? Полезно ли его искусство? Может ли он, Сальери, великий музыкант, мастер, следовать Моцарту, использовать добытое им?
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет…
Следовать Моцарту нельзя. Потому что он творит не по законам музыки, а в нарушение их. Раскрыть тайну своего гения он не в силах. Следовательно, он бесполезен.
Полезен Сальери, даже Булгарин, Кукольник, Загоскин куда полезнее, чем Пушкин. Для черни, для светской черни. Не нравственность, а нравоучение им надобно, не идеалы, а восхваления.
…Тебе бы пользы все – на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский,
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Надежность была нужна. А посредственность – она надежна.
Моцарт вреден, ибо музыка его не вдохновляет таких, как Сальери, а убивает их. Это он, Моцарт, убийца.
Виновен? Да.
Статья третья.
Моцарт не просто бесполезен, бесполезность его опасна.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Зов волшебной флейты музыканта вызывает у людей смутное и тягостное ощущение собственной бескрылости. Бескрылое желание – непосильное, мучительное – приводит лишь к страданию. Высоты, куда призывает моцартовский гений, заставляют острее чувствовать себя «чадом праха». Человек из земли вышел и в землю уйдет, чего ж искать смысл и какой может быть смысл. Да еще если бога нет. Искусство дано для наслаждения. Помочь человеку забыться, утешить, сострадать. Зачем Моцарт возмущает души, растравляет – он искушает напрасно, как лермонтовский Демон, его музыка лишь бесплодно терзает, оставляя человека среди мерзостей жизни, измученного ненужными, бесполезными желаниями.
Виновен? Да.
Через полвека Великий Инквизитор Достоевского снова изгонит Христа, доказав необходимость изгнания. И, в частности, опять же соображениями пользы. Полезно то, что достижимо: «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал…»
Великий Инквизитор еще раз вернется к той же мысли, вернее, продолжит ее: «Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?»
А Верховенский в «Бесах», тот напрямик, не стесняясь, обещал: «…мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство… Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного шара отселе».
Сам по себе Моцарт – гуляка праздный – безвреден. Он виновен, он обречен, потому что он гений. Его приговаривают к смерти как гения.
Гений возбуждал против себя заговор королей, священников, придворных и просто булгариных и сальери. Его уничтожали ядом, ссылкой, ложью, наградами, лестью. Гений был опасен тем, что открывал истину. А истина, говорил Пушкин, неподвластна царям.