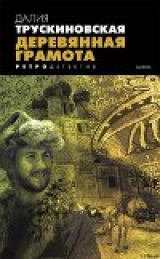
Текст книги "Деревянная грамота"
Автор книги: Далия Трускиновская
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Точно – табак! – воскликнул Данила.
– А ты почем знаешь?! – Тимофей обернулся к воспитаннику, яростно желая отчитать его за разврат и непотребство.
– Окстись, свет! Он же у нас шляхтич! – напомнил Семейка. – У них там, в Орше, поди, все паны трубки курят!
– Оттуда вся ересь и пошла! – Тимофей был грозен необычайно. – С Литвы, от литовских людишек!
– Да не галди ты, уши заложило! – одернул его Богдаш. – Что с этими делать будем?
– А к Башмакову! Сказывали, у него в приказе какого-то табачника недавно тайно выпороли. Вот пусть и разбирается!
– А нас что – за табаком посылали? – напомнил Богдаш. – Ну-ка, братцы, прямо говорите – где грамота?!
Мужики, которые так неудачно вывезли с Печатного двора незаконно хранимый там табак, все еще сидели на льду у опрокинутых саней, набычившись и вознамерившись отрицать свою причастность к мешку до самой дыбы. Новое обвинение их словно бы встряхнуло и возмутило.
– Какая еще грамота?! Знать не знаем никакой грамоты!
Богдаш соскочил с Полкана.
– Надоели вы мне, постылые!
Он поднял одного из мужиков за грудки и хорошенько встряхнул.
– Грамоту отдавай!
– Да знать не знаю!..
Придержав одной рукой за ворот, другой Богдаш заехал горемыке в ухо и лишь тогда отпустил.
– Да что ты дерешься!.. – взвыл тот. – Сказано же – не было грамоты!
– Все зубы у меня выплюнешь, сволочь!
– Да Христом-Богом!..
– Пошли, в санях поглядим, – не обращая внимания на Желвакову расправу, сказал Даниле Семейка. – За пазухи этим страдникам заглянем. Мешок растребушим. Где-то же она должна быть!
– Не найдем впотьмах, – возразил Данила. – Айда к нам на конюшни!
– Не выбросили бы по дороге… Как тот мешок…
Решили среди ночи Башмакова не будить, в Кремль не ломиться, а дознание провести в Больших конюшнях, что в Чертолье. Там, где стоят возники для государевых саней, каптан и колымаг. А дурьи головы из Земского приказа пусть хоть до утрени Печатный двор охраняют – делиться с ними своей удачей конюхи не собирались.
Когда печатных мужиков встряхнули хорошенько, то оказалось: табак они по распоряжению Арсения Грека тайно везли туда, откуда был взят, – в Замоскворечье, на Крымский двор. Там посольская свита не только табаком – и обувкой приторговывала, мягкими ичедыгами, в которых женки любили зимой по горницам ходить, и тафтой, и камкой, и конской упряжью, а в старые времена – прославленными крымскими луками.
Крымский двор был строением такого рода, которые чинили лишь тогда, когда в полную негодность придут, потому что посол крымского хана со свитой там жил не постоянно, а от случая к случаю. И это было для противозаконной торговли весьма удобно – стрельцы всех дырок в заборе знать не могли.
На Больших конюшнях нашлись и факелы, и место во дворе, где тщательно рассмотреть, чуть ли не по досточке перебрать сани. Самих мужиков тоже оглядели и ощупали внимательно. Ничего похожего на деревянную книжицу, как она была описана в столбцах Земского приказа, не сыскали.
Пока возились – и утро приблизилось. Решив угостить Башмакова табачищем на завтрак, конюхи вместе с добычей вернулись в Кремль и сдали ее с рук на руки и под расписку нужным людям. После чего вышли на еще пустую Ивановскую площадь и неторопливо побрели к своим конюшням.
– Ну, этого нам Земский приказ долго не простит! – весело восклицал Богдаш. – Крепко мы их проучили! Уж коли мы не соколы – так кто же?!
– Да, табачников ловить – их забота, – подтвердил Тимофей. – И где ведь, бляжьи сыны, угнездились?! На печатне! Говорил я – еретик тот Арсений!
– А я полагал – литовские людишки табак везут, – заметил Семейка. – А оказалось – крымцы.
– Крымцы еще и не то привезут. За ними – глаз да глаз! Знаешь, сколько караулу у Крымского двора? Три десятка стрельцов! До чумного сиденья – и вовсе полсотни было, – напомнил Тимофей.
– И все – купленные! – Богдаш расхохотался.
– А они – торговать умудряются, – продолжал Тимофей. – Теперь ведь и не докажешь, что эти мешки с табаком с Крымского двора. А правда ли, что крымцы говорят: коли кто после обеда табак не курит, у того или табака нет, или ума нет?
– Истинная правда. Теперь только то и докажешь, что Грек для себя где-то табак добыл, испугался, что найдут при выемке, да и велел мешки вывезти, – разумно сказал Семейка. – А что Греку? Его патриарх любит, в обиду не даст. Вот уж его за дым из пасти пороть не станут.
– Он к табаку, поди, еще в Турции приохотился, когда бусурманином был. Все отстать не может, – рассудил Озорной. – А патриарху то, поди, в забаву! Поругает – да и сам потом посмеется.
– Вместе с тем Греком… – совсем тихо заметил Семейка.
– Да-а… Может, и сам то зелье пьет? Втихомолку, а?..
Между конюхами завязался спор – как употребляют табак? Иные, оказалось, настаивают на нем вино, иные даже жуют томленые в горшках с разными приправами листья.
На конюшнях Тимофей повел всех в свой уголок, где мастерил слюдяное окошко. Там на лавочке стояла грубовато сбитая деревянная шкатула, виду странного – высокая и узковатая.
– Вот и проверим… – бормотал он, открывая шкатулу. – Вот и убедимся…
– Да что ты там затеял? – спросил Богдаш. – Оконце, поди, еще не готово, а ты на всякую блажь время переводишь.
– А что, Богданушка, не сменять ли нам тебя на медную сковородку? – с неожиданным ехидством осведомился Тимофей. – Пять алтын сбережем! А шуму от нее не в пример меньше!
– Да чтоб они все передохли! – воскликнул Богдаш. И непонятно было то ли сковородкам погибели пожелал, то ли хитрым женкам, гораздым на обманство, то ли даже Земскому приказу.
Данила тихо давился смехом, да и Семейка с ним рядом тоже подозрительно хмыкал и постанывал.
– Да не вопи ты, вон – выпей-ка лучше! – Тимофей протянул добытую из шкатулы и уже открытую баклажку.
Богдаш взял ее обеими руками, поднес ко рту, отхлебнул – и едва не выронил.
– Эт-то что такое?…
– Горячий сбитенек, свет. С ужина стоит. Что, плох?
– В самый раз! – злобно выкрикнул Желвак, и тут уж Данила с Семейкой захохотали в голос.
– Давай сюда! – потребовал Данила, отнял баклажку и возгласил, как полагалось всякий раз, когда конюхи садились пить:
– Быть добру!
Сбитень не обжигал, как полагалось бы, но был той приятной теплоты, которая на самом деле нужна промерзшему зимней ночью человеку. Данила передал баклажку Семейке, тот, отпив, – вернул Тимофею. И Тимофей, тоже отхлебнув порядочно, принялся ее прятать в свою изнутри слюдяную шкатулу.
Богдаш следил за перемещениями сбитня с великим недовольством. Вдруг он решительно протянул руку:
– Черт с вами – допью!
Отхлебнул и добавил, хоть и с опозданием, зато – от всей души:
– Быть добру!
* * *
Наутро в Земском приказе было горестно. Тайно, на ухо, Емельяну Колесникову сообщили, что конюхи-то на заре доставили каких-то двух людишек в Приказ тайных дел. И мешок еще приволокли, а что в нем неведомо. Мешок длинный – возможно, что и мертвое тело.
Тел приказные навидались довольно, что в мешках, что в рогожах, что одетых, что нагих, это в них трепета не вызвало. Непонятно было, зачем такое сокровище тащить к Башмакову в палаты – мог бы и на дворе разглядеть, что надобно…
Оставалось лишь гадать – нашли конюхи деревянную книжицу, или же не нашли. А ежели не нашли – что же теперь Земскому приказу делать?
Протасьев прибыл на службу, как ни в чем не бывало – как если бы и не к нему тайно, в сумерках, пожаловал еретик Арсений Грек. Стенька вытаращился на подьячего – но тот за сорок лет службы в приказе видывал и пострашнее вещи, чем возмущенная рожа земского ярыжки.
– Гаврила Михайлович, да что ж это?.. – шепнул Стенька на ухо Деревнину.
– Пошел вон, – шепотом же ответил подьячий. – Да хоть снегом умойся, что ли…
Настасья утром, вопя на всю слободу, что родной муж навеки опозорил, изгвазданной после возни с печью рукой дала Стеньке хорошую оплеуху. А кто ее позорил?!? Сама опозорилась! Вольно ж было про сковородку поминать!
– Гаврила Михайлович!..
– Кыш!
Стенька вышел на крыльцо и с ненавистью уставился на толпу просителей. Люди толклись, пихались, друг дружке на ноги наступали, переругиваясь тихонько – на громкую ругань явились бы приставы, прибежали стрельцы караульного полка, и порядок был бы наведен скоро и беспощадно.
Ловушка, которую Стенька столь хитромысленно сочинил, рухнула с треском. Такая добыча, как стряпчий конюх Аргамачьих конюшен Богдан Желвак, в дело не годилось – и оставалось утешаться тем, что и конюхи свою ловушку, возможно, зря ладили…
В очереди у крыльца произошло оживление – сразу двое, поскользнувшись на ледяной лепешке, грохнулись. Лепешка была ведомая – и что-то такое всплыло в памяти, чей-то голос лицемерно посочувствовал приказным, вынужденным обходить скользкое место…
Стенька вспомнил того молодца, что домогался деревянной книжицы, может, честно переписать, а может, исчезнуть с ней бесследно.
Сквозь толпу пробивался к крыльцу другой ярыжка – Елизарий. Взбежал, хлопнул Стеньку по плечу:
– А что, Степа, цена-то – прежняя?
– Какая еще тебе цена?
– А сковородка в пять алтын! Гляди, не продешеви!
– Тьфу!
Кулаки у Стеньки чесались заехать товарищу в ухо. Но воздержался.
Этой затеи со сковородкой теперь Земскому приказу до самой Масленицы потешаться хватит. Нужно же было дуре Наталье брякнуть! А на Масленицу зругие потехи явятся, авось, и забудут приказные, как земский ярыжка Аксентьев чуть за пять алтын женку под конюха не подложил.
Но ведь почему?.. Ради служебного рвения!..
Повесив буйную голову, пошел Стенька на торг, и гулять бы его дубинке по плечам, не разбирая правого и виноватого, вымещая злость от неудачной затеи, кабы в голове уже не раскручивался дальнейший розыск.
Коли конюхи нашли деревянную грамоту – неужто бы в Земском приказе никто не пронюхал? Да тот же Колесников? И шепнул бы тихонько Деревнину успокойся, батюшка, беда миновала, поди свечек в церквах понаставь…
Но Деревнин сам не свой. Он ведь, Стеньке поверив, что подосланная Наталья подцепила какого-то вражьего лазутчика, норовящего тайны Печатного двора разведать и туда тайком пробраться, ничего другого и не затевал – все упования возложил на пресловутую ловушку.
Стало быть, и самому Стеньке изворачиваться надобно, и начальство спасать.
А путь один – искать того треклятого Перфилия Рудакова, что выманил из касимовских лесов Нечая, пообещав показать деревянную грамоту.
Сиделец в лавке купца Родионова велел заглянуть – авось что и разведает. Сказал «завтра» – так ведь это уже сегодня! Стенька поспешил к лавке и насилу дождался, пока сделают покупку две купчихи с молоденькими дочками, которых на двух дородных женок, очевидно – сестер, приходилось то ли восемь, то ли девять, поди сочти, когда они мельтешат, взвизгивают и хохочут.
Девки предвкушали Масленицу, катанья с братцами на санях, званые блины, щегольство и утехи. Девки были беззаботны, словно те пташки небесные, о которых толковал в проповеди отец Кондрат. Зимний мясоед кончается, их не посватали, не обвенчали, и еще несколько месяцев им жить в ласковом родительском дому. Чего же не веселиться?
– А, это ты, свет! – приветствовал Стеньку сиделец.
– Бог в помощь, – сказал, кланяясь, Стенька. – Что, расторговался?
– Две пары чеботов взяли.
– Дай Боже дальше не хуже. Ну, разведал ли про того Рудакова?
– Уж и не знаю, как сказать. Он мне полуполтину должен – я уж на ней крест поставил. А есть у нас приказчик Онуфрий – тому он два рубля задолжал. Перфишка-то дня два как пропал, или три, надо вспомнить…
Стенька терпеливо ждал.
Несколько раз, когда он приходил на помощь и пытался подстегнуть вспоминающего, его резко осаживали, однажды так матерно излаяли, что хоть на бумажку записывай, чтобы приказных потешить. Поэтому, когда человек маялся временным беспамятством, он уж более не вмешивался.
– Или два? Я-то при нем не околачивался, разве я сторож тому Перфишке? Утром он вроде еще был… – бормотал сиделец. – Потом баба к нему прибегала. Вот дивно, и водились же бабы у того кривобокого…
– А что за баба? – тихонечко и очень осторожно полюбопытствовал Стенька.
– Откуда мне знать? Невеличка-белоличка, собой круглоличка.
Марфица, подумал Стенька, точно – Марфица, после того, как ходили Нечая допрашивать! Знала, вредная баба, где Нечай прячется, и понеслась, предупредила!
Что же за сокровище такое тот Нечай, коли из-за него козни плетутся?
– Так вот, потолковал я с нашими. Всем ведь этот блядин сын задолжал, все его ищут. А как проведали, что и Земский приказ его домогается, так духом воспряли. И стали припоминать – с кем да когда его встречали. Так вот, молодец, кое-что и обнаружилось! К тому Перфишке еще до того, как его в Касимов за жерновами и юфтью посылали, человек приходил, Соплей зовут.
– Человека – Соплей? – развеселился Стенька. – Лихое прозваньице! А что за человек такой? Как его сыскать?
– А вот так и сыскать, что нам, грешным, это не под силу, а разве вам, приказным.
– Налетчик, что ли?
– Не налетчик – а кружало «Ленивку» знаешь? Где целовальником Левонтий Щербатый? Так он у того Левонтия в подручных ходит.
– Да, – поняв, в чем загвоздка, согласился Стенька. – К «Ленивке» теперь – не подступись! А для чего к нему тот Сопля приходил – кто-нибудь догадался?
– А сдается мне, что Перфишка ему вино продать хотел. Он как-то приносил, угощал, а винцо-то не из кружала, а кто-то в подполье гонит. Левонтий-то уж точно непоказанное вино наливает. За ним такое водится!
– Хорошего же человека вы в приказчиках держали, – заметил Стенька.
– Ты про то хозяину скажи! Мы люди подневольные. А ему как раз был нужен неженатый, чтобы с обозами посылать. Женатого-то – грех, ну как что стрясется, семья осиротеет. Дороги-то – сам знаешь, какие.
– Ты про то у Разбойного приказа спрашивай. Мы-то за московские улицы отвечаем, а не за дороги.
– То-то у вас, сказывали, двух подьячих и троих ярыжек чуть не до смерти убили.
– Это когда же?!?
– А когда? А на Тимофея-апостола! У нас сиделец Тимошка Драный, так он угощал, а наутро и услыхали! Стрельцы их на Никольской подобрали, так у одного рука перебита, у другого ребра поломаны, не шевельнуться, криком кричал!
Стенька сделал мысленное усилие и понял, что двое подьячих и трое ярыжек – это он сам с Деревниным.
– А хозяин-то откуда того Перфишку взял?
– А к хозяину не подступись, не то как раз по уху огребешь. Сжалился над сиротинушкой безродным! Так чем на самого себя злиться за дурость – он нас гоняет…
Добраться до Сопли приказным было нетрудно – накануне Масленицы Щербатый с приказом ссориться не захочет, пришлет своего человека, чтобы сказку отобрали. За «Ленивкой» к началу Великого поста столько грехов набиралось – не счесть, лишние целовальнику вовсе не требовались.
Но тут в голове у Стеньки случилось то ли затмение, то ли прояснение.
Распрощавшись с доброхотом-сидельцем, он пошел себе потихоньку, рассуждая примерно так: ведь не раз и не два доводилось ему, ярыжке Степану Аксентьеву, затевать суету и суматоху, носиться непонятно где высунув язык, а потом за все свое усердие он чудом батогов избегал, дай Господи здоровья Деревнину. Так нужно ли на сей раз, опозорившись с ловушкой, немедленно радовать Земский приказ новыми затеями? Не разумнее ли хоть денек посидеть тихо?
Грустно ему сделалось от этаких мыслей – ведь они означали, что нет в ярыжке прежнего рвения, что устал и затосковал, что пуглив сделался не в меру. А коли рвение не являть – так ведь и подьячим никогда не сделаешься! Потому и смутно на душе, потому и пасмурно, хотя зимний день – солнечный, яркий, слепящий.
В таких вот рассуждения не то что побрел – а как бы сам себя за шиворот поволок Стенька в приказ. Прошел через торг, не имея намерения карать мелкую сволочь, а чтобы видели – вот она, власть, от государя поставленная, никуда не делась.
И вдруг навстречу этой хмурой, словно оголодавший волк, власти, другая – бодрая, голосистая. Земского ярыжку Мирошку Никанорова нелегкая несет!
Ну, коли и этот про сковородку спросит, подумал Стенька, зашибу к блудливой матери! Насмерть! Пусть потом хоть в яме сгноят!
Очевидно, Мирошка (мужик уже немолодой, из тех, кто в юные годы займет свою ступеньку на чиновной лестнице – и с той ступеньки его на погост сволокут) сообразил, что товарищ не в духе.
– Каково похаживаешь, Степа?
– Твоими молитвами, – буркнул Стенька.
– Тебя твой подьячий обыскался. Я тебя заменю, а ты к нему беги! Недолго уж осталось – народишко, гляди, шалаши закрывает.
Безмерно довольный, что его отлучка с торга осталась незамеченной, Стенька поспешил к приказу. Но Деревнин, как на грех, оказался занят. Пришлось обождать. А ждать в теплом помещении, где так надышали, что нехорошо делается, да еще не снимая тулупа, было выше Стенькиных возможностей. Он вышел на крыльцо и окинул взглядом Красную площадь.
Чем плохо жилось ярыжке? Вот она, кормилица-поилица, отсюда и до Василия Блаженного, и еще туда, вглубь, до Богоявленской обители. Всякий ярыжку знает, иной калачом угостит, иной стопочку поднесет. Коли пошустрее быть – можно и приработок сыскать. Так нет же – неймется!
И все это оставить ради дурацких соляных варниц? Стенька даже вздумал, что человек в здравом уме и твердой памяти такого делать не может и не должен. Соликамск – это ведь не город даже, не посад, а – село большое! Ни тебе торга путного, ни храма с дорогим убранством, ни тысячной толпы знакомцев…
Стенька вовремя сунул нос в дверь – Деревнин освободился. и сам к ярыжке подошел.
– Ты, Степа, вот что – ты меня дождись. Но тайно. Когда стемнеет, встань у Никольских ворот, оттуда посматривай. Я выйду – ты с места не двигайся. А как Протасьев пойдет – и ты за ним, понял?
– А что за ним? Он ведь тут же извозчика возьмет! Они же съезжаются, ждут, когда приказные по домам пойдут!
– Вот до извозчика его и проводишь. И как он к саням подойдет, и ты туда же, и жди приказа моего! А теперь – ступай, не до тебя…
Странное распоряжение Стеньке не понравилось. Конечно же, Протасьев, тайно принимавший у себя Арсения Грека, нуждался в особом внимании – но мог бы Деревнин и подробнее расписать свой план.
Но Стенька честно выполнил все, что положено. Он позволил Деревнину выйти из приказа и торопливо исчезнуть в устье Никольской улицы. Народу там было немало – кто отстоял службу в каком-либо из кремлевских соборов, кто на торгу припозднился, коли не все – так многие Никольской улицей уходили.
Когда по лестнице неторопливл спустился Протасьев, Стенька осторожно пошел за ним следом.
Очевидно, старик не чуял за собой никакой особой вины. Он шел достойно, нес немалое брюхо не хуже иного боярина. А коли посудить – так чем грамотный подьячий Земского приказа хуже того боярина, умеющего разве лаяться матерно у государева Постельничьего крыльца?
Протасьев тоже пересек Красную площадь и встал на углу, ожидая, пока подкатят извозчичьи санки. Тут же они и появились. Извозчик в тулупе с высоким воротом, откуда лишь борода и торчала, услышал, что везти на Солянку за копейку, кивнул, выражая согласие. После чего Протасьев, кряхтя, забрался в сани.
– Степа, прыгай сюда! – вдруг приказал извозчик хорошо знакомым голосом. – Держи его! Ги-и-ись!!!
Отродясь не слыхивал Стенька, чтобы Деревнин так орал. Он, полулежа в санях и придавив собой Протасьева, от одного этого лихого крика уже был в прежнем своем восторге – восторге скорости, восторге решительного действия!
Санки полетели вовсе не к протасьевскому дому, а куда-то в другую сторону, куда – Стенька не понял, потому что был занят пленником. Протасьев, изумленный похищением, ворочался, даже голос подать пытался, но Стенька прикрыл ему рот его же воротником.
Вдруг передок саней резко ушел вниз. Деревнин направил конька по склону берега прямо на лед. И там, прокатившись едва ли не до замоскворецкого берега, санки встали.
– Вылезайте! – велел Деревнин и сам вышел на лед. Местность он выбрал пустынную, прогнал конька по нетронутому снегу, напротив были луга, так что все условия для дознания имелись в избытке.
Стенька помог выбраться Протасьеву.
– Да ты что же, сучий потрох, выблядок!.. – начал было гневную речь старый подьячий.
– Молчи, Христа ради! – Деревнин был суров как никогда. – Не то тут и останешься! Степа! Держи двумя руками, да не опускай!
Из-за пазухи тулупа он достал пистоль и сунул ее Стеньке рукоятью вперед.
– Гаврила Михайлович! – сразу вспомнив про вежество, завопил Протасьев.
– Ага! Как пистоль под носом – так я и Гаврила Михайлович! А как в приказе – отойди, Гаврюшка, мне недосуг! Учись, Степа, обхождению!
– Да что ты затеял? – так искренне удивился Протасьев, что, кабы не знать про его шашни с Греком, так и прослезиться недолго. – Да чем же я тебе грешен?..
– Сейчас узнаешь! Я к тебе подходил, хотел спокойно побеседовать. Трижды подходил с поклоном и с просьбишкой! Ты меня прочь гнал! А ты же знаешь, старый крючкотвор, что на мне эта бляжья грамота повисла! Да и на Степе тоже! Как тебя выручать – так и орешь во всю Ивановскую: государи-братцы-товарищи! А как через твои проказы другому погибать – так и – Гаврюшка, прочь поди, недосуг!
– Так уж и погибать! – возмутился старый крючкотвор.
– Я ее, грамоту, сдуру из приказа вынес, я ее потерял! А ты, чем бы помочь, еще тайно принимал у себя того еретика Грека! Что, думаешь, не разведали? Вон Степа подтвердит и стрельцов назовет, которые его за полтину из Печатного двора выпустили, да еще ему извозчика нашли! Добром не хотел ответить – так под прицелом отвечай: чего от тебя хотел Грек? Чтобы ты у себя ту грамоту спрятал?
– Да мелочь сущую! И грамота тут ни причем! Вот те крест! – Протасьев был изумлен злобной настойчивостью товарища и удивлялся: оба ведь подьячие, оба на одно жалование не живут, к чему же нелепые и беспокойные расспросы? Мало ли бывает услуг кроме той, которая втемяшилась в голову Деревнину?
– Да что за мелочь?! – не придавая избыточного значения крестному знамению, продолжал домогаться Деревнин. Он столько лет прослужил в приказе, что затвердил: грех перед Господом замолить всегда можно, особенно если поп на исповеди точно скажет, сколько поклонов бить да прибавит несколько недель сухоядения; а от человеческой злобы уклониться куда как труднее…
– Да не о грамоте была речь!
– А о чем? Степа, не опускай пистоль!
Протасьев горестно вздохнул.
– Он знать хотел, не будет ли ночью какой засады…
– И ты ему, блядин сын, так все и выложил?!.
Протасьев развел руками.
– Да кто ж ты после этого?! – Деревнин был изумлен даже поболее, чем возмущен. – Ты государево дело продал! Ладно бы какое простое! А то государево!
– Ну так уж и продал… Два рубля с полтиною взял, за совет лишь, чтобы гостя не обидеть, – а государево дело-то, поди, подороже будет…
– Пошути мне еще, пошути! – Деревнин повернулся к ярыжке. – Вот с чьего благословения деревянная-то грамота из печатни пропала. А нам с тобой своими спинами отвечать!
– Да ему табак нужно было вывезти! – не выдержал старый подьячий. – Он мне прямо сказал – знать не знает, чего от него Земский приказ добивается, а боится, что табак у него найдут. И я ему посоветовал – в ту ночь держать сани наготове. Я-то знал, что вы там кого-то наверняка поймаете, шум подымется, стрельцы сбегутся. А под шумок и можно бы огородами тот табачище вывезти. Вот те крест, Гаврила Михайлович! Больше ничего ему и не говорил! А грамоту он не вывез – кабы вывез, ее бы те чертовы конюхи вместе с мешком табака захватили!
– Так это, выходит, конюхи за табаком погнались? – наконец сообразил Деревнин. – И мешок табаку к Башмакову спозаранку отнесли?..
– Врет же! – завопил Стенька. – Врет, как сивый мерин! Гаврила Михайлович, да Грек же еще раньше ту грамоту вынес тайно и ему, Протасьеву, передал! Когда приезжал к нему тайно! Стрельцы-то барашка в бумажке получили – да и в другую сторону смотрели, когда он из печатни выезжал! А еще брешут, будто шубу с него снимали, самого по косточке перебрали!..
– Степа, не галди! – прикрикнул Деревнин. – Коли Семен Алексеевич врет так я ему про то скажу! А ты – не смей! Да и проверить можно насчет табака…
– Да коли врет?!. – Стенька прямо застонал и, потрясая в возмущении руками, наставил пистоль прямо в небо.
– Пистоль не опускай, сволочь! А ты, Семен Алексеевич, сделай милость, растолкуй – просил ли тебя тот еретик Грек грамоту припрятать, сам ли ты ему предложил, или что иное было? И гляди мне! Я ведь тих-тих, а при такой нужде не к нашим дьякам, а к Башмакову пойду! Мне моя спина твоей особы дороже!
– Да мне бы кто растолковал, на что Башмакову та грамота?!. – возопил старый подьячий. – Грек плакался – принес ты ему, говорит, писание на дереве, которому лет двести, а то и поболе, держался ты за то писание, как утопающий за соломину, никакими способами он у тебя те дощечки выпросить не мог! А потом их и вовсе унесли! Оставил бы у Грека глядишь, и уцелели бы! Он всякие древние диковины любит, душу за них сатане продаст!
– Какие тебе еще древние диковины?.. – тут в голове у Деревнина сделалось помутнение. – Коли это древность еретическая, чего же за ней Башмаков конюхов гоняет?!
– А его спроси!
– Сдается и мне, что ты, брат, врешь.
– Врет он, врет! – зашумел, обрадовавшись, Стенька. – Слово и дело государево!
Перепугавшись до полусмерти, что кто-либо посторонний может у себя на Балчуге услышать этот верноподданический вопль души, оба подьячих, не сговариваясь, кинулись затыкать ярыжке рот. Причем Протасьев не побоялся даже уставленной на него пистоли, а Деревнин не пожалел вышитой рукавицы.
– Как докажешь? – держа в охапке мычащего Стеньку, быстро спросил Деревнин.
– Да хоть меня на одну доску с Греком ставь! Он то же самое скажет! Вот пошли за ним, доставь его к Башмакову – да там и спрашивай! И он тебе ответит, что деревянная книжица еще при татарах писана! Он-то в таких делах толк знает!
– Башмаков тоже в своем деле толк знает!
– Послушай, Гаврила Михайлович, Христа ради, отпусти душу на покаяние! Сплоховал я, не догадался – надо мне было сразу за стрельцами посылать, чтобы того Грека взять под караул!
Протасьев, умоляя, схватил Деревнина за рукав и, придерживаясь, попытался рухнуть на колени с наименьшими затруднениями.
Стенька замычал так выразительно, что Деревнин понял.
– Коли бы с глазу на глаз, так, может, и сговорились бы, – не мешая коленопреклонению, с намеком молвил он. – А помощничек мой, вишь, горяч! Мы-то с тобой пуд соли вместе съели, а он с тобой разве что на Пасху крашеными яйцами сменялся. Уж и не знаю, как быть…
Протасьев смотрел на товарища снизу вверх, и Стенько подивился тому, как жестка его длинная, почти седая борода – торчит, словно из доски выстрогана, хоть чернильницу на нее ставь.
– Да разве мы со Степой не договоримся? – сразу все понял Протасьев. Есть у меня однорядка скарлатного суконца, зять только раза два и надел, а потом пробовал влезть, да в груди поширел, не застегнуть! Вот на Масленицу было бы в чем пощеголять! А то утварью могу, хоть оловянной, хоть медной…
Деревнин вдруг выдернул рукавицу из Стенькиного рта.
– Сковороду проси! – велел. – Большую, медную! И от однорядки не отказывайся! А мне, сироте, и десяти рублей довольно будет, чтобы шуму зря не поднимать.
– Десять рублей?! Да где ж я тебе возьму?!
– А ты поищи, Семен Алексеевич. Мне-то бумагу найти нетрудно, а перо в пернице и чернильница на поясе у меня всегда при себе. Вот и напишу Башмакову весточку… Тебе-то на старости лет такие весточки ни к чему! За мздоимство неприкрытое, да еще в государственном деле, знаешь что бывает? И поболее десяти рублей в казну отпишут!
На том и столковались.
В тех же санях, но только посадив за кучера Стеньку, поехали к Солянке и сопроводили Протасьева до самого крыльца. Деревнин взошел вместе с ним в хоромы, Стеньке велел ждать. И скоро появился с добычей. Выйдя на улицу, кинул ее в сани, опять велел брать вожжи в руки.
– Ко мне! – распорядился. – Там Игнатий ждет, так мои орлы бы его не напоили…
– Вот оно что! – восхитился Стенька. Игнатий был извозчик ведомый, не раз приказным услужил. Деревнин, видать, на него и рассчитывал – чужой не уступил бы подьячему сани с лошадью. Деревнин же отправил Игнатия, чтобы тому не мерзнуть, к себе домой, где того знали и без угощения бы не оставили.
До Охотного ряда добрались без приключений, а там уж до деревнинского двора было рукой подать. Вызвав Игнатия, у ворот произвели раздел имущества: кому – сани, кому – однорядку со сковородкой.
Однорядку Стенька перекинул через левую руку, сковороду взял в правую вдруг придется отбивать от ночных налетчиков нажитое добро? Они еще прошлись с Деревниным взад-вперед по хрусткому снегу, оба веселые, потому что с добычей, и рассуждали: соврал ли Протасьев, или грамота точно древняя? И коли древняя – ради чего вмешался в это дело Башмаков?
Стенька принялся вспоминать – что умного говорилось о деревянной книжице в тот злополучный день, когда она оказалась в Земском приказе и была пущена по рукам. И точно ведь – кто-то из подьячих подивился, для чего писать на дереве, коли бумага недорога? Высказали предположение парнишка ее кому-то нес, да не донес. Или, напротив, у кого-то унес и, спасаясь от погони, забился в сани под рогожу. А потом еще кто-то про древность слово молвил, да за шумом и не прислушались… а зря…
– Уж не кладовая ли роспись? – вдруг догадался Стенька. – В смутное время всякий норовил свое имущество припрятать, а что не припрячешь полякам доставалось, а те тоже клады хоронили… А бумаги под рукой не случилось…
– Молчи, Христа ради! – прервал его Деревнин. – Вот тоже кладознатец выискался! Молчи, не то я заговорю!
Стенька и язык прикусил.
Вспомнил, как минувшим летом сам ввязался в поиски клада, и что за чушь из этого вышла. Но ведь и тогда Приказ тайных дел каким-то боком к кладу пристегнулся, и тогда конюхи какое-то загадочное задание дьяка Башмакова выполняли…
– Государь диковины любит! – предположил Деревнин. – Может, ему прислали откуда-то, поклонились нашему свету деревянной грамотой, он чаял докопаться – что за диво, а она возьми да и пропади? Государь-то в гневе страшен, так изругает – держись только! А потом отойдет – бывало, и сам прощения попросит…
– Да кто бы посмел государеву утеху в Верху стянуть? – удивился Стенька.
– Дураков и воров всюду довольно. А ты бы, Степа, хоть поблагодарил, что ли? Я же тебя, дурака, с женкой твоей помирил! Принесешь ей сковородку и будет опять в семье лад!
Стенька вздохнул – ладом пока и не пахло…
* * *
За мешок с незаконным еретическим табаком Башмаков конюхов похвалил. Но сперва-то похвалил, а потом и спросил о деревянной грамоте. Пришлось Тимофею руками развести:
– Батюшка Дементий Минич, прости – там, где мы ее взять чаяли, она лишь померещилась…








