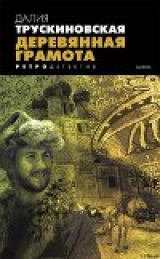
Текст книги "Деревянная грамота"
Автор книги: Далия Трускиновская
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Какую книжицу?..
Ивашка поклялся, что отродясь про такие диковины даже от попа не слыхивал, а от Рудакова – тем более. Клятва была так горяча, что Стенька ей не поверил.
– Ну, собирайся! Возьмем тебя в приказ, отберем от тебя сказку про того Перфилия Рудакова! Ведь ты, сучий потрох, точно про него знаешь – кто таков и где проживает!
– Не знает он! – вступилась женка. – А возить взад-вперед по всей Москве – не позволю! Я ему ногу правлю, весь мой труд насмарку пойдет!
– Больно ты грозна! – сказал на это Баламошный. – Ишь, приказывает! Да кто тебя слушать станет!
– Да ты и послушаешь! Я-то знаю, какую хворобу тебе с самого Рождества лечат, никак вылечить не могут! Гляди – такого сейчас скажу, что и вовсе с той хворобой сладу не будет!
– Да ну тебя! – стрелец даже отступил на два шага, крестясь. – Да воскреснет Бог и да расточатся врази его!.. Пошли отсюда, Степа!
– Уйти нетрудно, а только понадобится нам этот Ивашка Шепоткин, придем мы за ним – а его-то и нет!
Ивашка стал клясться и божиться, что никуда не денется, Марфица вышла из-за занавески, припала к мужу и своих криков добавила.
Наконец Стенька потребовал от Ивашки крест целовать, что будет сидеть сиднем на Волхонке. Тот было заартачился, да женка, торопясь заняться своим лекарским делом, выступила на стороне правосудия.
С тем Стенька вместе с приставами да со стрельцом убрался восвояси.
И уж так гордо он вышагивал во главе своего отряда, грудь выкатив, чтобы заветные красные буквы всякий встречний видел и уступал дорогу государевым служилым людям, когда к Ивашке направлялся! А как от того треклятого Ивашки возвращались – так впереди-то Трофимка Баламошный выступал, Стенька понуро сзади плелся.
На душе у него было хмуро еще и вот почему.
В сенях его задержала чересчур много о себе возомнившая женка.
– Ты, молодец, за деревянной грамотой не гоняйся. Как она появилась ни с того ни с сего, так и исчезнет, и никто ее больше не увидит. И Земскому приказу до нее дела нет.
– А ты почем знаешь?
В сенях было темно, и прочитать по Стенькиной роже, какое у него вдруг возникло гнусное намерение, женка не могла. Однако ж как-то она все уразумела.
– Ты думаешь, коли меня сейчас допросить да дыбой припугнуть, то я тебе все про ту грамоту и выскажу? Не трать времени – пуганая! А коли упорствовать станешь – глаза тебе отведу да и уйду из Хамовников, Москва велика!
– Москва велика, а вот пойду на Варварский крестец, где все корневщицы да ворожейки собираются, и живо мне расскажут, куда ты запропастилась! щегольнув своим знанием жизни, отвечал Стенька.
– А не скажут! Побоятся рассердить Устинью Кореленку! – она негромко рассмеялась. – Вот так меня и кличут – Кореленка! Запомни, молодец, может, когда и пригожусь! А теперь ступай, догоняй!
– Так что ж это за грамота?
– Не твоего ума дело. Она уже сколько-то людей погубила и еще не одного погубит, а потом и сама на долгие годы пропадет. Ступай, ступай! Те, кого она губит, сами своей погибели ищут!
С тем и вытолкала из сеней…
Шагая следом за приставами и стрельцом, Стенька обдумывал дальнейшие ходы. Теперь нужно было доложить подьячим, что Нечай пропал, а придется искать купца Перфилия Рудакова, который, судя по всему, и собирался показывать парню деревянную грамоту.
Навстречу ярыжке с приказного крыльца сбежал сослуживец, ярыжка Захар.
– Где тебя носит! – крикнул он. – Тут у нас такое делается! Меня за тобой посылали – так за тобой с собаками не угонишься!
– А что стряслось?
– Мертвое тело пропало!
– Какое еще тело?
– Да парнишка тот! Приходили какие-то два человека, смотрителя, Федотку, по башке треснули да и вынесли тело в рогожке! И поминай как звали!
* * *
– Данила! Выгляни-ка, свет!
– Тут по твою душу!
– Принарядись-ка!
– Личико умой!
– Кудерьки расчеши да пригладь!
Недоумевая, с чего бы товарищи его зовут так несуразно, Данила как был, со скребницей и щеткой, вышел из стойла, где наводил блеск на аргамака Байрамку. Хорош был Байрам, по-своему разговорчив – всяко умел показать, чего ему надобно. Данила уже мечтал, как он летом, когда многих аргамаков уведут туда, где будет угодно поселиться государю, выпросит у старших позволения хоть раз проездить этого красавца, испытать его резвость и понятливость!
– Да пригладь космы-то! – прикрикнул на него Тимофей, причем не шутя. – У тебя, поди, полная башка конской шерсти и всякой дряни! Гляди на аркане в баню сволоку!
– Дьяк, что ли, ко мне пожаловал? – спросил Данила, положив щетку со скребницей на узкую лавочку и обеими грязными руками обжимая на голове свои легкие пушистые волосы, норовящие закурчавиться на висках.
Раздался дружный хохот.
– Какой там дьяк? Девка! Невеличка, белоличка, собой круглоличка!
Данила побежал по проходу, в одной рубахе выскочил из конюшни.
Снаружи его ждала Авдотьица.
– Я все делала, как ты велел, – зашептала быстро. – Каждое утречко в ту проклятую избу бегала! Я свои денежки отработала!
Она приклонила голову к самому его уху.
– Забрали парнишечку-то!
– Кто забрал? Когда? – от такой новости Данила двумя руками вцепился девке в рукав шубы.
– Да сегодня утром же!
Парень посмотрел на небо – было близко к полудню.
– И ты только сейчас до меня добралась?!.
– С тебя причитается, куманек. Я на извозчика протратилась да на службишке своей не показалась, придется там кому следует барашка в бумажке поднести.
– С какой такой радости? – Данила все еще был возмущен.
– А с такой, что я тех людей-то выследила!
– Каких еще людей?
– Которые парнишечку забрали!
Данила даже шарахнулся от Авдотьицы. А она стояла довольная, веселая, чающая немалой платы за такой подвиг.
– Сказывай! – на радостях не замечая морозца, потребовал Данила.
– А что сказывать-то? Я, как всегда, к смотрителю – мол, мой-то не появлялся? Он мне – да Бог с тобой, девка, что это тебе в голову взбрело раньше смерти его хоронить?! Жив твой, приютился где-то, может, сманили его, с купцами уехал, может, у товарища какого живет, много ли места парнишке надобно? Сама же, мол, говорила, что мать у него пьющая, вот он и сбежал…
– Ты мне про тех людей говори!
– А те люди тут и появились! Они ему не родные, родные реветь бы кинулись, крик бы подняли. А эти его оглядели, переглянулись, один другому и говорит: ну, точно – он! И перекрестились оба.
– Так что ж это был за парнишка?
– А ты слушай! Смотритель – к ним: забирать, что ли, будете? Так я, сказывает, знать должен, кто он таков и кто вы таковы. И в Земском приказе от вас сказку отберут – точно ли ваш парнишка. Тут они вдругорядь переглянулись. И говорят смотрителю – ну, пошли, что ли, в Земский приказ? И вышли…
– А ты?
– А я, не будь дура, тут же за ними и выскочила. Мне же еще извозчика нанять следовало! Побежала я к Никольской, их там много ездит, и с одним сговорилась.
Тут Авдотьица замолчала.
– Дальше-то что? – не выдержал Данила.
– Поиздержалась я на извозчика-то, – сообщила она. – На Волхонку выехали, встал – деньгу ему плати! Заплатила, дальше едем. На Остоженку свернули, сколько-то проехали – встал! Опять деньгу плати!
– А чего тебя туда понесло?
– Так я же за парнишечкой следом ехала!
Тут только до Данилы дошло, что зазорная девка Авдотьица обставила, похоже, и Земский приказ, и конюхов, имеющих тайное поручение от дьяка Башмакова.
– Пока я с извозчиком сряжалась, они-то, те двое, в избу вернулись, завернули парнишечку в рогожу да и вынесли скорехонько. А сани их неподалеку ждали. Они и покатили, я – следом.
– Так куда ж они прикатили? – заорал Данила.
– Так я ж тебе толкую – на извозчика поиздержалась!
В девкиных глазах было такое лукавство с нахальством пополам – Данила дара речи лишился.
– Ты что же, думаешь, я лошадей чистить иду – кошель с собой беру? спросил он. – Вернутся к тебе твои денежки! Подожди тут!
Он вошел в конюшенное строение и принялся звать Тимофея.
Тот отозвался не сразу – опять возился со слюдой. Данила пошел на голос.
– Авдотьица-то выследила, куда парнишку мертвого увезли, – сказал он товарищу. – И денег просит. Раньше-то я ей за каждый поход в избу платил. А теперь четырьмя деньгами не отделаюсь.
– Вот гривенник, – Тимофей полез за пазуху, достал кошель, где у него, завернулая отдельно, хранилась уже пущенная в размен башмаковская полтина. – Хватит ей, как полагаешь?
– Не хватит – добавлю.
– Ушлая девка! Так ты сейчас туда отправишься?
– А ты полагаешь, что один только Богдаш на верном пути стоит?
Желвак охаживал красивую женку по всем правилам – добивался тайного свидания. И она вроде была не прочь. Говорила даже, что есть на задворках печатни подходящее местечко, да слишком много шуму поднято из-за неведомых злодеев, всюду слоняются стрельцы и приказные. Богдаш осторожно выспрашивал – что за шум, имеет ли основание, и не Арсений ли Грек, еретик ведомый, тому виной. Женка сперва про Грека толковать не желала, видать, не по душе он ей пришелся, но при следующей встрече Богдаш ее улестил сообщила, что еретик больше всех переполохом озабочен и странные речи ведет с работниками, вроде как хочет иного о чем-то просить, да не решается.
Всякий раз, пересказывая бабьи слова, Богдаш прибавлял – «по ее дурьему разумению», а Тимофей согласно кивал. И точно – дурой нужно быть, чтобы в такое смутное для Печатного двора время все тайны случайному молодцу выбалтывать…
– Семейку с собой возьми, – посоветовал Озорной. – Я тут за вас обоих потружусь.
Семейкины сборы были недолгими. Он подергал за свисавшую на голенище алую с зеленым кисточку засапожника, словно желая убедиться, что кривому ножу в сапоге удобно, и накинул на правую кисть петлю глухого кистеня. Рукав тулупа был такой длины, что позволял обходиться без рукавиц, а для руки, которой работать кистенем, это очень важное удобство.
– А ты свой подсаадачник прихвати, – посоветовал.
Как только Данила разжился этим старым, широким, об одном лезвии, но с отточенным острием ножом, Семейка тут же и ножны смастерил, такие, чтобы удобно к поясу подвешивать. Благо кожу на Аргамачьих конюшнях не покупать! От шорного дела немало обрезков остается.
Он помог приладить орудие и показал, где должна быть рукоять, чтобы не шарить ее под шубой до морковкина заговенья.
Авдотьица, смышленая девка, дожидалась их не за конюшенной оградой и даже не у выхода, а у самых Боровицких ворот. Понимала, что коли уж конюхи занимаются таким странным делом, как выслеживание мертвого тела, так не от собственной дурости, а – по чьему-то тайному повелению. Опять же, хватало у нее ума, чтобы понять – люди, и бабы тоже, что оказывают услуги Приказу тайных дел, нищетой маяться не будут…
– Наконец-то! – сказала она. – Как поедем-то?
– Нас трое, – посчитал Семейка. – Не во всяких санях поместимся. Придется такого извозчика ловить, чтобы целые розвальни были!
Ни слова не сказала Авдотьица о том, что конюхи – на то и конюхи, чтобы своих лошадок в сани закладывать. Тайное дело – оно тайное дело и есть.
Такого извозчика они нашли не сразу. Срядились ехать до Хамовников.
– Далеко же это мертвое тело залетело… – заметил Семейка. – Точно ли туда отвезли, или оттуда, может, дальше отправились?
– Я недолго обождала, еще бы пождала, да извозчик заругался, – сказала Авдотьица, умещаясь между двух мужиков поудобнее. – Ну, с Богом, что ли?
– Эй! Ги-и-ись!!! – взвизгнул извозчик. – Ги-и-ись!!!
Москвичи слишком хорошо знали этот крик, чтобы, заслышав, не топтаться посреди улицы, а сразу отскакивать к заборам. Летом еще не так опасно, улицы неровные, в колдобинах, не разгонишься, а зимой снег все неровности сгладит, и по нему, по накатанному, сани стрелой несутся. И все-то слово «берегись!» извозчик выкрикнуть не успевает, да и незачем, и так ясно…
– Ткачи-то тут как замешались? – сам себя спросил Семейка, когда у Никольской церкви сани остановились. – Неужели парнишка отсюда сбежал? И на ночь глядя – к Красной площади, к торгу?
Хамовники были одной из тех подмосковных слободок, жители которых подчинялись непосредственно государыне. Она самолично занималась их делами, беспокоилась о порядке на улицах, выслушивала челобитные. Ткачи же, имея от нее годовой оклад жалования, заготавливали полотняную казну. Своими руками трогала и перебирала государыня доставляемые полотна тонкие двойные гладкие и двойные полосатые, полотна посольские – такие, что шире не бывает, полотна грубые – так называемые тверские, браные скатерти, убрусы, утиральники, сама приказывала, что куда: иное для собственного употребления, иное для подарков, а что не слишком чисто сделано – на продажу. Были у нее среди ткачей любимцы и любимицы, и слобода этим гордилась.
То, что парнишка, по определению Авдотьицы, был не из нищего житья, вроде бы соответствовало его происхождению именно из Хамовников. Налогами ткачей облагали невысокими – правда, и переселяться в другие слободы не велели, и дочерей с сестрами на сторону выдавать – тоже.
– Ждать-то вас, или как? – спросил ямщик.
– Ты, молодец, лошадь у паперти привяжи, а сам ступай в церковь, погрейся да помолись, – присоветовал Семейка. – Мы тут неподалеку сходим, а коли не захотим сразу возвращаться, пришлем сказать.
– Дорога-то тебе уж оплачена, – добавила Авдотьица.
Данила только озирался – тут он был впервые.
= Пойдем, что ли? – спросил он. – Ты место точно помнишь?
– Как не помнить!
Авдотьица привела Данилу с Семейкой к крепкому забору, за которым явно было справное, богатое хозяйство.
– Сюда вот парнишечку привезли.
– Не в церковь? Прямо на двор? – уточнил Данила.
– Вот то-то, что на двор…
– Но ведь все равно отпевать в церкви придется, а хоронить – на кладбище, – сказал Семейка. – И привезли с утра… Должно быть, уже и с попом сговорились. Ну, давайте решать – как дальше быть? Тебя, девка, поди, в твоей бане заждались.
– Сегодня мне в бане делать нечего, – отвечала Авдотьица. – И завтра, пожалуй, тоже.
Других объяснений Семейке не требовалось – он знал, что бабам и девким в известные дни ни в церковь ходу нет, потому что – нечисты, ни в баню чтобы нечистота разом на других не перекинулась.
– Ты откупилась, что ли? – спросил непонятливый Данила. – За тебя другие девки трудятся? Сколько дала-то?
И полез за деньгами.
Семейка усмехнулся, но не удержал, не захотел девку позорить.
– Алтын дала, – Авдотьица сразу сообразила, как Данилиной простотой попользоваться.
– Держи. Как же нам туда пробраться да расспросить?
– Тут, пожалуй, только с цепным кобелем и потолкуешь… – Семейка оглядел всю улицу, все длинные заборы, одинаково серые и высокие, и хмыкнул.
– Я не пригожусь ли? – спросила Авдотьица.
– Ты?
– А знаешь, где черт сам не управится, там бабу подошлет!
– Ловка! – одобрил Семейка. – И что же ты скажешь?
– А то и скажу… – она призадумалась. – Скажусь, будто из верховых девок…
– Так тебе и поверят! – Данила видывал в Кремле верховых девок, что служили самой государыне, все были нарядны и красивы, как на подбор, и ни одной среди них богатырского роста он пока не заметил. Авдотьица же в какой шубейке хлопотала по банному делу, в такой и приехала.
Она поняла, что Данила имел в виду.
– Ничего, это не помеха! Скажу – прислали с самого Верха разведать: мол, челобитную государыне подала убогая вдова, просит денег на постриженье, а бабы-то ее и вспомни, что никакая она не убогая!
– А как ту вдову зовут, за кем замужем была? Дети где? – спросил осторожный Семейка. – Тут-то тебя и прихватят!
– А вот пойду сейчас в церковку, Богу помолюсь, свечек понаставлю – и буду знать доподлинно, сколько в Хамовниках вдов и как они все прозываются!
– И то верно!
При каждой церкви обреталось немалое количество женщин в годах и даже древних старух. Иные, придя в тот возраст, когда детей уж не родить, делались просвирнями, иные – свечницами, и кормились при церкви неплохо. Иные же просто милостыню просили и с того жили, как могли.
Отпустив Авдотьицу в церковь, Семейка с Данилой отошли от нужного двора подальше.
– Я вот думаю – есть ли что общее между Хамовниками и печатней? спросил Данила.
– И как?
– Да ничего вроде и быть не должно! – тут он задумался. – Разве что какой приклад для переплетного дела тут заказывают?
– Холст, бывает, нужен. Да что его заказывать! – возразил Семейка. Купить проще. По шесть денег с полушкой аршин – и незачем в Хамовники тащиться.
– А что, тебе доводилось книги переплетать?
– Еще и не то, свет, доводилось…
Тут Семейка несколько помрачнел.
Даниле очень хотелось как-нибудь усадить Семейку за накрытый стол, чтобы ни Тимофей рядом бубнил про божественное, ни Богдаш подстерегал миг и вворачивал язвительное слово. И завести разговор о многих вещах поочередно, долгий такой, неторопливый разговор…
Семейка ему тем и нравился, что не язвил, не поучал и за власть не боролся. Богдаш – тот непременно желал первым и главным быть. Тимофей Озорной его время от времени осаживал, показывая – вот кто тут главный! Семейка же был тих и неприметен, пока не доходило до дела. А тут он, хотя и не был силен, как Тимофей, не бросался в бой беззаветно и отчаянно, как Желвак, обоих мог при желании обставить лишь тем, что действовал спокойно и не останавливаясь для бесплодных размышлений. Точно с тем же спокойствием, что и при починке сбруи, мог он треснуть заступившего ему путь человека кистенем да и пойти дальше, не беспокоясь совершенно, что же с тем человеком будет.
– Я на государевой службе, – был его обычный ответ. Похоже, он и впрямь считал, что за все его деяния ответ перед Богом несет тот, кто его послал с тайным поручением, – государь Алексей Михайлович.
– Занятно Богдаш придумал, – сказал Данила. – Земский приказ печатню трясет, а мы – приказных выслеживаем! Ждем своего часа! Вот только как он поймет, что они до грамоты добрались?
– Богдашка хитрый, – одобрительно молвил Семейка. И перевел речь на конюшенные дела.
Авдотьица молилась и ставила свечки довольно долго. Данила с Семейкой устали пялиться издали на церковную дверь. Вдруг она появилась и поспешила к тому двору, куда было доставлено мертвое тело.
Походка у нее была такая, что невысокую девку бы украсила, стремительная, грудью подавшись вперед, голову чуть наклонив, руки, в длинные рукава упрятанные, сложив на груди кулачок к кулачку. Когда же такая колокольня несется, наклонившись, только и мысли – вот-вот грохнется!
Авдотьица подошла к калитке и принялась стучать. Ответил ей лаем кобель. потом, видно, раздался и человеческий голос. Она вступила в переговоры. И, не успел бы Данила «Отче наш» прочесть, как ее и впустили…
– Гляди ты! – обрадовался он. – Нашла-таки зацепку!
– Этой бы девке да ноги покороче…
– Да-а…
Теперь, зная, что Авдотьица занята делом, и они пошли в церковь.
– Долго мне тут торчать-то? – напустился на них извозчик. – Я уж все грехи замолил, сколько их за год накопилось!
– Погоди вопить, свет, не в лесу, – одернул его Семейка. – Вот тебе еще две деньги – мои грехи замаливай.
И отвел Данилу в сторонку.
– Не выглянуть ли? – спросил парень. – Она с того двора выйдет, нас не найдет…
– Девка смышленая, – успокоил Семейка. – Сразу к храму побежит. Где ж мы еще можем быть!
Данила из выданных Башмаковым денег взял полушку, купил свечку и стал искать – кому бы поставить?
В почете тут был образ Николы-угодника. Перед ним не меньше двух десятков огоньков теплилось. Никола ремеслам покровитель, ткачей чтобы призрел и в обиду не давал. Данила решил, что об этом святом и так изрядно позаботились.
Те образа Богородицы, что тут имелись, тоже были освещены и сверху, и снизу, и лампадками, и свечками. Данила прочитал краткую молитву, но о чем просить Богородицу – пока не знал. Разве о том, чтобы дед Акишев поскорее невесту сговорил?
Невеста-то невеста…
Отогнав совершенно ненужную в храме мысль, Данила поспешил к Спасу Нерукотворному и поставил свечку ему, попросив заодно, чтобы в розыске поспособствовал.
Семейка же все это время провел перед одной иконой, то ли глядя на нее, а то ли не глядя, а просто о своем думая, то ли молитву беззвучно читая, а то ли что иное про себя говоря… Данила присмотрелся – это был образ Алексия, человека Божия, и вряд ли хоть одна московская церковка без него обходилась – на Алексия государевы именины! Зачем Семейка его избрал, и не случайно ли перед ним встал – Данила так и не понял…
Вскоре и Авдотьица появилась.
– Ну, велик Господь! – прошептала. – Пойдем-ка отсюда! Разведала я…
Они втроем вышли на паперть.
– Я тут с бабами потолковала, и сказали мне, что в том дворе недавно женка померла, моих лет, Любавой звали. А взяли ее, сказывали, не из своих, а откуда-то чуть ли не с Таганки. Вот, думаю, того-то мне и нужно. Я побежала, постучала, спросила – не тут ли женка по имели Любава живет? Меня баба из-за забора спрашивает – а какое до нее дело? Я той бабе впусти, мол, что так-то через забор перекрикиваться? Ну, она впустила. Я и говорю – в чуму семья наша, мол, разделилась, мы с матерью и с братцами от греха подальше в самую Казань забежали, а две сестрицы у тетки остались. И вернулись мы год назад, а ни тетки, ни сестриц! И думали мы, что их и на свете нет, а недавно узнали, что одна, Любава-то, жива осталась и замуж выдана то ли в Кадашевскую, то ли в Хамовническую слободу. За ткача, одним словом. Была я в Кадашах, там бабы сказали точно, есть в Хамовниках Любава!
– Ишь ты, как наплела! – восхитился Данила.
– Наше дело такое, – согласилась Авдотьица. – Меня в дом впустили, за стол усадили. Родами-то Любавушка померла, один сыночек остался, вторым не разродилась. Помянули мы ее душеньку. И надо же тому быть – и впрямь она родных в чуму потеряла!
– Лихая ты девка! – похвалил Семейка. – Как же на мертвого парнишечку разговор навела?
– О похоронах расспрашивать принялась – где сестрица, мол, лежит, и с сыночком ли рядышком, и где тут кладбище, и своих ли только хоронят, или чужих тоже… Расспрашиваю, а сама-то думаю, что за стенкой, в какой-нибудь сараюшке, мертвое тело лежит! И привезли его, бедненького, и нет ни матери, ни тетки, чтобы обмыть, убрать, поплакать над ним!.. Авдотьица вздохнула и совершенно неожиданно завершила печальное рассуждение: – А за такие мои страдания неплохо бы и добавить деньги три или четыре!
– Погоди! С чего ты взяла, что ни матери, ни тетки? – не понял Данила. Зачем же его туда доставили?
– Что он хозяевам чужой – это сразу понятно. Бабы в доме бодрые, не заплаканные, и тихо, никто к похоронам и к поминкам не готовится.
– Тебя, девка, в Приказ тайных дел на службу брать пора, – сказал Семейка.
Авдотьица весело на него глянула.
– А что? Порты надену, косу остригу – буду не хуже Данилы. У него вон тоже ни усов, ни бороды! И возьмут меня на государеву службу. Так о чем это я?
– О том, что к похоронам в доме не готовятся, – напомнил уязвленный в лучших чувствах Данила.
О бороде он и не мечтал, борода ему даже не была нужна, в его-то девятнадцать, но вот усы не помешали бы. У ровесника Вани уже выросли светлые, правда, чуть ли не прозрачные, и бородка такая же. Негоже быть женатому человеку без растительности. Может, после свадьбы усы в рост пойдут, думал Данила, может, одно с другим как-то увязано?
– Так верите ли – мне и спрашивать не пришлось! У баб-то язык долог! Как речь о покойном младенчике зашла – тут они мне все и выложили. Да уж такое рассказали! Ни в сказке сказать, ни пером описать! Доставайте гривенник – я его заслужила!
– И что же?! – Данила хотел было схватить Авдотьицу за плечи и встряхнуть, может, и схватил бы, да только трясти того, кто на полголовы тебя выше, – несуразное занятие…
– Погоди, свет, погоди, не роди, дай по бабушку сходить, – утихомирил его нетерпенье Семейка. – Ведь она нарочно тянет! А ты, девка, не шути. Тебе деньги плачены.
– Вот что оказалось – хозяин-то не для себя в ту избу при Земском приказе ездил, а его научили. Парнишечка-то не московский, а со скоморохами пришел. Была у них, у скоморохов ночью с кем-то стычка, он убежал, спрятался где-то да и и замерз сдуру. А сами скоморохи за ним идти боялись – ну как опознают? Там их в Земском приказе и оставят, без батогов не отпустят! Им же на Москве бывать не велено!
– Скоморохи?.. – Данила ушам не верил.
Это что же – опять ему Настасья на пути встала?..
– Вот они хозяину, Афанасию Ивановичу, все приметы дали и заплатили, чтобы тело вывез. Он все сделал, а его тут с другими санями ждали и увезли парнишечку отпевать и хоронить куда-то чуть ли не в Ваганьковскую слободу…
– Разумница ты, девка, – похвалил Семейка. – Все сходится – Масленица на носу, вот скоморохи в Москву на заработки и потянулись. Деньги ты честно заработала. Данила, доставай кошель и плати!
Затем, не беспокоясь, много ли осталось у Данилы от той полтины, что получена из денег дьяка Башмакова, он повернулся и зашагал обратно к церкви – вызволять заждавшегося извозчика.
Тот уж не молился, а ругался.
– Чертольской поедем? – буркнул наконец.
– Какая тебе Чертольская, свет? Нет больше Чертольской, – вразумил Семейка. – А есть Пречистенка. Госудать ей так зваться указал.
– Отродясь на Москве прозвания улицам не меняли, – возразил извозчик. Было Чертолье – и будет Чертолье.
– Стало быть. государь на богомолье в Новодевичий поедет, к Пречистой Смоленской Богоматери, а все по дороге будут непристойно черта поминать? спросил Семейка. – Гляди, притянут тебя в Земский приказ, свет! Там-то научат, что улица Пречистенкой зовется!
Данила покосился на товарища – никто из конюхов еще не приспособился звать улицу на новый лад, и когда заходила речь о Больших конюшнях, где стояло под полторы сотни возников – крупных коней, обыкновенно запрягаемых в сани, – иначе как Чертольской ее и не называли. Очевидно, Семейке просто хотелось осадить извозчика.
Доехали не до самого Кремля, а, бережения ради, лишь до Колымажного переулка. Там извозчика отпустили.
– Ну, тебе, девка, налево, нам – направо, – распорядился Семейка. Или наоборот, как твоей душеньке угодно.
Данила только дивился – насколько Семейка был мягок и ласков с товарищами, настолько строг с Авдотьицей…
– Да ладно тебе, – сказал он. – Ты ступай, я догоню. Провожу малость…
Парню было неловко перед Авдотьицей, и он пошел с ней рядом к Москве-реке, свернув с Волхонки, где не бывал с лета, и подивился тому, как снег преобразил знакомое место.
При взгляде сверху Москва-река была зрелищем удивительным. Сплошь исчерченная протоптанными тропинками и целыми наезженными дорогами, она кишмя кишела посадским людом. После того, как лед крепко встал, удобнее всего было разъезжать по ней, а не по улицам: никаких тебе колдобин, какой санный путь надобен – такой сам себе и прокладывай.
По реке Авдотьице сподручнее всего было добежать до своей бани.
– А вон там «Ленивка», – показала она рукавицей. – Можно было и мимо нее пройти, но лучше за семь верст обойти. Там уже который день гульба!
Про гульбу Данила слыхивал. Кулачные бойцы, которые не могли дождаться Масленицы, чтобы схватиться наконец на льду Москвы-реки под кремлевской стеной, на потеху и на радость всему городу, дневали и ночевали в любимом своем кружечном дворе. и кабы хоть внутри сидели! Этот шалый народ околачивался и перед кружалом, на улице, задирая прохожих и обрывая подолы девкам и молодым женкам. У кого в голове хоть какое-то соображение имелось – уже за месяц до Масленицы к «Ленивке» и близко не подходил.
Вдруг он вспомнил: ведь в «Ленивке» не только кулачные бойцы – там и скоморохи собирались…
Томила!
Кто это ему про Томилу толковал, что он-де еще и кулачный боец?
Ведь наверняка Томила уже где-то поблизости от буйного кружала! Наверняка что-то знает про погибшего парнишку! Вон Авдотьица за деньги сколько сделала! Неужто скомороху деньги не нужны? Он за них рожу под кулаки подставляет, а тут – сказал с полдюжины словечек на ухо, и получай гривенник!
Но сперва следовало проводить Авдотьицу. Хотя к этой девке, пожалуй, и кулачный боец не сунется… Так приласкает!..
Вдруг она остановилась и за рукав удержала Данилу.
– А что, Данилушка? Кабы не мой рост окаянный – ты бы на мне женился?
– Кабы не рост? – тут Данила крепко задумался.
Он хотел ответить девке честно.
– Что я на Неглинке живу и в баню пошла – это ты пока оставь, попросила она. – А вот я, какая есть? И личико у меня гладкое, и коса хороша, и всю домашнюю работу знаю, а коли на продажу прясть и ткать понадобится – и это смогу!
– Кабы не рост и не…
Данила внимательно оглядел Авдотьицу.
Она была права – и личиком неплоха, и косой, и детей, поди, здоровенных нарожает…
– Тебе бы из Москвы убраться куда-нибудь, – посоветовал он. – Денег прикопить, уехать, у хороших людей поселиться. Свахе заплатить. А тут ты пропадешь.
– Так женился бы?! – вскрикнула она в непонятном отчаянии.
– А чего бы и не жениться? Коли про твое неглинское житье не знать, да коли бы мне росту еще вершка три… четыре?..
– Я все умею! – заговорила она страстно. – И варить, и печь, и за коровой, и за курами ходить! Я и шить могу, и вышивать! Муж бы у меня нарядный ходил, как боярский сынок! Я бы такую рубаху ему вышила, что самому Милославскому надеть не стыдно! А денежки – денежки прикоплены. Я ведь не дурочка, понимаю – не век на Неглинке жить, старухи там не надобны. Почему, думаешь, я с тобой теперь связалась? Копеечку к копеечке кладу!
– Да сватаешься ты ко мне, что ли? – удивился Данила. – На кой я тебе сдался? Мне ведь и привести-то жену некуда – разве в Аргамачьи конюшни на сеновал!
– Коли бы ты мне полюбился, Данилушка, то в жены к тебе я бы не набивалась, – печально отвечала Авдотьица. – Твои же товарищи мне поперек пути бы и встали. Как Федосьице! Ведь и мне тебя увести некуда… пока…
– А было бы?
– Так и не тебя бы увела! – с внезапным весельем отрубила она. И такое лукавство было на лице, так стрельнула глазами – Данила только крякнул. Он вдруг понял, чем эта здоровенная девка могла завлечь богатого купца.
– Послушай-ка. Вы, девки, ведь со скоморохами в дружбе… – и он замялся, не зная, как напомнить, что ту же Федосьицу ватага приглашала потрудиться плясицей. Не хотелось ему произносить имя брошенной им девки да и только. Но Авдотьица догадалась.
– Хочешь, чтобы я тебя с ними свела? И так разведать про парнишечку?
– Оно было бы неплохо.
– Ну, коли так… Знаешь ли, что Настасья-гудошница на Неглинке объявилась?
Лукава была Авдотьица! Видела же, что между этими двумя что-то неладное затевается… И уставилась голубыми глазищами, словно говоря – ну, вспыхни, молодец, ну, потребуй, чтобы немедленно была тебе Настасья! А я погляжу, повеселюсь тихонько…
Но Данила словно окаменел.
Авдотьица еще не знала за ним странной повадки – когда голова занята важными мыслями, стоя раскачиваться, как дерево в бурю. Его шатнуло вправо и влево – девка только глазами водила, следя, как перемещается голова в меховом колпаке с маленькими отворотами.








