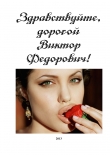Текст книги "Сиамский ангел"
Автор книги: Далия Трускиновская
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Андрей Федорович повалился набок и сам, похоже, не заметил этого. Он до того устал, что не проснулся и от падения. Теперь он не стал бы отталкивать помощь.
Отовсюду ангел тянул к себе искорки тепла и уже слепил изрядный сгусток, но вдруг почувствовал, что со всех сторон наступает какой-то не слишком сильный, но ровный жар. Он, удивившись, вернулся в прежнее свое состояние и поглядел по сторонам.
Первым он увидел большого черного пса. Пес направлялся к Андрею Федоровичу неторопливо, с достоинством. Одновременно с другой стороны подошла бродячая шавка, облезлая, с лишаем на загривке. Еще три или четыре собаки шли с разных сторон, словно по приказу, сошлись у Андрея Федоровича, обступили его и легли рядом. Живая кудлатая шуба укрыла Андрея Федоровича и так осталась…
Ангел поднял глаза к небу.
Ангел вздохнул.
Он искренне возблагодарил Господа, и все же осталась для него в благодеянии некая неувязка, о которой он честно не хотел думать, более того – ему и не положено было о таких вещах думать. И тем не менее он видел, что произошло.
Господь явил милосердие.
А Андрей Федорович просил о справедливости…
*
– Юбки укоротить надобно вот по сих, – Анета, наклонившись, показала на ноге.
– Не много ли? – усомнилась Дуня, стоявшая перед ней на коленях. Левой рукой она зажимала подол на нужной высоте, правой держала наготове булавку.
– Коли у кого ноги кривые – так много.
Анета недаром была так решительна. У нее наметилось новое увлечение, причем весьма разумное. И она, танцуя, хотела показать ногу именно ему, своему недавнему кавалеру, чтобы он еще более страстно добивался любовных милостей.
Причем же ноги у нее были едва ли не самые стройные на театре, и она это превосходно знала. Как шутила Лизета, после родов отошедшая от танцев и окончательно ставшая певицей, румяное личико нарисовать нетрудно, на то белила и румяна в лавках есть, а ноги-то не нарисуешь.
Граф, с которым она жила, приобрел картину француза Фрагонара, и Аннета нарочно ездила ее смотреть. Картина изображала цветущий сад, двух кавалеров и даму, которая качалась перед ними на качелях, показывая ноги гораздо выше колена.
– Вот это-то им и нужно, душенька, а не твои пируэты, – сказала благоразумная подруга. – Вот ты делаешь антраша-катр, и поверь, что больше и незачем. А антраша-сиз уже ни к чему – кто там твои заноски считать станет!
Лизета очень хотела, чтобы Анета угомонилась, связала свою судьбу с богатым покровителем, а он бы со временем и замуж ее выдал, как это обычно делалось.
– А коли укоротить, то как гирлянды лягут? – спросила Дуня.
Анете предстояло танцевать одну из трех граций в балете «Амур и Психея». Гирлянда шелковых роз спускалась с левого плеча к правому боку, а по юбке другие гирлянды перекрещивались причудливым образом. По замыслу художника, внизу они достигали самого края подола.
– Подтянем повыше.
Анета была сильно озабочена соперничеством итальянок. Приехав, итальянская труппа сперва выступала при дворе, а потом синьор Локателли додумался давать представления в Летнем саду. Горожане бросились смотреть диковинку. Приманкой были две танцовщицы – Белюцци и Сакко. Любители плясок поделились соответственно на две партии и подняли вокруг итальянок превеликую суету. Нужно было что-то противопоставить нахалкам…
Дуня подколола подол и стала отцеплять гирлянды. Анета сделала два незаметных шажочка, чтобы встать ближе к окну и следить, не появится ли карета. Многообещающий поклонник обязался заехать за ней, чтобы отвезти в приятное собрание. Следовало заставить его обождать хотя бы с четверть часа. Но не больше – он еще недостаточно желал стать единственным избранником, и чрезмерные капризы были бы некстати.
– Едет…
Дуня быстро поднялась с колен и, зайдя со спины, стала расстегивать крючки театрального платья. Оно упало, Анета перешагнула через ворох палевого атласа, и тут же Дуня подхватила с постели другое, бирюзовое, и помогла хозяйке войти в него, и вздернула наверх, и принялась застегивать, Анета же тем временем надела на шею цепочку, замкнутую под самое горлышко, со свисающим прямо в декольте сердечком. Ее волосы были уже убраны, зачесаны наверх, приглажены и напудрены, на самой макушке выложены три локона колбасками, а спереди лежала дугой, двух вершков до лба не доходя, жемчужная нить – все по парижской моде.
Дуня выбежала в прихожую – сказать присланному лакею, что барыня скоро выйдет, и вернулась. Анета уже держала коробочку с мушками, выбирая – какую налепить.
– Вот эту, побольше, сюда, – подсказала Дуня, едва прикоснувшись пальцем к напудренному подбородку.
– Шаловливую? – Анета призадумалась. Выбор мушки был делом большой важности.
– Плутовку?
Эта мушка сажалась ближе ко рту. Но если налепить чуть повыше – то она уже означала готовность к галантным похождениям, что было бы преждевременно.
– Тиранку! – решила наконец Анета и приладила мушку на виске, у правого глаза. Другую – в декольте, но не слишком глубоко, чтобы не выглядело как приглашение. И, припудрив нос, поспешила вниз.
Жизнь была бы совсем прекрасна, кабы не проклятые итальянки!
Но когда нарядная карета доставила ее с поклонником в милый особнячок, когда они поднялись по лестнице – за полуоткрытыми дверьми услышали голос.
Это был сочный мужской голос, довольно сильный, поставленный. Анета даже знала певца по совместным выступлениям. Ему предстояло сегодня петь – и он готовился, распевался, пробовал низы и верха. И вдруг пропел:
– Неведомо мне то, увижусь ли с тобой, ин ты хотя в последний раз побудь со мной! Со мной… Со мной… По-будь со-о-о мной…
И не стало перил, о которые Анета оперлась рукой, не стало ярко освещенной лестницы.
На коленях, в трясущейся карете, в страшном мраке, удерживая умирающего…
Вот так они и были вместе в последний раз!..
Год назад? Ровно – год?..
Анета резко повернулась к поклоннику. Ей захотелось даже не убежать – вообще непостижимым образом исчезнуть отсюда прочь. Она не могла слышать эту песню! Или, может быть, могла бы, ведь столько времени прошло, но не видя при этом рядом с собой человека, который все равно, при величайшем желании, не мог ей дать того, что однажды не сбылось!
– Покинь тоску – иль смертный рок меня унес? Не плачь о мне, прекрасная… Прекрас-на-я… Не трать ты слез…
Певец трудился точно так же, как сама Анета перед зеркалом, бесстыдно задрав юбки и разучивая позы. Он искал для слов господина Сумарокова наилучшее выражение, не слишком серьезное, поскольку угроза смерти в этих стихах – и та была отчаянно-залихватской, но и не слишком шаловливое – все-таки песня влагалась в уста молодого офицера…
Певец не знал, что эта песня навеки принадлежит мертвецу.
*
Присутствие ангела мешало. Андрею Федоровичу все казалось, что ангел слушает вполголоса читаемые молитвы и не одобряет их…
Он полагал, что ангела должно раздражать такое тупое бормотание – не ввысь, в купол храма или в чистое небо, а себе под ноги. И невольно возражал ангелу – в храме-то всякий сможет, там одна молитва с другой срастается, голос к голосу, как перышко к перышку, и слагаются белоснежные крылья для прекрасного взлета. А ты вот на улице, в суете, в толчее…
От имени ангела Андрей Федорович отвечал себе – кто ж гонит в суету и в толчею? Ты пойди в храм и погляди наконец ввысь!
И тут же он возражал – с неба-то одни купола с крестами и видны, и возносящиеся ввысь мольбы – как снопы света, кто там станет разбираться, где чья. А одинокая молитва из гущи людской, одинокая и непрерывная, наверняка видна отдельно, и виден тот, кто ее посылает, – в зеленом кафтанчике, с непокрытой головой, бывший полковник и царицын певчий, а ныне странный человек Андрей Петров.
На это ангелу возразить было нечего – так считал Андрей Федорович. Но неземной спутник не отставал. Тогда Андрей Федорович обернулся – и был поражен скорбью ангельского лика.
Очевидно, ангел, следуя за ним, оплакивал его грехи. Те, от которых не сумел уберечь.
Горько стало Андрею Федоровичу.
– Что же ты?.. – спросил он.
Вопрос длился менее мгновения. Но, как из-за облака вдруг появится, да и скроется тут же случайный луч, на осунувшемся и неумытом лице странника ожили глаза. Это были глаза растерянной женщины, с женской болью и женским упреком.
Ангел понял все и сразу.
– Что же ты допустил, чтобы твой – твой! – человек умер без покаяния? И ушел с грузом грехов своих? Что же не удержал в нем сознание еще на несколько минут? Где же ты был? Почему от глупых неурядиц хранил исправно, а в самую важную минуту взял – да и куда-то подевался? – услышал ангел вполне явственно, ибо это были не слова, а что-то иное, сжатое, стиснутое в единый взгляд неимоверной плотности, взгляд, обладающий силой и весом.
Вот и все, что позволил себе Андрей Федорович, вопреки желанию, только это, и сразу спохватился. Но ангел спохватился первым.
– Молчи!.. – прошептал он. – Молчи, Бога ради…
Андрей Федорович кивнул и пошел дальше.
Ангел – за ним.
И обоим казалось, что этого мгновения слабости сверху заметить было никак невозможно.
Андрею-то Федоровичу простительно, он сейчас соображает непонятно, ему еще и не то на ум взбредет. Но ангел-то обязан понимать?..
Обязан-то обязан. Да только казалось ему, что может он прикрыть Андрея Федоровича крылом – и сквозь то крыло ничего сверху будет не разглядеть. Хотелось ему, чтобы так было. Хотелось – да и все тут.
*
– А что ни говори, Петрова недостает, – сказал вельможа. – Двенадцать теноров в хоре – а такого ни у кого нет. Недаром его за пение в полковники государыня произвела.
Приятель-батюшка покосился на него – кто же не знал про любовь Елизаветы Петровны к певчим? Вот и муж ее венчанный (все о том знали, да молчали) Андрей Разумовский как ко двору попал? Да через свою мощную глотку!
– А что, верно ли, что государыня хворает? – осторожно полюбопытствовал он.
– Верно, увы… – сказав это, вельможа в полной мере проявил свое доверие к священнику, поскольку при дворе о болезни Елизаветы Петровны велено было молчать и слухов не распускать. – Но, Бог даст, обойдется. Стояли мы сегодня службу, слушал я голоса и думал – нет, с Петровым иначе звучало!
День был воскресный, многие норовили попасть в дворцовую церковь для того, что в обычные дни там пели обыкновенным напевом, а в воскресные, когда непременно являлась императрица, – особо сочиненную обедню и псалмы, которые положил на музыку итальянец Галуппи.
– Сколько уж, как нет Петрова? – И батюшка сам задумался, припоминая. – Два года!
– А что, вдова его все ходит по улицам? Не опамятовалась?
– Все ходит. И подают ей, только она все раздает другим. Любят у нас юродивых, слава Богу, с голоду помереть не дадут.
Батюшка встал, оправил рясу, подошел к окну, словно бы желая показать, как мимо недавно отстроенного особняка вельможи, ставшего украшением Васильевского острова, колоннами маршируют убогие. Да так оно, в сущности, и было: вельможа выбрал место неподалеку от Смоленского кладбища, а где и кормиться увечному, жалкому, несчастному, как не при кладбище?
– И все в мужском платье?
– И Андреем Федоровичем звать себя велит. А на ходу все за упокой жены Аксиньюшки молится – за свой, стало быть…
– А ведь такое юродство – бунт, батюшка, – сказал вельможа. И нехорошо сказал, яростно. В этот миг он даже на вид старше сделался.
Священник пожал плечами.
– Раз, другой ее мальчишки камнями забросают – тем бунт и кончится. Однажды уже пробовали – да извозчики кнутами отогнали. Да и что за бунт? Ум за разум у бабы зашел…
Батюшке не понравилась жесткость в голосе вельможи, и он попытался все свести на бабью дурость, да не вышло.
– А знаете ли, она оспаривает право Божье вершить суд, – сказал вельможа, сам дивясь своей суровости. – Угодно ему было, чтобы полковник Петров помер без покаяния – выходит, так надобно. Откуда нам знать, какие грехи числятся за полковником? Теперь уж и не вспомнить. А она слоняется, народ смущает! Стало быть, Господь неправ и несправедлив – одна Аксинья Петрова кругом права?! Погодите, в котором же это году указ был издан – чтобы нищим и увечным по Санкт-Петербургу не бродить?
– Так не истреблять же их! – воскликнул батюшка. – Бродят себе потихоньку – ну и Бог с ними… А указ не так давно и издан…
– Не так давно, чтобы уж наконец начать его исполнять? – уточнил вельможа. – Горе, а не государство… Что ты там увидел, святый отче?
– Легка на помине! Угодно ли полюбоваться? – священник отвел рукой портьеру. – Вон, вон, в зеленом…
– И в треуголке набекрень! – развеселился вельможа, глядя из высокого нарядного окна на далекую сутулую фигурку, медленно и непреклонно бредущую по лужам. – Вот коли рассудить – Петров еще молодым помер, ей, стало быть, и тридцати нет. Могла бы выйти замуж, детей нарожать, ведь сказано же – через чадородие спасется, или нет? Что бы ей не спасаться, как всему их бабьему сословию полагается? Так нет же, бродит! И ведь вся ваша братия с ней ничего поделать не может! Бродит – да и все тут!
Это уж был выпад в сторону духовных лиц, что вельможа позволял себе нечасто. Да и батюшка, при всем желании ладить с высокопоставленным приятелем, таких словечек не любил.
– Не рассуждать понапрасну, а милосердие являть, вот наша забота, – возразил батюшка. – Чем рассуждать, пошли бы да вынесли ей кусок хлеба.
Вельможа задумался.
Когда кто-то из придворных попадал хоть в кратковременную опалу, подавать ему открыто кусок хлеба было как-то неловко. Государыня добра, да ведь памяти-то ее Бог не лишил! А коли кто в опале у Всевышнего – в какие свитки, ангельские или дьявольские, будет занесен тот злополучный кусок?
– Петрушку пошлю, пусть он вынесет, – решил вельможа.
Священник тоже задумался – как, в самом деле, учитывается на небесах добро, творимое исподтишка, чужими руками? Вельможа тем временем позвонил в бронзовый голосистый колокольчик и вызвал лакея.
– Возьми, Петрушка, в буфетной ломоть хлеба побольше, посоли, потом… – вельможа показал по оконному стеклу направление, – догонишь юродивую, отдашь. Беги живо!
– Похвально, – сказал священник. Он никогда не корил приятеля сразу, потому что дружбой с вельможей весьма дорожил. Потом, может, и неделю спустя, ввертывал в речь нарочно подобранные слова из Священного Писания, заставляя собеседника задуматься и припомнить то, что имелось в виду.
– Петрушке, поди, тот кусок и зачтется! – усмехнулся вельможа. После чего перешел к делу – близился престольный праздник, и он хотел знать, сколько и чего потребно для украшения храма.
Петрушка возник в дверях бесшумно, повесив голову, всем видом являя скорбь.
– Что еще? – удивленный явлением лакея без спросу, но еще не сердито, а сперва недоуменно спросил вельможа.
– Не берет Андрей Федорович…
И лакей предъявил действительно большой, по середке ковриги резанный и толстый, в два пальца, ломоть.
Священник опустил глаза.
Он понял, кому и как этот ломоть зачтется…
*
Ангелу безумно хотелось оправдаться перед Андреем Федоровичем. Он только не знал – как?
Коли начать вслух каяться – не уберег, мол, подопечного, раба Божия Андрея, то и услышит в ответ: опомнись, вот он я – раб Божий Андрей, а плачет пусть тот, кто не уберег рабу Божью Ксению!
Оставалось одно – как-то внушить, что все ангелы-хранители хранят лишь до поры, а наступает миг – и им делается ясно, что следует отступиться. Или старость доходит до той степени, когда подопечному лучше переселяться в вечные пределы, или количество грехов превысило допустимое, или – что происходит довольно часто – подопечному и на ум не взойдет в опасности призвать своего ангела.
Ангел, сопровождая теперь Андрея Федоровича постоянно, являлся ему незримо для прочих, но выбирал время, когда тот мог поддержать беседу. Поступал он так потому, что не раз и не два слышал суровое «Уйди, Христа ради!» и оставался, словно прикованный к каменному столбу, пока Андрей Федорович не отходил довольно далеко.
Сейчас время выдалось подходящее. Подопечный, побродив по Сытину рынку, получил несколько калачей. Все, кроме одного, отдал детям, а с последним ушел в сторонку – перекусить. Горячей пищи он уже давно не принимал.
Они сидели рядышком на берегу Кронверкского пролива, на бревне. Зима все никак не наступала, было промозгло и мрачно. Даже сейчас, накануне Рождества, еще не выпало настоящего снега. Ангел, жалея подопечного, простер за его спиной крыло, пытаясь оберечь от ветра.
– Горький будет праздник, – сказал ангел, – ох, горький.
– А ты почем знаешь? – осведомился уже притерпевшийся к спутнику Андрей Федорович.
– В небо гляжу – и вижу. Погляди и ты, радость…
Ничего хорошего не увидел в этом сером, низком, бессолнечном небе Андрей Федорович, кроме разве что смутного просвета впереди, над Петропавловской крепостью, а может, и чуть подальше.
– Правее, – посоветовал ангел. – Видишь – летит… улетает… и плачет, бедненький, а помочь не может… срок вышел…
– Государыне? – догадался Андрей Федорович.
– Государыне. Исповедовали ее и причастили…
Вот этого ему говорить и не следовало.
– Исповедовали? Причастили Святых Тайн? – вскочив, спросил Андрей Федорович. – Об этом он позаботился – так чего ж не лететь? Она-то с Христом умирает, не в беспамятстве! Чего ж ему-то горевать? Он свой долг исполнил – и пусть себе летит! Он-то долг исполнил!
– Да что ты?.. – забормотал ангел. – Государыня же! Вокруг столько народу!.. И все над ней трепещут!..
Он хотел было сказать, что исповедь и причастие состоялись бы непременно, ангелу не было нужды о них заботиться, но Андрей Федорович уже бежал в сторону Сытного рынка, уже кричал на бегу:
– Пеките блины! Пеките блины! Скоро вся Россия будет печь блины!
– Постой, Андрей Федорович! – остановила знакомая старушка. – Какие блины? У кого поминки-то?
– Ох, будут поминки! Пеки, милая, блины, – чуть ли не на ухо прошептал старушке Андрей Федорович и побежал дальше по лужам, с криком, скользя и размахивая руками, чтобы не поскользнуться.
Ангел взмыл ввысь.
Все получалось не так…
Было 24 декабря 1761 года.
*
Карета с опущенными занавесками катила по пустынной улице. Она везла двоих – всеобщего при дворе любимца, тайного устроителя особых дел и при государе, и при государыне, Льва Александровича Нарышкина и танцовщицу ораниенбаумского театра Анету Кожухову.
Оба были погружены в раздумья – каждый, понятное дело, в свои.
Нарышкин думал, что лучше всего иметь дело с театральными девками – они слушаться приучены. Они понимают, что коли рассердить знатного человека – на другой день из театра выкинут. А на княгиню какую-нибудь не то что прикрикнуть – косо поглядеть не смей!
Недавно был он в немалом ужасе как раз из-за княгини Куракиной.
Государь еще в юные годы завел себе метрессу – графа Воронцова дочку Лизу, которую за неопрятность сам же прозвал «распустехой Романовной». Чем-то эта низкорослая, широколицая и в молодые годы уже обрюзглая девица сумела его присушить – и, став после теткиной смерти государем, Петр Федорович ее при своей особе сперва оставил. Потом же заметил наконец, что многие дамы ни в чем бы ему не отказали, стоит лишь дать знак. По части знаков служил ему именно Нарышкин. И, бывши послан с известным поручением к красавице Куракиной, отказа не получил, а ночью повез ее на амурное свидание. Повез тайно – ни государь, ни верноподданный не желали, чтобы распустеха Романовна им в напудренные космы вцепилась. Поутру Нарышкин в такой же тайне повез Куракину домой – но шалая княгиня нарочно все распахивала занавески кареты, чтобы всякий видел – ее от государя везут, с кем она ночь ночевала! Не раз и не два прошиб пот Нарышкина, пока он этот беспокойный груз домой доставил…
Зато Анета сидела тихонько. И царедворец даже догадывался, о чем театральная девка думала. Ей хотелось упрочить свое положение. Перейдя в ораниенбаумскую труппу, она полагала там избавиться от итальянок, но и интриганка Белюцци из прогоревшей труппы Локателли туда же устремилась.
Когда итальянец Кальцеваро впопыхах поставил к коронации государя аллегорическое танцевальное действо «Золотая ветка», Анета вроде и блеснула красой и мастерством, но шустрая итальянка показала такие бризе и пируэты, что никто даже не понял сперва – что она такое вытворяет. Однако приметил государь не тощую низкорослую Белюцци, а все же Анету, о чем до ее сведения и довели преисправно.
И вот она ехала за своей будущей славой.
Ехала, надо сказать, глухими улочками – опытный Нарышкин собирался провести ее во дворец с заднего крыльца.
Санкт-Петербург спал. Но не весь – опомнившись после смерти Елизаветы Петровны, жители понемногу стали веселиться, хоть и при закрытых ставнях.
Ночная тишина обостряла звуки, сокращала расстояния. И потому Анета не могла бы сказать, далеко или близко пьяноватые мужские голоса поют похабную песню про капитанскую дочку.
Возможно, это веселились офицеры в трактире. Скорее всего, именно так…
Песня смолкла. Слышался лишь глуховатый стук копыт. Слава приближалась! Слава ждала Анету в ближайшие после этой ночи месяцы! Избавить ораниенбаумскую труппу от итальянки – это раз. Повывести гнусный итальянский обычай, когда поклонники приносят с собой дощечки, связанные ленточкой, и в знак одобрения поднимают нестерпимый треск – это два. Бездарного Кальцеваро сбыть с рук, отправить в родную его Италию, где он, очевидно, зарабатывал на жизнь, преподавая менуэт толстым купеческим дочкам, – это три…
И тут малоприятный голос глумливо запел:
– Прости, моя любезная, мой свет, прости!..
Словно молнией прошило Анету. Сколько уж лет, как нигде не звучала песня, – и надо же! Треклятая!..
Женский смех известил о том, что господа офицеры пируют с подзаборными Венерами.
– Мне сказано назавтрее в поход идти!..
Тут, как на грех, карета встала – кучер вовремя увидел лежащее прямо поперек дороги пьяное тело и погнал лакея оттащить за ноги подальше.
– Неведомо мне то, увижусь ли с тобой, ин ты хотя в последний раз побудь со мной! – пели господа офицеры уже в несколько голосов.
И было в этой песне что-то, стряхнувшее с них хмель, как стряхиваются сухие травинки с мундира и плаща после ночлега на биваке, у костра, на охапках сена, что-то подобное непозволительно раннему рассвету, прорезающему сомкнутые веки полоской нестерпимого жара, что-то, приказывающее встать и – ногу в стремя!..
Анета поняла, что офицеры и впрямь стоят вокруг стола, мало внимания обращая на притихших девиц, и поют от души, честно и грозно, весело и беззаветно.
– Покинь тоску – иль смертный рок меня унес? Не плачь о мне, прекрасная, не трать ты слёз!..
Так же задорно пел тот, кого уже целую вечность не было на свете – если не считать его безумной жены, что присвоила себе мужское имя да и слоняется по лужам Сытина рынка, уже примелькавшись и торговцам, и мальчишкам, и местным жителям.
Откуда-то издалека он, опять невовремя, пел о своей смерти и прощался, прощался, прощался!..
Нарышкин постучал в стенку кареты.
– Едем, барин, едем!
Карета тронулась.
Деревянный дворец на углу набережной Мойки и Невского, где все еще жило царское семейство, потому что новый Зимний никак не могли завершить, был уже близко.
Анета вздохнула и собралась с силами. Сейчас настанет миг, когда нужно будет внести в комнату ослепительную и победительную улыбку. Это несложно, это привычно, сколько раз улыбка выносилась на подмостки!
Только не спускать ее с уст, только не застывать в неподвижности! Анета знала: когда ее лицо замирает (век бы не знала, да зеркало доложило), ей вполне можно дать ее годы, невзирая на белила, румяна и искусно налепленные мушки.
А годы были немалые – по весне исполнилось тридцать лет.
*
– Остановитесь, возлюбленные!
Голос этот, полный сочувствия, звонко-трепетный, удержал Андрея Федоровича посреди шага, и точно так же повис в воздухе сопровождавший его ангел.
Люди шли, навстречу и обгоняя, и словно не замечали неподвижности одного из своих. Зато ангелы, спешившие по своим неотложным делам, услышали голос, увидели, к кому он обращен, и замерли, боясь упустить хоть единое слово.
Но как раз слова-то они и не услышали.
Не было в нем нужды.
Ведь и Андрей Федорович, и ангел прекрасно знали, что мог им сказать Голос. Они сами себе это не раз повторяли. Поэтому теперь ждали упреков, ждали и приказаний.
Молчание Господа есть пространство, в котором душа сама себе говорит правду.
– Сойди с этого странного пути, – сказал себе Андрей Федорович от Божьего имени. – Довольно было мук и страданий. Святая ложь тоже имеет пределы.
– Тебе не было приказано сопровождать человека, который сам, своей волей, призвал тебя, – сказал себе ангел. – Этот человек от горя лишился рассудка, но есть кому о нем позаботиться. Твое же место – там, где ангелы, проводившие своих людей в последний путь, ждут следующей жизни.
Андрей Федорович хотел было повторить в тысячный раз, что должен отмолить умершую без покаяния и причастия Аксиньюшку. И вдруг ощутил, что не в силах произнести этих прекрасно придуманных слов.
– А он – прощен?..
И надежда была в этих словах, и неожиданно – вызов Тому, кто так внезапно и жестоко взял у Ксении возлюбленного мужа.
– Нет?..
Ксения вздохнула.
– Испытываешь… А я и сама себя еще строже испытаю!
И не было больше рабы Ксении – а был всему Санкт-Петербургу известный Андрей Федорович. Шел он, шел, замер, беззвучно открылся несколько раз его рот, а потом пошлепал Андрей Федорович великоватыми для его ног башмаками, бормоча привычную молитву Иисусову.
И ангел, который только было собрался оправдаться, объяснить, что нельзя человеку вообще без хранителя, лишь руками развел – и поспешил следом.
*
Странный образ этого мира явился Андрею Федоровичу.
Он сидел на невском берегу, завернувшись в старую епанчу, и наблюдал за ледоходом. Был апрель, крупные льдины уже прошли, теперь к заливу плыла мелочь. Его поразило, что на каждом сером осколке сидит чайка. А более того – что чайки, словно договорившись, едут к заливу хвостами вперед.
И не так ли жизнь человеческая протекает, думал Андрей Федорович, плывешь и видишь целый мир, оставшийся за тобой, весь пройденный путь, и ни вершка того пути, что ждет завтра. А коли льдина столкнется с другой или еще как-то пострадает – чайка снимется и беззаботно пойдет кружить, белая и чистая… и что бы сие означало?..
Рассуждения Андрея Федоровича были в самом начале, когда он заметил, что на низком берегу кроме него и чаек есть еще кто-то. Девочка лет семи-восьми, в платке поверх шубки, спустилась к самой воде и пыталась что-то поймать прутиком. При этом опасно наклонилась…
Андрей Федорович окаменел. Позовешь – вздрогнет и упадет!
– Господи!.. – взмолился он. Вся его молитва уложилась в одно слово.
Девочка продолжала игру. Беззвучно встав, Андрей Федорович увидел, что она задерживает щепочки, заставляя их плыть в крошечную гавань, и тянется за ними все дальше и дальше. Он осторожно подошел – и не хрустнул, не скрипнул крупный речной песок. Тогда он наклонился – и с неожиданной ловкостью схватил девочку в охапку. Она закричала, забила в воздухе ногами, но Андрей Федорович уже отбежал от воды подалее и опустил ее наземь.
Увидев его лицо, девочка словно захлебнулась криком. То ли в лице было нечто, вызывающее страх, то ли – просветление, Андрей Федорович не знал, да и не задумывался. Сейчас важнее всего было – отдать ребенка матери. Он опустился перед девочкой на колени.
– Как тебя звать, голубушка? – спросил он, но не услышал ответа. Не сразу до него дошло, что слова-то и не прозвучали – голос, целыми днями пребывавший в бездействии, поскольку молитвы читались беззвучным шепотом, или при нужде срывавшийся на крик, оказался бессилен произнести сейчас тихое и ласковое слово. Серебряный голос, ангельский, неповторимый… когда же это было?..
– Как звать тебя, лапушка? – уже более внятно спросил Андрей Федорович.
– Варенькой, – отвечала девочка.
– А где ты живешь?
– А там, – девочка показала рукой.
– Давай-ка я тебя домой отведу. Негоже одной по берегу гулять. Не ровен час, поскользнешься, упадешь.
– Не упаду, – уверенно ответила девочка. – У меня знаешь кто есть? Матушка сказывала – у меня ангел-хранитель есть! Я всегда ему на ночь молюсь. Он меня бережет.
Хотел было сказать горькое слово Андрей Федорович – да удержался.
А по берегу уже шли торопливо две женщины, старая и молодая.
Увидев, что дитя беседует с коленопреклоненным мужчиной, обе кинулись на выручку. Мало ли что мужчина затевает. Но молодая, подбежав первой, вздохнула с облегчением.
– Это ты, Андрей Федорович?
– Заберите дитя. Нехорошо у воды играть, – с тем Андрей Федорович поднялся и пошел прочь. Женщина его нагнала.
– Куда ты? Вот, копеечку возьми! Как ты любишь – царь на коне!
Она протянула старую потертую копейку, и Андрей Федорович принял.
Когда женщина отошла и стала выспрашивать дочь, он повернулся. Словно почувствовав его взгляд, повернулась и Варенька.
Потом ее повели домой, и она все озиралась, а он, идя следом, так и ждал мига, когда их глаза снова встретятся. Заметив это, женщины остановились, а старенькая решительно направилась к Андрею Федоровичу.
– Сделай милость, зайди к нам, не погнушайся угощением. Ради дитяти… Мы – Голубевы, припомни, Андрей Федорович, мы тут неподалеку живем.
Андрей Федорович вздохнул. Он не знал – будет ли грехом нарушить епитимью, которую сам же на себя наложил. Когда же это он решил, что ни часа более не проведет под крышей дома? Когда?
Но и Варенька смотрела на него, не отводя глаз.
Невесомо-теплое коснулось плеча. Прикосновение ангельской руки было как дыхание. И оно чуть подтолкнуло.
Немного тепла – вот чего вдруг страстно пожелалось душе!
Дав себе слово, что визитация не затянется, Андрей Федорович кивнул.
*
Государыня изволит читать Вольтера!
Стало быть, хошь не хошь, садись да читай. Иначе в собрании и рот раскрыть неловко. А коли САМА к тебе с вопросом обратится – опозоришься навеки. Вот вельможа, отнюдь не желая позора, и набивал себе голову измышлениями французского философа. А в приватной беседе жаловался приятелю-батюшке: трудно увязать безверие язвительного француза с той верой, каковая имеет быть в сердце каждого порядочного человека. Государыня и службы выстаивает, и постится, и причащается, и верует вполне искренне, а надо же – Вольтером увлеклась! Вот и ходишь по самой грани – как бы не сморозить нелепицы…
– Вера тоже ведь разная бывает. Иная и такова, что не лучше безверия, – сказал батюшка. – Вон взять эту юродивую, Андрея Федоровича. Ведь она почему с ума съехала? Ей всю жизнь внушали: коли умирающий перед смертью не исповедуется – со всеми грехами на тот свет отправится. Она в это и уверовала сильнее, чем в более высокую истину. Исповедь и причастие – великое дело, да не более ведь Божьего милосердия!