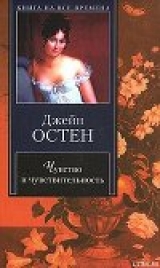
Текст книги "Чувство и чувствительность"
Автор книги: Д. Перова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Глава 43
Утром Марианна встала в урочное время, на все заботливые расспросы отвечала, что ей лучше, и в доказательство попыталась провести день за привычными занятиями. Но лишь час за часом сидела в ознобе у камина с книгой, которую не могла читать, или в томной слабости полулежала на диване. Когда же, расхворавшись еще более, она рано пожелала уйти к себе, полковник Брэндон был изумлен спокойствием ее сестры: Элинор весь день, не слушая возражений Марианны, преданно за ней ухаживала и заставила ее принять на сон грядущий все необходимые лекарства, но, подобно ей, верила во врачующую силу сна и не испытывала особой тревоги.
Однако ночь, проведенная в лихорадочных метаниях по постели, обманула ожидания обеих. И когда Марианна все-таки захотела подняться, она тут же вынуждена была признать, что ей трудно даже сидеть, и снова легла. Элинор не замедлила последовать совету миссис Дженнингс и послала за палмеровским аптекарем.
Он приехал, осмотрел больную и, хотя заверил мисс Дэшвуд, что через три-четыре дня ее сестра совсем оправится, однако упомянул о возможной горячке и обронил словечко «заразительность», перепугав миссис Палмер, которая тотчас подумала о своем малютке. Миссис Дженнингс с самого начала относилась к болезни Марианны более серьезно, чем Элинор, а выслушав мистера Гарриса, встревожилась еще больше, подтвердила все страхи Шарлотты и потребовала, чтобы она немедленно покинула Кливленд вместе с сыном. Мистер Палмер, хотя и утверждал, что их опасения беспричинны, тем не менее не мог противостоять тревоге и настояниям жены, и ее отъезд был решен. Менее чем через час после того, как мистер Гаррис поднялся к Марианне, Шарлотта с сыном и нянькой уже отбыла к близкому родственнику мистера Палмера, чей дом был расположен за Батом. Муж, уступая ее мольбам, обещал последовать за ней туда через день-два. Она почти столь же настойчиво уговаривала и мать поехать с ней, но миссис Дженнингс с истинной добротой, которая навеки завоевала ей сердце Элинор, объявила, что не покинет Кливленда, пока Марианна совсем не выздоровеет, неусыпными заботами стараясь заменить ей мать, от которой ее увезла. И Элинор нашла в ней ревностную и деятельную помощницу, готовую делить с ней все тяготы ухода за больной, к тому же умудренную опытом, который не раз оказывался как нельзя более кстати.
Бедняжка Марианна, томимая лихорадкой и слабостью, испытывая боль во всем теле, уже оставила надежду встретить следующий день здоровой, и мысль о том, что принес бы этот день, если бы не злосчастный недуг, усугубляла ее страдания. Ведь поутру они должны были наконец-то отправиться домой в сопровождении лакея миссис Дженнингс и на второй день еще до двенадцати часов обрадовать мать нежданным своим появлением. Молчание она прерывала лишь сетованиями на столь несносную отсрочку, как ни утешала ее Элинор, которая пока еще сама нисколько не сомневалась, что продлится эта отсрочка недолго.
Следующий день никаких изменений в состоянии больной не принес. Лучше ей не стало, но, если не считать, что это само по себе уже было дурным признаком, не стало и хуже. Общество же их потеряло еще одного члена. Мистер Палмер, хотя и предпочел бы остаться, повинуясь как голосу истинного человеколюбия и душевной доброты, так и желанию показать, сколь мало значат для него страхи жены, все же сдался на уговоры полковника Брэндона исполнить данное ей обещание. А полковник в свой черед и с большей настойчивостью заговорил о собственном отъезде. Однако этому – и весьма уместно – воспрепятствовало доброе сердце миссис Дженнингс. Отослать полковника, когда его возлюбленная была в такой тревоге за сестру, значило бы, подумала она, обречь их обоих на лишние терзания, а потому тотчас объявила ему, что он непременно должен остаться в Кливленде ради нее – чтобы ей было с кем играть в пикет по вечерам, пока мисс Дэшвуд будет ухаживать за сестрой наверху, и еще по разным причинам. Она так настойчиво уговаривала его, что он не мог не дать согласия (уступив, кстати, заветному желанию собственного сердца). К тому же просьбу миссис Дженнингс с жаром поддержал мистер Палмер, который, видимо, испытал немалое облегчение при мысли, что в Кливленде останется человек, как никто другой способный помочь мисс Дэшвуд и советом и делом, если они ей понадобятся.
Марианну, естественно, держали обо всем этом в неведении. Она не знала, что невольно вынудила хозяев Кливленда покинуть собственный дом лишь через неделю после того, как они туда вернулись. Ее не удивляло, что миссис Палмер не заходит к ней в спальню, и, вовсе про нее не вспоминая, она ни разу даже не произнесла ее имени.
После отъезда мистера Палмера прошло два дня, а ее состояние оставалось все тем же. Мистер Гаррис, навещавший ее каждый день, по-прежнему бодро предрекал скорое выздоровление, и мисс Дэшвуд придерживалась того же мнения. Но миссис Дженнингс и полковник Брэндон их надежд отнюдь не разделяли: почтенная дама почти в самом начале болезни уверовала, что Марианне более уж с постели не встать, а полковник, нужный ей главным образом для того, чтобы выслушивать ее печальные пророчества, не мог по состоянию своего духа не поддаться их влиянию. Он пытался доводами рассудка прогнать свои страхи, тем более вздорные, что аптекарь говорил совершенно другое, однако долгие часы, которые он ежедневно проводил в полном одиночестве, не могли не плодить грустных мыслей, и ему никак не удавалось избавиться от предчувствия, что более он уже Марианны не увидит.
Однако на утро третьего дня их с миссис Дженнингс мрачные опасения почти вовсе рассеялись – мистер Гаррис, выйдя от больной, объявил, что ей значительно лучше: пульс стал сильнее и все симптомы много благоприятнее, чем накануне. Элинор подтвердила его слова, была весела и радовалась, что в письмах к матери, полагаясь более на свое суждение, чем на суждение миссис Дженнингс, объясняла их задержку самым легким недомоганием и чуть ли не назвала срок, когда Марианна сможет отправиться домой.
Однако день этот кончился далеко не столь приятно, как начался. К вечеру Марианне опять стало очень худо, жар и боли вернулись с еще большей силой. Ее сестра, однако, по-прежнему отказывалась замечать всю серьезность этих симптомов, приписывая их утомлению больной, которая, пока ей перестилали постель, некоторое время сидела в креслах, и, напоив ее успокоительной микстурой, с радостью увидела, как она погрузилась в сон, который мог быть только целительным. Сон этот, хотя далеко не такой спокойный, как хотелось бы Элинор, был очень долгим, но она, желая своими глазами увидеть его следствия, приготовилась сидеть с сестрой, пока та не пробудится. Миссис Дженнингс, ничего не зная о перемене в состоянии больной, против обыкновения, легла спать очень рано, а ее горничная, одна из главных сиделок, отдыхала и ужинала в комнате экономки, оставив Элинор в спальне наедине с Марианной.
А сон той становился все более тревожным, она металась на постели, жалобно стонала, и сестра, наблюдавшая за ней с неослабным вниманием, уже почти решилась пробудить ее от столь тяжелой дремы, но тут Марианна, возможно, встревоженная каким-то звуком, вдруг донесшимся из коридора, внезапно очнулась сама, вскинулась и лихорадочно вскрикнула:
– Мама приехала?
– Еще нет, – ответила Элинор, с трудом подавляя ужас и помогая Марианне лечь поудобнее. – Но, надеюсь, она скоро будет здесь. Ты ведь знаешь, что отсюда до Бартона путь неблизкий.
– Только пусть не едет через Лондон, – с той же лихорадочной торопливостью продолжала Марианна. – Если она поедет через Лондон, я ее уже не увижу.
Элинор со страхом поняла, что сестра бредит, и, стараясь ее успокоить, поспешно пощупала ей пульс. Таким слабым и частым он еще не был! Марианна же по-прежнему бессвязно говорила о матери, и сестра, перепугавшись, решила не только немедленно послать за мистером Гаррисом, но и отправить кого-нибудь в Бартон за миссис Дэшвуд. Естественно, ей тут же пришла в голову мысль, что об этом плане следует посоветоваться с полковником Брэндоном, и, едва горничная явилась на ее звонок, она, оставив ее с больной, поспешила спуститься в гостиную, где, как ей было известно, его можно было застать и в гораздо более поздний час.
Это были минуты не для колебаний или церемоний, и полковник без промедления узнал о всех ее страхах и затруднениях. Развеять ее страхи у него не хватало ни мужества, ни уверенности, и он слушал ее в скорбном молчании, однако затруднениям ее тут же пришел конец: с поспешностью, доказывавшей, что и эта причина, и эта услуга в его мыслях предвосхищались уже давно, он тотчас вызвался сам отправиться за миссис Дэшвуд, и Элинор скоро оставила слабые попытки возражать. Она поблагодарила его коротко, но с самой глубокой признательностью, и он вышел, чтобы послать своего слугу за мистером Гаррисом и распорядиться о почтовых лошадях для себя, а она села написать несколько строк матери.
Какой утешительной опорой был в подобную минуту друг, подобный полковнику Брэндону! Лучшего спутника для ее матери (эта мысль немного облегчила ей сердце) она и пожелать не могла. Спутник, чьи советы поддержат ее, чье участливое внимание облегчит ей тяготы пути, чья дружба, быть может, утишит ее тревогу! В той мере, в какой столь внезапный и страшный удар можно смягчить, его присутствие, его заботы, его помощь оберегут ее.
Он же, какие бы чувства его ни обуревали, отдавал распоряжения и собирался с хладнокровием деятельного ума и даже вычислил для Элинор примерный срок, когда его можно будет ждать обратно. Ни мгновения не было потеряно напрасно. Лошадей подали даже прежде, чем их ждали; полковник с сосредоточенным видом пожал ей руку и поспешил сесть в экипаж, сказав вполголоса несколько слов, которых она не расслышала. Время близилось к полуночи, и Элинор поднялась в спальню сестры, чтобы там дождаться аптекаря и провести у ее постели оставшуюся часть ночи. Проходили часы, полные страданий, почти равных у обеих: Марианна была в бреду, не избавлявшем ее от боли, Элинор терзала жесточайшая тревога, а мистер Гаррис все не ехал. Теперь Элинор сторицей расплачивалась за недавние беспечные надежды, горничная же, разделявшая ее бдение (она решительно запретила будить миссис Дженнингс), усугубляла эти муки намеками на мрачные пророчества своей госпожи.
Марианна в забытьи по-прежнему жалобно звала мать, и всякий раз ее слова заставляли болезненно сжиматься сердце бедняжки Элинор. Она горько упрекала себя за то, что столько дней легкомысленно не замечала серьезности недуга, тщетно придумывала средство, которое принесло бы немедленное облегчение, воображала, что вскоре уже ничто не сможет принести этого облегчения, что они мешкали слишком долго, и уже словно видела, как приезжает ее сокрушенная горем мать и находит любимую дочь мертвой или же в тяжком бреду, более неспособную ее узнать и проститься с ней.
Элинор собралась вновь послать за мистером Гаррисом, и если его не нашли бы, то за кем-нибудь еще, но тут он – шел уже шестой час утра – приехал сам. Однако его приговор несколько искупил такое промедление: признав, что в состоянии его пациентки произошло неожиданное и неблагоприятное изменение, он, однако, решительно отрицал, что опасность сколько-нибудь велика, и ручался, что новое лекарство непременно принесет облегчение с неколебимой уверенностью, которая отчасти передалась Элинор. Затем он пообещал приехать часа через три-четыре и отбыл восвояси, оставив и больную, и ее преданную сиделку несколько ободрившимися по сравнению с тем, какими он их нашел в первые минуты своего визита.
В большом расстройстве, пеняя всем, что ее тотчас не разбудили, узнала миссис Дженнингс поутру о событиях ночи. Недавние дурные предчувствия овладели ею с удвоенной силой, и она не сомневалась в печальном исходе; как ни пыталась она утешать Элинор, убеждение, что Марианна уже не жилица, не позволяло ей к выражениям сочувствия добавить слова надежды. Сердце почтенной дамы было исполнено искренней горести. Скоропостижная и безвременная смерть столь юной, столь прелестной девушки, как Марианна, не оставила бы равнодушным и человека вовсе постороннего, а на тревогу и сострадание миссис Дженнингс у Марианны были и другие права. Она три месяца прожила под ее кровом и сейчас все еще находилась под ее опекой, а к тому же не так давно стала жертвой тягчайшего оскорбления и с тех пор все время томилась в грусти. Видела миссис Дженнингс и терзания ее сестры, своей любимицы, а когда вспоминала, что собственной матери Марианна, вероятно, столь же дорога, как ей самой – Шарлотта, ее переполняло живейшее сострадание к мукам миссис Дэшвуд.
Второй раз мистер Гаррис не заставил себя ждать долее обещанного времени, но надежды, с какими он оставил больную после первого своего визита, его обманули. Новые лекарства не помогли, жар не спал, и Марианна, так и не придя в себя, не металась более лишь потому, что погрузилась в тяжкое забытье. Элинор, распознавшая – и преувеличившая – опасения, охватившие его в эту минуту, выразила мнение, не следует ли им пригласить кого-нибудь для консилиума, но он почел это преждевременным: у него есть в запасе другое лекарство, целительностью, по его убеждению, не уступающее утреннему, и он отбыл со словами ободрения, которые достигли слуха мисс Дэшвуд, но не ее сердца. Она сохраняла спокойствие, пока мысли ее не обращались к матери, но надежду почти утратила. Так продолжалось почти до полудня: она сидела возле сестры, боясь оставить ее хотя бы на минуту, воображение рисовало ей горесть всех их близких, а уныние подкреплялось и усугублялось вздохами миссис Дженнингс, которая без колебаний приписывала тяжесть и опасность недуга Марианны долгим предшествовавшим ему неделям страданий после постигшего ее удара. Элинор не могла не согласиться с правдоподобием такого заключения, и оно влило новую горечь в ее размышления.
Однако к полудню Элинор начала – но с трепетом, со страхом обмануться, понуждавшим ее ничего не говорить даже миссис Дженнингс, – как ей мнилось, замечать легкое улучшение пульса сестры. Она выжидала, не спуская глаз с больной, вновь и вновь его щупала и, наконец, с волнением, скрыть которое под маской внешнего спокойствия ей оказалось труднее, чем все предшествовавшие страхи, осмелилась выразить свою надежду вслух. Миссис Дженнингс, хотя, сама пощупав пульс Марианны, была вынуждена признать временное улучшение, тем не менее попыталась убедить молодую свою приятельницу не доверять ему, и Элинор, перебрав в уме все доводы в пользу столь мрачного взгляда, принялась и сама убеждать себя в том же. Но было поздно. Надежда уже проникла в ее сердце, и она наклонилась над сестрой в трепетном ожидании... сама не зная чего. Прошло полчаса, но благоприятные признаки не исчезали. И подкреплялись новыми. Дыхание, цвет лица, губы, уже не обметанные, – все, казалось, говорило, что болезнь отступает, и вот уже Марианна устремила на сестру разумный, хотя и томный от слабости взор. Теперь Элинор равно разрывалась между опасениями и надеждой и не находила ни минуты покоя, пока наконец в четыре часа не приехал мистер Гаррис. А тогда его поздравления, его заверения в том, что перелом в состоянии больной превзошел самые радужные его ожидания, убедили ее, утешили и вызвали слезы радости.
Марианне было настолько лучше, что аптекарь объявил ее вне опасности. Миссис Дженнингс, возможно удовлетворившись тем, что ее дурные предчувствия отчасти сбылись в недавней тревоге, позволила себе положиться на его суждение и с непритворной радостью, а вскоре уже с веселой бодростью признала большую вероятность полного и быстрого выздоровления.
Элинор такой же бодрости не испытывала. Радость ее была иного свойства и веселости не порождала. Мысль, что Марианна возвратится здоровой к жизни и друзьям, вливала в ее сердце блаженное успокоение, преисполняла его пылкой благодарностью провидению, но наружу эти чувства не вырвались ни в словах, ни в веселых улыбках. Чувства, теснившиеся в душе Элинор, были сильными, но немыми.
Весь день она провела рядом с сестрой, оставляя ее лишь изредка и ненадолго, рассеивала все страхи, отвечала на все вопросы, произносимые еле слышным голосом, предвосхищала все желания и внимательно следила за каждым ее взглядом, каждым вздохом. Разумеется, время от времени ее охватывала боязнь нового ухудшения и недавние тревоги воскресали с прежней силой, но затем тщательнейшая проверка подтверждала, что обнадеживающие признаки становятся все более явными, а когда около шести часов Марианна погрузилась в тихий и, по всей видимости, благодетельный сон, последние сомнения ее сестры рассеялись.
Теперь уже приближался час, когда можно было ожидать полковника Брэндона. В десять часов, полагала Элинор, или лишь немногим позднее ее мать отдохнет от невыносимой тревоги, которая должна томить ее в пути. И полковник тоже! Ведь и его муки, конечно, лишь немногим меньше. Ах, как невыносимо медленно тянется время, пока они обречены быть в неведении!
В семь часов, оставив Марианну все так же сладко спящей, она спустилась в гостиную к миссис Дженнингс выпить чаю. Страхи не дали ей позавтракать, а чувства прямо противоположные помешали съесть за обедом что-нибудь существенное, и теперь, когда все душевные бури сменились радостным спокойствием, она села за стол с большим удовольствием. После чая миссис Дженнингс посоветовала ей прилечь до приезда матери, а тем временем с Марианной посидит она, но Элинор не испытывала никакого утомления, предполагала, что не сумеет сейчас уснуть хотя бы на миг, и не хотела разлучаться с сестрой ни на одну лишнюю минуту. Поэтому миссис Дженнингс только проводила ее наверх в комнату больной, чтобы собственными глазами убедиться, все ли по-прежнему обстоит благополучно, после чего, оставив Элинор ее заботам и мыслям, удалилась к себе в спальню писать письма, а затем и отойти ко сну.
Вечер был холодный и бурный. Вокруг дома завывал ветер, в окна хлестал дождь, но Элинор, вся во власти счастья, не замечала ничего. Марианну шум бури не тревожил, ну, а что до путешественников – за все неудобства, которые они терпят сейчас, их ждет величайшая из наград.
Часы пробили восемь. Раздайся десять ударов, Элинор не усомнилась бы, что слышит стук колес подъезжающего экипажа. И хотя они никак не могли успеть так рано, она вопреки очевидности почти поверила своим ушам, вышла в гардеробную и открыла ставень, чтобы убедиться, не фантазия ли это. И тотчас увидела, что слух ее не обманул: внизу блестели фонари кареты. В их неверном свете она различила, что запряжена карета как будто четверней, и это, хотя и свидетельствовало о том, как была встревожена ее мать, в какой-то мере объясняло столь быстрый их приезд.
Никогда еще Элинор не было так трудно сохранять спокойствие. Какие ее мать сейчас, когда карета остановилась у дверей, должна испытывать сомнения, страхи, а может быть, и отчаяние! Но она одним словом развеет их, снимет невыносимый гнет! Думать так и оставаться спокойной было немыслимо. Она могла лишь поторопиться. Задержавшись, только чтобы позвать к Марианне горничную миссис Дженнингс, Элинор сбежала с лестницы.
Шум в прихожей предупредил ее, что они уже в доме. Она бросилась в гостиную, вошла – и увидела там одного Уиллоби.
Глава 44
Элинор в ужасе замерла и, подчиняясь первому душевному движению, повернулась, чтобы покинуть гостиную; ее пальцы уже коснулись дверной ручки, но он остановил ее, поспешив следом и произнеся голосом не столько молящим, сколько требовательным:
– Мисс Дэшвуд, на полчаса... на десять минут прошу вас остаться.
– Нет, сударь, – твердо ответила она, – я не останусь. Какое дело может быть у вас ко мне? Слуги, полагаю, не сообразили предупредить вас, что мистер Палмер в отъезде.
– Пусть бы они сто раз предупреждали меня, что мистер Палмер и все его присные провалились в тартарары, – вскричал он яростно, – это не помешало бы мне войти! Мое дело к вам, и только к вам.
– Ко мне? – в величайшем изумлении воскликнула Элинор. – Если так, будьте кратки и, если можете, сдержитесь хоть немного.
– Сядьте, и я обещаю вам и то и другое.
Она помедлила, не зная, как поступить. Что, если сейчас подъедет долгожданный экипаж и полковник Брэндон застанет здесь Уиллоби? Однако она обещала выслушать его, к чему ее побуждало не только данное слово, но и любопытство. И после недолгого колебания она сказала себе, что благоразумие требует поспешить, а ее согласие приблизит конец этого нежданного свидания, и, молча направившись к столику, села возле него.
Уиллоби придвинул себе стул напротив, и почти полминуты он и она хранили молчание.
– Прошу вас, поторопитесь, сударь, – наконец нетерпеливо сказала Элинор. – У меня нет лишнего времени.
Он продолжал сидеть в позе глубокой задумчивости, как будто не услышав ее слов.
– Ваша сестра, – вдруг воскликнул он, – вне опасности! Так мне сказал лакей. Благодарение Богу! Но правда ли это?
Элинор не ответила, и он повторил свой вопрос с еще большей настойчивостью:
– Богом вас заклинаю, скажите мне: она вне опасности или же нет?
– Надеемся, что да.
Он вскочил и прошелся по комнате.
– Знай я это полчаса назад... Но раз уж я здесь, – с вы– мученной живостью добавил он, вновь опускаясь на стул, – то какая разница? Так порадуемся же вместе, мисс Дэшвуд, полагаю, в последний раз, но меня, право, все располагает к веселости. Скажите мне откровенно, – по его щекам разлился багровый румянец, – кем вы меня считаете более: негодяем или глупцом?
Элинор взглянула на него с еще большим изумлением. Ей оставалось только предположить, что он пьян: лишь так можно было объяснить и столь странный визит, и подобные манеры, и она тотчас встала со словами:
– Мистер Уиллоби, советую вам пока вернуться в Комбе, у меня нет более времени оставаться с вами. Какое бы дело ни привело вас ко мне, завтра вам будет легче обдумать его и объяснить.
– О, я понимаю ваш намек, – ответил он с выразительной улыбкой. – Да, я пьян, очень пьян: пинта портера с холодной говядиной в Мальборо совсем свалила меня с ног.
– В Мальборо! – воскликнула Элинор, все менее и менее что-нибудь понимая.
– Совершенно верно. Я уехал из Лондона утром в восемь и с этого часа не выходил из кареты, если не считать десяти минут в Мальборо, где я перекусил, пока меняли лошадей.
Твердость его тона и ясный взгляд убедили Элинор, что какое бы непростительное безумие ни привело его в Кливленд, порождено оно было не вином, и после недол–гого раздумья она сказала:
– Мистер Уиллоби, вам следовало бы знать, как знаю я, что ваше появление здесь после всего, что произошло, и ваши настояния, чтобы я вас выслушала, требуют весомого извинения. Так в чем же оно? Чего вы хотите?
– Я хочу, – ответил он с жаром, – если сумею, чуть-чуть угасить вашу ненависть ко мне. Я хочу предложить некоторые объяснения, некоторые оправдания произошедшему; открыть перед вами мое сердце и, убедив вас, что я, хотя никогда не мог похвастать благоразумием, подлецом все же был не всегда, добиться пусть тени прощения от Ма... от вашей сестры.
– Вы правда приехали только ради этого?
– Клянусь душой! – ответил он с такой пылкостью, что она вспомнила прежнего Уиллоби и против воли поверила в его искренность.
– Если причина лишь в этом, вы можете сразу же успокоиться: Марианна проща... она давно вас простила.
– Неужели! – вскричал он все с той же пылкостью. – Но в таком случае она простила меня прежде, чем следовало бы. Но теперь она простит меня снова, и по более основательным причинам. Так вы согласны меня выслушать?
Элинор наклонила голову.
– Не знаю, – начал он после некоторого раздумья, пока она молча ждала его слов, – как сами вы объясняли себе мои поступки с вашей сестрой и какие дьявольские побуждения мне приписывали... Быть может, вы и теперь останетесь прежнего мнения обо мне, но почему бы не попытаться? Я расскажу вам все без утайки. Когда я только сблизился с вашей семьей, у меня не было иной цели, чем скрасить время, которое я должен был провести в Девоншире, – скрасить так, как прежде мне не доводилось. Пленительная красота вашей сестры и обворожительные манеры не могли оставить меня совсем равнодушным, а ее поведение со мной почти с первых же минут... Теперь, когда я думаю, каким оно было и какова она сама, то лишь дивлюсь бесчувственности своего сердца. Тем не менее, признаюсь, вначале польщено было лишь мое тщеславие. Не заботясь о ее счастье, думая лишь о собственном удовольствии, уступая побуждениям, которым я всегда давал над собой излишнюю власть, я всеми средствами, какие были в моем распоряжении, старался понравиться ей, отнюдь не помышляя ответить взаимностью.
Тут мисс Дэшвуд, обратив на него взгляд, полный гневного презрения, перебила его словами:
– Мистер Уиллоби, едва ли стоит вам продолжать, а мне слушать. Подобное вступление не может привести ни к чему достойному. Не вынуждайте меня страдать, выслушивая и дальше ваши признания.
– Нет, я требую, чтобы вы выслушали все до конца! – возразил он. – Состояние мое никогда не было особенно велико, а мои вкусы всегда требовали больших расходов, и меня с ранней юности влекло общество людей много меня богаче. Каждый год по достижении совершеннолетия, и даже ранее, я умножал свои долги. И хотя кончина моей пожилой родственницы мисс Смит должна была бы поправить мои дела, однако полагаться на это не следовало, да к тому же и срок мог быть самым отдаленным; вот почему я уже довольно давно решил избавиться от долгов, подыскав себе богатую невесту. По той же причине я и помыслить не мог о том, чтобы связать свой жребий с вашей сестрой, и с бессердечием, эгоизмом, жестокостью, какие самый негодующий, самый презрительный взгляд – даже ваш, мисс Дэшвуд! – не способен осудить достаточно сурово, я потакал своему капризу и старался завоевать ее нежность, ничего не предлагая в ответ. Но одно все же чуть смягчает гнусность такого себялюбивого тщеславия: я попросту не представлял себе всю тяжесть удара, какой намеревался нанести, тогда еще не зная, что такое – любить. Но узнал ли я это потом? Тут есть место сомнениям. Ведь люби я истинно, мог ли бы я принести мою любовь в жертву эгоизму и алчности? Или, что еще важнее, мог ли бы я ради них пожертвовать ее любовью? Но я это сделал. В стремлении избежать относительной бедности, которую ее привязанность и ее общество превратили бы в ничто, я, обретя богатство, лишился всего, что могло бы сделать его желанным.
– Так, значит, – сказала Элинор, слегка смягчаясь, – вы верите, что одно время питали к ней искреннее чувство?
– Не покориться таким чарам, устоять перед такой нежностью? Какой мужчина в мире был бы на это способен? Да, сам того не замечая, я полюбил ее, и счастливейшими часами моей жизни были те, которые я проводил с ней, когда всем сердцем верил в честность своих намерений, в благородство каждого своего чувства! Но даже и тогда, когда я твердо намеревался просить ее руки, решительное объяснение я с непростительным легкомыслием откладывал со дня на день, не желая заключать помолвку, пока дела мои в таком беспорядке. Не стану искать извинений и приму любые ваши упреки во вздорности, и хуже чем вздорности, этого опасения связать себя словом, когда я был уже связан честью. Дальнейшее показало, что вел я себя как хитрый глупец, предусмотрительно запасающийся лазейкой для того, чтобы покрыть себя несмываемым позором и сделать несчастным навеки. Однако наконец я отбросил колебания и положил, как только мы останемся наедине, оправдать свои настойчивые ухаживания и открыто заверить ее в чувстве, которое я столь старательно выставлял напоказ. Но в промежутке... Но за те несколько часов, которым суждено было пройти до того, как мне представился случай объясниться с ней, возникло одно... обстоятельство... злополучное обстоятельство, положившее конец моим намерениям, а с ними – и всякой надежде на счастье. Открылось, что... – Тут он запнулся и опустил глаза. – Миссис Смит каким-то образом узнала... полагаю, от весьма дальних своих родственников, в чьих интересах было бы лишить меня ее расположения... об интрижке, о связи... Но надо ли мне договаривать? – добавил он, еще более краснея и вопросительно глядя на Элинор. – Ваша дружеская близость... Полагаю, вы уже давно обо всем этом осведомлены?
– Да, – ответила Элинор, краснея в свою очередь и вновь изгоняя из сердца всякое сочувствие к нему. – Я знаю все. И какое объяснение могли бы вы предложить, чтобы чуть уменьшить свою вину в этом ужасном деле, признаюсь, превосходит мое понимание.
– Вспомните, – вскричал Уиллоби, – от кого вы слышали об этом! Можно ли ожидать, что рассказ был беспристрастен? О, я признаю, что должен был бы с уважением отнестись к ее возрасту и положению. Я не собираюсь подыскивать извинения себе и все же не хочу, чтобы вы думали, будто для меня вовсе нет оправданий, будто, раз уж участь ее злополучна, значит, сама она безупречна, и если я распутник, то, следовательно, она святая! Если неистовство ее страсти, недалекость ее ума... Однако я не намерен защищать свое поведение. Ее чувства ко мне заслуживали лучшего обхождения, и я часто осыпаю себя горькими укоризнами, вспоминая нежность, которая оказалась способной на краткий срок вызвать взаимность. Я хотел бы, от всего сердца хотел бы, чтобы этого не случилось. Но я причинил страдания не только ей, но и той, чье чувство ко мне (позволено ли мне сказать это?) было не менее пылким, а ум и душа... о, насколько прекраснее!..
– Но ваше равнодушие к несчастной... Как ни неприятно мне говорить на подобную тему, но не могу не сказать, что ваше равнодушие к ней нисколько не оправдывает того, как жестоко вы с ней обошлись. Не думайте, что недалекость... что природная ограниченность ее ума хоть в чем-то извиняет столь очевидное ваше бессердечие. Вы ведь знали, что, пока вы развлекаетесь в Девоншире, приводя в исполнение новые планы, всегда такой веселый, такой счастливый, она томится в безысходной нищете!
– Честью клянусь, я этого не знал! – воскликнул он горячо. – Я забыл, что не объяснил ей, куда мне писать. Но, право же, здравый смысл мог научить ее, как меня найти.
– Оставим это, сударь. Но что сказала миссис Смит?
– Она тотчас с величайшим негодованием спросила, правда ли это, и не трудно догадаться, в какое ввергла меня смятение. Чистота ее жизни, суровость понятий, удаленность от света – все было против меня. Отрицать своего проступка я не мог, а все попытки смягчить его оставались втуне. Мне кажется, она и прежде была склонна сомневаться в безупречной нравственности моего поведения, а к тому же ее обидело мое невнимание во время этого визита, мои постоянные отлучки. Короче говоря, дело кончилось полным разрывом. У меня был один-единственный способ спасти себя. Возмущаясь моей безнравственностью, добрая женщина обещала простить мне прошлое, если я женюсь на Элизе. Этого я сделать не мог, на что она объявила, что больше не желает меня знать, и отказала мне от дома. Всю ночь – мой отъезд был отложен до утра – я провел в размышлениях о том, как мне теперь поступить. Борьба была тяжкой, но длилась недолго. Моего чувства к Марианне, моей уверенности в ее взаимности оказалось мало, чтобы перевесить страх перед бедностью и возобладать над ложным понятием о необходимости располагать большими деньгами, которое было мне вообще свойственно и еще более укрепилось в обществе людей богатых. Я имел причины полагать, что нынешняя моя жена не ответит мне отказом, если я соберусь сделать ей предложение, и убедил себя в благоразумии такого решения, не видя иного выхода. Но до того, как я покинул Девоншир, меня ожидало тяжелое испытание. Я в этот день обещал обедать у вас и обязан был принести вам какие-то извинения. Но вот написать или самому заехать? Я долго колебался. Я страшился увидеть Марианну и даже опасался, что встреча с ней может заставить меня переменить намерение. Но здесь, однако, я, как показало дальнейшее, не воздал должного силе своего духа: я приехал, я увиделся с ней, увидел ее горе и покинул ее в горе – покинул в надежде более никогда с ней не встречаться.








