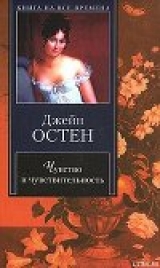
Текст книги "Чувство и чувствительность"
Автор книги: Д. Перова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Джейн Остен
Чувство и чувствительность
Глава 1
Дэшвуды принадлежали к старинному роду, владевшему в Сассексе большим поместьем, которое носило название Норленд-парк, и в усадьбе, расположенной в самом сердце их обширных угодий, из поколения в поколение вели столь почтенную жизнь, что пользовались среди соседей самой доброй репутацией. Послед–ним хозяином поместья был доживший до весьма преклонного возраста старый холостяк, много лет деливший свое уединение с сестрой, которая вела дом. Но она умерла – что произошло лет за десять до его собственной кончины, – отчего домашняя его жизнь совершенно переменилась, ибо, потеряв ее, он пригласил поселиться у себя семью своего племянника мистера Генри Дэшвуда, законного наследника Норленда, которому он так или иначе намеревался завещать свое имение. Общество племянника, племянницы и их детей приятно скрашивало жизнь старика. Его привязанность к ним все возрастала и крепла. Мистер и миссис Дэшвуд с заботливым попечением покоили его старость, угождая всем его желаниям не столько из своекорыстия, сколько по душевной доброте, веселость же детей служила ему развлечением.
У мистера Генри Дэшвуда был сын от первого брака, а вторая жена подарила ему трех дочерей. Сын, благоразумный и степенный молодой человек, не был стеснен в средствах, получив по достижении двадцати одного года половину состояния своей покойной матери, которое было весьма большим. А вскоре затем вступив в брак, еще приумножил свое богатство. Вот почему для него дальнейшая судьба Норленда была не столь важна, как для его сестер, чьи ожидания, если бы их отец не унаследовал имения, оказались бы далеко не радужными. Мать их никакого собственного состояния не имела, а отец по собственной воле мог распорядиться лишь семью тысячами фунтов, так как остальная часть наследства его первой жены также должна была отойти ее сыну, он же лишь пожизненно пользовался процентами с нее.
Почтенный джентльмен скончался. Его завещание было оглашено и, как почти всегда в подобных случаях, принесло столько же огорчения, сколько и радости. Нет, он не был настолько несправедлив и неблагодарен, чтобы вовсе обойти племянника, и поместье отказал ему – но на таких условиях, что в значительной мере обесценил его. Наследства мистер Дэшвуд желал более ради жены и дочерей, нежели ради себя и сына, – однако как раз этому сыну и его сыну, четырехлетнему малютке, и предназначил свое имение старик, связав племяннику руки всяческими ограничениями, отнимавшими у него возможность обеспечить тех, кто был особенно дорог его сердцу и особенно нуждался в обеспечении: завещание возбраняло ему распоряжаться поместьем по своему усмотрению или продавать дорогой лес. Сделано это было для того, чтобы оно со временем во всей целости перешло его внуку, который, приезжая с отцом и матерью погостить в Норленде, настолько обворожил двоюродного прадедушку такими отнюдь не редкими у двух-трехлетних детей милыми особенностями, как забавный лепет, упорство в желании поставить на своем, изобретательность в проказах и шумливость, что они совершенно перевесили все нежные заботы, какими его окружали племянница и ее дочери. Впрочем, он вовсе не думал обидеть их и в знак расположения оставил каждой из трех девиц по тысяче фунтов.
Первое время мистер Дэшвуд переносил свое разочарование очень тяжело. Но человек по натуре бодрый и не склонный унывать, он вскоре утешился мыслью, что впереди у него еще много времени и, живя экономно, он сумеет отложить порядочную сумму из доходов от поместья, – они и так уже были немалыми, но он надеялся незамедлительно увеличить их, введя некоторые улучшения. Увы, поместье, полученное им столь поздно, принадлежало ему один год. Он пережил дядю лишь на этот срок, и его вдове и дочерям осталось всего десять тысяч фунтов, включавшие и те три тысячи, которые завещал барышням двоюродный дед.
Едва стало ясно, что болезнь мистера Дэшвуда принимает опасный оборот, он послал за сыном и со всей настойчивостью и убедительностью, на какие у него еще достало духа, поручил мачеху и сестер его заботам.
Мистер Джон Дэшвуд, в отличие от остальных членов семьи, не был склонен к сильным чувствам, но подобная отцовская просьба в подобных обстоятельствах не могла не тронуть сына, и он обещал сделать для их благополучия все, что будет в его силах. Такое заверение облегчило последние минуты умирающего, а затем у мистера Джона Дэшвуда оказалось достаточно досуга поразмыслить, что, собственно, он может сделать для них, не выходя из пределов благоразумия.
Он вовсе не был дурным человеком – конечно, если черствость и эгоистичность не обязательно делают людей дурными – и, во всяком случае, пользовался общим уважением, так как в обычных обстоятельствах всегда вел себя с безукоризненной порядочностью. Женись он на более мягкосердечной женщине, то, быть может, стал бы еще более порядочным или даже сам умягчился сердцем, потому что вступил в брак совсем юным и очень любил жену. Однако миссис Джон Дэшвуд была как бы преувеличенной карикатурой на него самого – еще более себялюбивой и холодной.
Давая обещание отцу, он решил было добавить к состоянию сестер по тысяче фунтов для каждой. В те минуты он искренне считал, что это вполне в его силах. Мысль о том, что теперь его доход пополнится четырьмя тысячами фунтов в год, не говоря уж о второй половине материнского наследства, согрела его душу, вознесла над мелочными расчетами. Да, он подарит им три тысячи фунтов: это щедро, благородно. Они будут вполне обеспечены. Три тысячи фунтов! И столь внушительную сумму он может отдать, не причинив себе сколько-нибудь заметного ущерба! Эту мысль он лелеял весь день, а потом и еще много дней, ничуть не раскаиваясь в принятом решении.
Едва его отец был погребен, как прибыла миссис Джон Дэшвуд с сыном и собственными слугами. Никто не мог бы оспорить ее права приехать: дом принадлежал ее мужу с того мгновения, как его отец скончался. Но это лишь усугубляло бездушную неделикатность поведения, которое в подобных обстоятельствах больно ранило бы и женщину, не наделенную особенно тонкой натурой. Понятия же миссис Дэшвуд о чести были столь высоки, а представления об истинном благородстве столь романтичны, что поступок такого рода, независимо от того, кем и по отношению к кому он был совершен, мог вызвать у нее лишь непреходящее отвращение. Миссис Джон Дэшвуд никогда не пользовалась особенной любовью близких ее мужа, но до сих пор ей не выпадало случая показать им, с каким пренебрежением к душевному покою и чувствам других людей способна она вести себя, когда ей это представляется нужным.
Миссис Дэшвуд подобная грубая бессердечность возмутила так сильно и внушила ей столь жгучее презрение к невестке, что она, вероятно, в ту же минуту навсегда покинула бы дом, если бы не убеждения старшей дочери, которые заставили ее вспомнить, что подобная спешка была бы непростительным нарушением всех приличий. А затем любовь к трем ее девочкам внушила ей, что ради них она должна остаться и не порывать отношений с их братом.
Элинор, старшая из сестер, чьи уговоры оказались столь успешными, обладала живым умом и спокойной рассудительностью, позволившими ей в девятнадцать лет стать советницей матери: не раз она, к их общему благу, успевала предупредить тот или иной необдуманный порыв миссис Дэшвуд. Душа у нее была прекрасная, сердце доброе и привязчивое, а чувства очень сильные, но она умела ими управлять. Умение это ее мать так пока и не приобрела, а одна из сестер твердо решила никогда не приобретать.
Достоинствами Марианна во многих отношениях не уступала Элинор. Она была умна, но впечатлительна и отличалась большой пылкостью: ни в печалях, ни в радостях она не знала меры. Она была великодушна, мила, загадочна – все, что угодно, но только не благоразумна. Сходство между ней и матерью казалось поразительным.
Чувствительность сестры внушала Элинор тревогу, но миссис Дэшвуд восхищалась этим качеством дочери и всячески его лелеяла. Теперь они с Марианной неустанно поддерживали друг в друге бурную печаль. Сразившее их горе от невозвратимой утраты теперь нарочито растравлялось, усугублялось, воскрешалось вновь и вновь. Они всецело предались его мукам, питали их всеми способами и твердо отвергали даже мысль о возможном утешении пусть в самом далеком будущем. Элинор тоже горевала всем сердцем, но она боролась с собой, старалась взять себя в руки. У нее достало сил советоваться с братом, а также достойно встретить невестку и держаться с ней, как требовали правила хорошего тона. Она пыталась побудить к тому же и свою мать, вдохнуть в нее такую же терпеливую твердость.
Маргарет, третья сестра, была доброй, хорошей девочкой, но уже успела впитать немалую толику романтичности Марианны, хотя далеко уступала ей в уме, и в свои тринадцать лет, разумеется, не могла считаться равной более взрослым сестрам.
Глава 2
Теперь хозяйкой Норленда стала миссис Джон Дэшвуд, а ее свекровь и золовки были низведены на положение гостий. Однако в таком их качестве она обходилась с ними со спокойной вежливостью, а ее муж – со всей добротой, на какую он был способен, когда речь шла не о нем самом, его жене или сыне. Он с вполне искренней настойчивостью просил их считать Норленд своим домом, и его приглашение было принято, так как миссис Дэшвуд не видела иного выхода – во всяком случае, до тех пор, пока она не подыщет для себя дом где-нибудь в окрестностях.
Необходимость жить там, где все напоминало ей о былых радостях, превосходно отвечала особенностям ее натуры. В безоблачные времена никто не мог сравниться с ней веселостью духа, никто не уповал на счастье с той светлой надеждой, которая сама по себе уже счастье. Но и печали она предавалась с такой же беззаветностью и так же отвергала самую возможность утешения, как прежде не позволяла даже тени сомнения омрачить ее восторги.
Миссис Джон Дэшвуд отнюдь не одобрила того, что ее муж решил сделать для своих сестер. Отнять три тысячи фунтов у их драгоценного сыночка! Но это же нанесет страшнейший ущерб его состоянию! Она умоляла его хорошенько подумать. Какое оправдание найдет он себе, если ограбит свое дитя, свое единственное дитя? Ведь это же огромная сумма! И какое, собственно, право есть у девиц Дэшвуд, всего лишь сводных его сестер – а такое родство она вообще родством не признает, – на подобную его щедрость? Давно известно, что между детьми от разных браков их отца вообще никакой привязанности и быть не положено. Почему должен он разорить себя и их бедного Гарри, отдав все свои деньги сводным сестрам?
– На смертном одре отец просил меня, – ответил ее муж, – чтобы я помог его вдове и дочерям.
– Вероятно, он не понимал, что говорит. Десять против одного, у него был бред. Будь он в здравом уме, ему и в голову не пришло бы просить, чтобы ты отнял половину своего состояния у собственного сына!
– Он не называл никаких сумм, милая Фанни, а лишь в общих словах просил меня оказать им помощь, обеспечить их будущее надежнее, чем было в его власти. Пожалуй, было бы лучше, если бы он просто положился на меня. Неужели он думал, что я брошу их на произвол судьбы! Но раз уж он потребовал от меня обещания, я не мог отказать. Во всяком случае, так мне это представилось в ту минуту. Но как бы то ни было, обещание я дал и его необходимо сдержать. Надо будет сделать для них что-то, когда они покинут Норленд и устроятся в своем новом доме.
– Так и сделай для них что-то. Но почему этим «что-то» непременно должны быть три тысячи фунтов? Ну, подумай сам! – добавила она. – Стоит отдать деньги, и они уже к тебе не вернутся. Твои сестры выйдут замуж, и ты лишишься этих денег навсегда. Конечно, если бы они все-таки когда-нибудь достались нашему бедному малютке...
– Да, бесспорно, – с величайшей серьезностью согласился ее муж, – это меняло бы дело. Ведь может настать время, когда Гарри пожалеет, что столь крупная сумма была отдана на сторону. Если, например, у него будет много детей, такая добавка оказалась бы очень кстати.
– О, конечно!
– Так, пожалуй, для всех будет лучше, если эту сумму сократить наполовину. И пятьсот фунтов заметно увеличат их состояние!
– Очень намного! Какой еще брат сделал бы даже вполовину столько для своих сестер, причем для родных сестер! Ну, а для сводных... Но ты так великодушен!
– Да, мелочность тут неуместна, – ответил он. – В подобных случаях всегда предпочтешь сделать больше, а не меньше. Никто, во всяком случае, не сможет сказать, что я сделал для них недостаточно. Даже они сами вряд ли ожидают большего.
– Чего они ожидают, знать невозможно, – сказала его супруга. – Но об их ожиданиях нам думать незачем. Важно, что можешь позволить себе ты.
– Разумеется. И мне кажется, я могу позволить себе подарить им по пятьсот фунтов. Но ведь и без моего добавления каждая из них после смерти матери получит более трех тысяч фунтов. Состояние для любой девицы вполне завидное.
– О, конечно! И по-моему, никаких добавок им не требуется. Они же разделят между собой десять тысяч фунтов! Если они выйдут замуж, то, без сомнения, за людей состоятельных. А если нет, то отлично проживут вместе на проценты с десяти тысяч.
– Совершенно верно, а потому, принимая во внимание все обстоятельства, я прихожу к выводу, что лучше будет назначить что-нибудь не им, а их матери – пожизненно. Я имею в виду что-нибудь вроде ежегодной пенсии. И это будет на пользу не только ей, но и моим сестрам. Сто фунтов в год вполне их всех обеспечат.
Однако его жена не поторопилась одобрить и этот план.
– О, конечно, – сказала она, – это лучше, чем отдать полторы тысячи фунтов сразу. Но если миссис Дэшвуд проживет еще пятнадцать лет, мы понесем именно этот убыток.
– Пятнадцать лет! Милая Фанни, ее жизнь и половины этого срока не продлится.
– Да, бесспорно. Но, наверное, ты замечал, что люди, которым выплачивают пенсии, живут вечно. А она очень бодра, здоровье у нее отменное, и ей только-только исполнилось сорок. Ежегодная пенсия – расход весьма серьезный. Ее приходится выплачивать из года в год, и изменить уже ничего нельзя. Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь. Мне хорошо известно, какой обузой оборачиваются пенсии. Ведь моя маменька была обременена выплатой целых трех пенсий, которые папенька в своей духовной назначил трем престарелым слугам, и просто удивительно, как ей это досаждало. Дважды в год плати, да еще хлопоты с отсылкой денег! А потом пришла весть, будто кто-то из них умер. Но только после выяснилось, что ничего подобного. Маменька совсем измучилась. Собственные доходы ей вовсе не принадлежат, говаривала она, раз какая-то их часть изымается безвозвратно. И бессердечие папеньки было тем больше, что без этих пенсий маменька могла бы распоряжаться всеми деньгами без всяких ограничений. У меня теперь такое отвращение к пенсиям, что я ни за какие блага в мире не связала бы себя по рукам и ногам подобным обязательством!
– Да, безусловно, – ответил мистер Дэшвуд, – всякие ежегодные отчисления от доходов крайне неприятны. Собственное состояние, как справедливо замечает твоя маменька, человеку уже не принадлежит. Связать себя постоянными выплатами подобной суммы каждое полугодие – значит лишиться независимости. Нет, это вовсе ни к чему.
– Несомненно! И тебя за это даже спасибо не ждет. Они полагают себя обеспеченными, то, что ты им уделяешь, словно само собой разумеется и никакой благодарности не вызывает. На твоем месте, если бы я что-либо и делала, то лишь тогда, когда сама находила бы это нужным. А ежегодными выплатами себя не связывала бы. Вдруг в тот или иной год нас очень стеснит необходимость отнять у себя сто или даже пятьдесят фунтов?
– Любовь моя, ты совершенно права! Лучше будет обойтись без твердой пенсии. То, что я смогу уделять им от случая к случаю, принесет им значительно больше пользы, чем ежегодная пенсия. Ведь, рассчитывая на больший доход, они просто стали бы жить на более широкую ногу и к концу года не оказались ни на йоту богаче. Нет, нет, так будет гораздо разумнее. Пятьдесят фунтов в подарок время от времени поспособствуют тому, чтобы они никогда не чувствовали себя стесненными в средствах, и, мне кажется, таким образом я более чем выполню данное отцу обещание.
– О, конечно! Да и, по правде говоря, я убеждена, что твой папенька вовсе и не думал о том, чтобы ты дарил им деньги. Право же, он имел в виду лишь ту помощь, какую от тебя действительно можно требовать. Например, подыскать для них удобный небольшой дом, облегчить им хлопоты с переездом, посылать рыбу, дичь и прочие такие же подарки, в зависимости от времени года. Головой ручаюсь, ни о чем другом он и не помышлял. Да и странно было бы, и вовсе неразумно, считай он иначе. Милый мой мистер Дэшвуд! Подумай хорошенько, как чудесно могут жить на проценты с семи тысяч фунтов твоя мачеха и ее дочки. И ведь у каждой барышни, кроме того, есть своя тысяча, а она приносит в год пятьдесят фунтов. Разумеется, из них они будут платить матери за стол. То есть у них на всех будет в год пятьсот фунтов! Ну, скажи на милость, разве этого не более чем достаточно для четырех женщин? Они ведь могут жить так дешево! Ведение хозяйства расходов вообще не потребует. У них не будет ни экипажа, ни лошадей. Прислуги почти никакой. Принимать у себя и ездить по гостям им незачем. Так какие же тут расходы? Только представь себе, как отлично они заживут! Пятьсот фунтов в год! Я просто вообразить не в состоянии, на что они сумеют потратить хотя бы половину такой суммы. А о том, чтобы ты им что-то еще дарил, даже думать смешно. Им куда легче будет уделить что-нибудь тебе!
– Слово благородного человека! – сказал мистер Дэшвуд. – Ты совершенно права! Мой отец, безусловно, имел в виду только то, о чем сказала ты. Теперь мне это совершенно ясно, и я буду скрупулезно соблюдать свое обещание, оказывая им ту помощь и те знаки внимания, о которых ты говорила. Когда моя мать решит переехать, я с удовольствием позабочусь оказать ей все посильные услуги. Пожалуй, нелишним будет и подарить ей по этому случаю кое-какую мебель.
– О, конечно! – сказала миссис Джон Дэшвуд. – Впрочем, тут уместно вспомнить одно обстоятельство. Когда твои папенька и маменька переселились в Норленд, стэнхиллская мебель, правда, была продана, но фарфор, столовое серебро и белье – все осталось и теперь завещаны твоей маменьке. Поэтому ее дом, как только она его снимет, сразу же будет почти полностью обставлен.
– Это, бесспорно, очень важное соображение. Очень, очень недурное наследство! А ведь кое-что из серебра совсем не помешало бы добавить к тому, что у нас здесь есть.
– Да. И чайный сервиз куда великолепнее здешнего! Такая роскошь, по моему мнению, будет даже излишней в жилище, какое подойдет им теперь. Но ничего не поделаешь. Твой папенька думал только о них. И как хочешь, а я все-таки скажу: ты вовсе не обязан питать к нему особенную благодарность или свято исполнять его волю. Ведь мы же прекрасно знаем, что, будь у него такая возможность, он все, все, все, кроме разве что какой-нибудь малости, отказал бы им!
Этот довод был неотразим. И вдохнул в него решимость, положившую конец его колебаниям. Теперь он твердо знал, что предложить вдове и дочерям его отца что-нибудь, помимо тех добрососедских услуг, какие перечислила его жена, было бы не только совершенно лишним, но, пожалуй, и в высшей степени неприличным.
Глава 3
Миссис Дэшвуд провела в Норленде еще несколько месяцев, но вовсе не потому, что ей не хотелось никуда переезжать. Напротив, едва вид столь хорошо знакомых мест перестал вызывать прежнее бурное горе и ее душа немного оживилась, а разум не столь непрерывно терзался печальными воспоминаниями, как она преисполнилась нетерпением поскорее уехать и без устали наводила справки о подходящих домах в окрестностях Норленда, – уехать далеко от всего, что было столь дорого ее сердцу, у нее не хватало сил. Но ей никак не удавалось найти жилище, которое отвечало бы ее понятиям о комфорте и удобствах и было бы одобрено благоразумной старшей дочерью, чьи более трезвые суждения уже заставили ее отказаться от нескольких домов, слишком больших для их ограниченного дохода, на которых она совсем готова была остановить свой выбор.
Муж сообщил миссис Дэшвуд о торжественном обещании позаботиться о них, которое дал ему сын и которое облегчило его последние часы. В искренность этих заверений она поверила столь же непоколебимо, как и покойный, и теперь при мысли о них радовалась – не за себя, но за своих дочерей. Самой же ей, была она убеждена, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь, хватило бы и половины семи тысяч фунтов. И еще она была рада за их брата, рада, что ошиблась в нем, и укоряла себя за прежнее свое несправедливое к нему отношение: ведь она считала его неспособным на великодушие. Его неизменная внимательность к ней и сестрам убедила ее, что он принимает к сердцу их благополучие, и она долго полагалась на благородство его намерений.
Презрение, каким она в самом начале их знакомства прониклась к своей невестке, неизмеримо возросло, когда она лучше узнала ее характер, прожив с ней под одним кровом полгода. И возможно, обе дамы не выдержали бы такого длительного испытания, несмотря на требования приличий и материнские чувства миссис Дэшвуд, если бы не одно обстоятельство, которое, по мнению этой последней, более чем оправдывало дальнейшее пребывание ее дочерей в Норленде.
Обстоятельством этим была крепнущая взаимная симпатия между ее старшей девочкой и братом миссис Джон Дэшвуд, очень приятным молодым человеком с благородными манерами, который познакомился с ними вскоре после переезда его сестры в Норленд и с тех пор почти постоянно гостил там.
Некоторые матери поощряли бы такое сближение из меркантильных соображений, – ведь Эдвард Феррарс был старшим сыном человека, скончавшегося очень богатым; другие же, напротив, постарались бы воспрепятствовать ему из благоразумия, так как, если не считать пустякового дохода, он всецело зависел от воли своей матушки. Но на миссис Дэшвуд ни то, ни другое обстоятельство нисколько не влияло. Ей было достаточно, что молодой человек, видимо, очень порядочный, полюбил ее дочь и что Элинор отвечает ему взаимностью. По ее глубокому нравственному убеждению, разница в состоянии никак не служила препятствием для соединения молодой пары, связанной симпатией душ, а что кто-нибудь из знающих Элинор мог остаться слеп к ее достоинствам, и вовсе представлялось ей немыслимым.
Эдвард Феррарс не завоевал их расположения с первых же минут интересной наружностью или особой ловкостью обхождения. Он не был красив, а манеры его обретали привлекательность лишь при более близком знакомстве. Застенчивость мешала ему показывать себя с наивыгоднейшей стороны, но, когда он преодолевал эту природную робость, все его поведение говорило об открытой и благородной натуре. Ему был присущ немалый ум, прекрасно развитый образованием. Но у него не было ни способностей, ни склонности отличиться, как того желали его мать и сестра, на... они и сами не знали, на каком поприще. Им не терпелось, чтобы он так или иначе занял блестящее положение в свете. Мать хотела, чтобы он занялся политикой, стал членом парламента или доверенным помощником того или иного государственного мужа. Не меньшего для него хотела и миссис Джон Дэшвуд, хотя в ожидании этих великих свершений она удовольствовалась бы и тем, чтобы он ловко правил щегольским экипажем. Но Эдварда Феррарса не влекли ни государственные мужи, ни щегольские экипажи. Сам он мечтал лишь о домашнем уюте и тихой жизни частного лица. К счастью, у него был младший брат, обещавший гораздо больше.
Эдвард гостил в Норленде уже несколько недель, когда миссис Дэшвуд, еще вся во власти своего горя, начала обращать на него внимание. Прежде она замечала только, что в нем нет никакой развязности, и этим он ей нравился. Он не нарушал ее скорби неуместными разговорами. Приглядываться же к нему, причем все более одобрительно, она стала после того, как Элинор однажды упомянула, насколько мало походит он характером на сестру. Для ее матери трудно было найти рекомендацию лучше.
– Если он не похож на Фанни, – сказала она, – чего же более! Это ведь подразумевает все самые приятные качества. Я его уже полюбила.
– Мне кажется, – ответила Элинор, – он правда вам понравится, когда вы узнаете его поближе.
– Понравится! – с улыбкой возразила ее мать. – Для меня одобрять – значит любить. На более слабое чувство я не способна.
– Но вы можете питать к нему уважение.
– Я всегда полагала, что уважение и любовь нераздельны.
Миссис Дэшвуд начала привечать молодого человека. Манеры ее были очень располагающими, и вскоре он забыл о своей застенчивости. Она же не замедлила убедиться в его достоинствах: возможно, уверенность, что он любит Элинор, сделала ее особенно проницательной. Однако оценила она его от всей души, и даже скромная сдержанность, противоречившая всем ее понятиям о светскости, приличной молодым людям, перестала быть в ее глазах признаком незначительности, едва ей открылись отзывчивость его сердца и мягкость натуры.
Стоило же ей усмотреть в его поведении с Элинор признаки любви, как она уверовала в серьезность их взаимного чувства и уже предвкушала их скорую свадьбу.
– Еще несколько месяцев, милая Марианна, – сказала она, – и судьба Элинор, судя по всему, устроится навсегда наилучшим образом. Нам будет грустно без нее, но зато ее ждет счастье.
– Ах, мама! Как же мы будем жить без нее?
– Но, душечка, мы ведь почти не разлучимся. Поселимся в двух-трех милях друг от друга и станем видеться каждый день. А у тебя будет брат, истинно любящий брат. Я самого высокого мнения о сердце Эдварда... Марианна! У тебя такой опечаленный вид! Или ты не одобряешь выбор своей сестры?
– Пожалуй, я несколько удивлена, – ответила Марианна. – Эдвард очень мил, и я нежно его люблю. И все же... он не... ему чего-то недостает... В его внешности нет ничего незаурядного. Ему недостает того изящества манер, какое мне представлялось обязательным в человеке, покорившем сердце моей сестры. Его взгляд лишен той пылкости, того огня, которые неопровержимо свидетельствуют и о высоких достоинствах, и о тонком уме. И, ах, мама, боюсь, он не обладает подлинным вкусом. К музыке он словно бы равнодушен, и, как ни восхищается он рисунками Элинор, это не восхищение истинного ценителя, способного понять, до чего они на самом деле хороши. Хотя он и не отходит от нее, когда она рисует, легко заметить, что он ничего в этом не понимает. Он восторгается как влюбленный, а не как знаток. Для меня же необходимо соединение того и другого. На меньшем я не примирилась бы. Я не могла бы найти счастье с человеком, чей вкус не во всем совпадал бы с моим. Он должен разделять все мои чувства. Те же книги, та же музыка должны равно пленять нас обоих. О, мама! Какой скучной, какой невыразительной была манера Эдварда, когда он читал нам вчера вечером! Как я сострадала Элинор! Она сносила его чтение спокойно, словно ничего не замечала. А я с трудом удерживалась, чтобы не убежать. Слушать, как дивные строки, которые столь часто приводили меня в экстаз, произносятся с такой холодной невозмутимостью, с таким ужасающим равнодушием...
– Да, бесспорно, ему больше подошла бы легкая изящная проза. Я уже тогда так подумала. Но ты настояла, чтобы он читал Каупера!
– Ах, мама! Если и Каупер его не трогает... Впрочем, вкусы бывают разные. Элинор мои чувства не свойственны, а потому она может не придавать этому такого значения и быть с ним счастливой. Но если бы его любила я, у меня сердце разбилось бы, едва я услышала бы, как мало чувствительности в его манере читать. Мама, чем больше я узнаю свет, тем больше убеждаюсь, что никогда не встречу того, кого могла бы полюбить по-настоящему. Я требую столь многого! Он должен обладать не только всеми достоинствами Эдварда, но и сочетать их с чарующей внешностью и обворожительностью манер.
– Душечка, не забывай, что тебе нет и семнадцати лет. Отчаиваться еще рано. Почему тебе не может выпасть то же счастье, что и твоей матери? Лишь в одном, моя Марианна, да будет твой удел иным, чем у нее!








