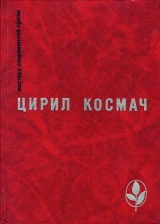
Текст книги "Тантадруй"
Автор книги: Цирил Космач
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Цирил Космач
ТАНТАДРУЙ
Поздней ясной и чуть ветреной ночью я возвращался из Пирана. Медленно взбирался я в гору по узкой и крутой улочке, бормоча припев застрявшей в ушах чужой песенки, частенько останавливаясь и упоенно наблюдая и слушая, как осенний ветер играл с лунной ночью. Он играл с нею, точно с вуалью: шелком шуршало все вокруг меня и надо мною, бледно-золотой свет мягко переливался на пологих крышах и игриво покачивался на взволнованном море.
У меня на сердце тоже было ветрено, а в душе – непривычно светло. Вновь пришли те золотые часы, которые насквозь пронизывают меня светом и музыкой и звучат в душе так же радостно, как погожий летний день, замирая посреди зеленой долины. Было слишком хорошо, поэтому я был убежден, что вскоре все затянет неведомая и непонятная тоска, смешанная с горько-сладкой грустью, которая начнет побуждать меня к писанию. И все-таки я был так счастлив, что всем и каждому хотел поведать, как хорошо жить. Но поскольку мне не встречалось ни одной живой души, то я рассказывал об этом мертвым; как раз в эту минуту я проходил мимо кладбища и смотрел на посеребренную надпись, светлевшую над закрытыми воротами.
«Resurrecturis…» [1]1
Да воскреснут… (лат.)
[Закрыть] – прочитал я, а вслух произнес:
– Жить хорошо!
И смотри-ка, голос мой показался мне самому каким-то странным, глухим и робким, а еще более странно отдавались мои шаги.
– Жить хорошо! – громче повторил я. И тогда мне почудилось, будто там, за черными кладбищенскими кипарисами, легонько перекатывается и исчезает между белых камней эхо моего голоса, приплясывает робкой птицей и, подобно птице, тихо посмеивается надо мною: «Жить-жить-жить!»
Было чуть-чуть жутко, но в то же время так заманчиво, что, вероятнее всего, я последовал бы за своим эхом, если б ворота не были заперты. А коль скоро они оказались заперты, я проворнее стал подниматься в гору по каменистой дороге. Шаги мои звучали теперь дробно, словно за мной поспешал по меньшей мере десяток душ. Взгляд мой невольно упал на широкую ленту ровного шоссе. Оно было светлым и пустынным вплоть до самого входа на кладбище, над которым, словно влажный, полный печальной задумчивости глаз, светилась посеребренная надпись.
– Resurrecturis… – пробормотал я. И подумал, что точно такая надпись стояла над воротами нашего сельского кладбища, хотя там она не была сложена из железных и посеребренных букв, а вырезана долотом на дубовой плахе грубой рукою плотника Подземлича. Я вспомнил об этой плахе, а потом вспомнил о матери, которая спит на том кладбище уже тридцать лет. Она припомнилась мне столь ясно, как давно уже не бывало: я увидел ее лицо, синие глаза, ласковую и озорную улыбку, услышал ее теплый голос и сказки, которые она рассказывала так живо, что, по совести говоря, я должен был бы давно уж их записать.
На душе у меня становилось тяжелее и тяжелее, сердце билось тревожнее, точно совесть обожгла меня. Миновали золотые часы, и стал клониться к закату погожий летний день. Подул ветер плодоносной грусти и обильной плодами печали, и домой идти не хотелось. Я свернул с шоссе и зашагал по проселку, тянувшемуся вдоль выщербленной стены. Вскоре я оказался во владениях старого Берта, домишко его и крохотное поле на вершине холма окружала высокая ограда, кое-где, правда, обвалившаяся, и эти провалы заросли густым кустарником. Могучие ворота когда-то, вероятно, охраняли вход в замок, теперь же от них уцелела лишь правая верея, а на ней стоял укрепленный цементом бюст какого-то средневекового воина – в шлеме, с могучими усами и с отбитым носом. Я прислушался, все ли кругом тихо и спит ли пес, о свирепости которого предупреждала надпись на деревянной дощечке. Было тихо. Медленно, на цыпочках начал пробираться я мимо вереи, и одному дьяволу ведомо, почему я вдруг поднес к виску правую руку, отдал честь искалеченному старому воину и выпалил:
– Божорно-босерна!
И замер как вкопанный. Затем покачал головой и спросил самого себя, откуда взялось это небывалое приветствие. И опять я увидел свою мать, которая шутливо погрозила мне и улыбнулась печально и ласково; и сейчас же мне вспомнилось, что так здоровался увечный строитель Лука из ее рассказа о Тантадруе. О, воистину причудливы пути вдохновения! Почти сорок лет этот рассказ таился во мне, и вот ветреной осенней ночью он проснулся возле разбитой статуи солдата, проснулся и ожил.
Я свернул вправо, прошел вдоль стены, остановился в сосновой рощице и уселся на ограде. Ночь и вправду была прекрасна, и осенний ветер играл с нею; он словно прятался в сосняке у меня за спиной и там шумел сильнее. Внизу лежал город Пиран. Точно нос огромного пиратского парусника, он рассекал бурлящее море, а я сидел на вершине холма, как на верхушке мачты, и плыл. Я был старым пиратом, почти ослепшим от мерцания неизмеримой океанской пучины, почти оглохшим от рева далеких вихрей в ледяных морских безднах, и потому видел все вполглаза и внимал всему вполуха. Картина эта показалась мне несколько нарочитой, поэтому ей на смену быстро пришла другая, менее приятная: я был орлом, прикованным цепью к мачте. Но кем бы я ни был, старым ли пиратом или плененным орлом, я двигался, я снова уплывал в неведомое, навстречу новым глупостям и мудрости, страданиям и страсти. Белье, сохнувшее на пиранских крышах и плясавшее под ветром, стало флажками на вантах моего пиратского корабля, вымпелами моего бремени, моих неизлечимых хворей, моих недостижимых целей… Пунта [2]2
Часть Пирана, застроенная красивыми старинными домами; там же расположен маяк.
[Закрыть] стала носом корабля, украшенным торсом пышной сирены, а маяк превратился в ее красный стеклянный глаз. Равномерно покачиваясь, мы рассекали волны. Впереди к горизонту уходила полоса золотистого лунного света. Далеко-далеко на ней мелькала крохотная черная точка, словно маленький человек шагал по широкой белой дороге.
– Так шел Тантадруй, – забормотал я. – Отправимся-ка теперь за ним! Отправимся в погоню за счастьем!
А потом? Потом взгляд мой вновь обратился к красотам ночи: скользнул меж белых камней за черными кипарисами, по руинам старого замка, по стройной колокольне, устремившейся в небо, по пологим крышам города Пирана. Он уходил в открытое море широкой дорогой лунного света, торопясь за крохотной точкой моих воспоминаний, за историей о Тантадруе…
I
Стылая земля звенела под их коваными башмаками, и стылая луна светила им сверху, потому что зимнее небо было ясным, а утро было еще неблизко. Издалека шли люди: хозяева и батраки, купцы и ремесленники, бродячие разносчики, перекупщики и маклеры, парни и девушки, бродяги и жулики попроще, потерянные души – нищие, дурачки от рождения, которых тогда называли «дети божьи», и такие, что свихнулись уже позднее и которых не было пока надобности держать под замком. В одиночку и группами спешили они по всем четырем долинам, раскрывавшимся перед ними. Они шли в Мост на ярмарку, поэтому шагали молча, чтоб легче было прикидывать барыши и убытки, раздумывать о своих нуждах и мечтать о своих надеждах.
В Мост поспешал и наш деревенский дурачок Тантадруй. Все давно позабыли, как его звали на самом деле. Окрестили его Тантадруем, потому что каждую фразу он начинал с этого странного слова, которое, однако, было не таким уж странным. В детстве ребятишки дразнили его, и несчастная мать всегда из-за этого ругалась с соседками; пальцем она тыкала в ребят, стоявших в отдалении, и жаловалась, что дразнили ее сына «Той, и той, той, друй». А словечко «друй» в наших местах означает «другой». Ребенок слышал это несчетное множество раз на дню, поэтому нечего удивляться, что скороговорка, которой он не понимал, стала для него одним словом. К тому же и первым, которое он произнес сам. «Тантантадруй!» – стонал он, жалуясь матери, и «Тан-тан-тадруй…» – тихонько напевал, играя на печке или в пыли у порога. Позже, когда он выучился говорить, словечко это служило ему для упражнений в языке. Постепенно оно превратилось в его имя.
Тантадруй был крохотным существом и разумом обладал крохотным, а маленькая душа его была достаточно просторной, чтоб вместить в себя великое и единственное желание: умереть. С тех пор как однажды мать сказала ему, что счастлив он будет только тогда, когда умрет, желание это настолько овладело им, что, пожалуй, он и жил-то ради него одного.
Теперь исполнение этого желания снова близилось, и поэтому он спешил так, что весело позвякивали многочисленные коровьи колокольчики, которые он ремешками прикрепил к длинной веревке, а ее в свою очередь повесил на плечи, крест-накрест перевязал ею грудь и перепоясался.
Собственно говоря, Тантадруй даже не шел, а подпрыгивал, потому что этого требовал ритм песенки, сложенной для него хромоножкой Тратаревой Елчицей. Равномерно и безостановочно тянул он светлым, теплым голоском, который пожилые женщины называли ангельским:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
Люди догоняли и обгоняли его и ласково все здоровались:
– Доброе утро, Тантадруй! Ты еще не умер?
– Тантадруй, еще нет! – радостно подскакивал дурачок. – Но я скоро. Смерть уже есть у меня, и эта будет настоящей!
– В самом деле? – удивлялись крестьяне. – Как же ты умрешь?
– Тантадруй, этого я не скажу! – с таинственным видом отговаривался он.
– Отчего же?
– Тантадруй, я сперва должен рассказать господину жупнику.
– Да, да! – понимающе соглашались крестьяне, а потом приветливо спрашивали: – А как Елчица? Она тебя еще любит!
– Тантадруй, еще любит! – укоризненно повторил дурачок. – Когда она тоже умрет, я на ней женюсь!
– Ты на ней женишься?
– Тантадруй, я на ней женюсь, и мы оба будем счастливы!
– Но ведь вы на небо пойдете?
– Тантадруй, на небо мы не пойдем, а счастливыми будем!
– Да, да! – Крестьяне ускоряли шаг.
– Тантадруй, а что ж вы о колокольцах не спрашиваете? – пускался вдогонку дурачок, и громкий звон оглашал ясное утро.
– А ведь верно! – Люди приостанавливались. – Сколько ты их уже собрал?
– Тантадруй, Елчица пересчитала и говорит, что всего трех не хватает, – весело отвечал он.
– А почему трех?
– Тантадруй, Елчица сказала, каждому мученику будет по одному, если я наберу сорок.
– Вот оно что! Так ты их отдашь мученикам?
– Тантадруй, мученикам. Елчица говорит, что они все равны и будет очень красиво, когда они встанут в ряд и разом зазвонят.
– О, в самом деле красиво будет! – соглашались крестьяне и вновь торопились вперед.
– Тантадруй, а те три, что еще не хватает, я на ярмарке прикуплю! – спешил за людьми дурачок. – Ведь их продают?
– Продадут, если у тебя деньги найдутся.
– Найдутся, тантадруй! – И снова все кругом радостно звенело.
– На, возьми еще монетку, получше сторгуешь, – отвечали крестьяне и совали мелочь.
– Я сторгую, тантадруй, обязательно сторгую. А потом поскорей к жупнику!
– Ясное дело, потом к жупнику!
– Тантадруй, а потом я умру! Я так хочу умереть!
– Ты умрешь! Умрешь! – соглашались люди и теперь уже решительно ускоряли шаг, утирая слезы, которые от стужи выступали у них на глазах.
Тантадруй не поспевал за ними, ведь был он маленький, на очень коротких ножках. Он отставал, но не печалился, так как верил, что теперь в самом деле умрет. Весело ковылял он по дороге, весело звенели колокольчики, и весело неслась навстречу холодной багряной заре его звонкая песенка:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
II
В конце концов Тантадруй пришел на ярмарку. Там было почти так же хорошо, как на небе, но в то же время и чуть похуже, потому что дул ветер и было слишком холодно, хотя и светило золотое зимнее солнце.
Под сводом дверей старого трактира Подкоритара стоял стражмейстер Доминик Тестен в парадном мундире. На боку у него висела большая сабля, украшенная шелковым темляком, на голове сверкала каска с длинным и острым навершием, словно из темени его вырастал серебряный рог. Стражмейстер был серьезен и могуч, как сам господь бог-отец, и столь же свысока и неподвижно взирал он на площадь.
Тантадруй свернул было к нему – очень ему хотелось рассказать, как он нашел настоящую смерть, – но Доминик Тестен так спесиво выпятил грудь и так угрожающе шевельнул густыми усами, что дурачок испугался. Дело в том, что стражмейстер был еще совершенно трезв и таковым обязан был оставаться до самой праздничной мессы, поэтому сейчас ему и в голову не приходило выслушивать разные глупости, и менее всего такие, которые касались смерти.
Разочарованно вздохнув, Тантадруй пошел на площадь. Там в четыре ряда стояли лавки, а в них было богатств и чудес на все вкусы и все желания. Вертелась карусель, завывали шарманки, пиликали гармошки, у детей пищали свистульки и гудели дудки. А сколько народу понаехало на ярмарку! Голова к голове, как на изображении Судного дня, которое Тантадруй частенько разглядывал у крестьянина Хотейца, слывшего защитником всех юродивых и нищих, обиженных богом душ. Правда, на той картине люди стояли неподвижно и молча, здесь же все они кружились, вертелись, спешили, толкались и пихались, говорили, кричали, смеялись, здоровались, похлопывали друг друга по плечу, пожимали руки, потому что каждому попадался знакомый, которого они давненько не встречали.
Тантадруй тоже увидел своих знакомых, ведь на ярмарке собрались все: хорошие и плохие, правые и виноватые, умные и глупые.
Сперва он налетел на Луку Божорно-Босерна. Это был пятидесятилетний богатырь, строитель, мастер на все руки; однажды он свалился с высоких строительных лесов, здорово разбился и повредил голову так, что уже и не мог обрести здравый рассудок. У него отсутствовала правая рука, а вместо левой ноги, которую ему отхватили по самое бедро, была деревяшка, подкованная настоящей лошадиной подковой. Он бродил по селам и с апостольским жаром убеждал, что «теперь нельзя строить кверху, но лишь книзу, немного по земле, а потом прямо в землю». Увидев где-нибудь строительство, он начинал кричать на рабочих и трясти леса. Голос его гремел словно из бочки, сила у него оставалась прежняя, поэтому у строителей очень скоро начинали дрожать коленки. Они спускались вниз и дружелюбно толковали с Лукой о постройках книзу, немного по земле, а потом прямо в землю. После того как они во всем с ним соглашались, он весело прощался.
– Так и надо, божорно-босерна! – гудел он, отдавая по-солдатски честь, и следовал дальше.
Лука много лет строил в Горице и Триесте, и в памяти у него удержалось несколько итальянских слов. Например, он здоровался только по-итальянски, но произносил не «Buon giorno» и «Buona sera»[3]3
Добрый день, добрый вечер (итал.).
[Закрыть], а коротко и отрывисто выпаливал: «Божорно-босерна», причем оба слова вместе, будь то утро, полдень или вечер. Судя по всему, он уже не понимал, что означают эти слова, и употреблял их даже в тех случаях, когда ему требовалось просто подкрепить свои суждения.
Тантадруя он встретил возле лавки Войскара, где было на что поглазеть и можно было прицениться к разным изделиям из кованого железа. Лука перебирал мастерки и молотки, громогласно и пылко рассуждая о своем способе строительства. Войскар с не меньшим пылом соглашался, надеясь тем самым поскорее от него отделаться. Сияя от счастья, Тантадруй сообщил:
– Тантадруй, теперь она уже здесь, и эта будет самая настоящая!
– Божорно-босерна! – загудел Лука, по-солдатски приветствуя его, а поскольку мысли его были еще целиком заняты прежним разговором, добавил: – Если кверху пойдет, то ненастоящая будет!
– Тантадруй, кверху и не пойдет. Пойдет к… Нет! – испуганно подпрыгнул дурачок и приложил палец к губам. – Я должен сперва жупнику рассказать!
– Расскажи, расскажи! Но если пойдет кверху, то ненастоящая будет, и божорно-босерна! – поставил точку Лука.
– Тантадруй, кверху не пойдет! – кивнул дурачок и отвернулся.
– Ты куда сейчас? – прогудел Лука.
– Тантадруй, три колокольчика покупать.
– Три колокольчика? – удивился Лука. – Ты с ума сошел!
– Тантадруй, я с ума не сошел, я дитя божье! – обиделся дурачок. – Так Хотеец сказал.
– Хотеец? – протянул Лука и, подумав, добавил – Если Хотеец сказал, то божорно-босерна! Пошли за колокольцами!
– Пошли, тантадруй! – обрадовался дурачок.
Лука, который уже успел осмотреть ярмарку и поэтому знал, где продают колокольчики, положил на плечо Тантадрую свою единственную руку и принялся проталкивать его сквозь толпу; он подталкивал его так, что все кругом звенело, и при этом гудел:
– Берегись! Берегись! Мы за колокольцами идем!
Не успели они добраться до Локовчена, торговавшего колокольчиками для коров, как навстречу им попался Русепатацис – старый, длинный и очень тощий фурланец. Без малого тридцать лет прослужил он в батраках у скупого хозяина, кормившего своих слуг только репой да картошкой. Еще в ту пору, когда его о чем-либо спрашивали, он лишь пожимал плечами и хмуро бормотал: «Тьфу! Raus е patacis!» И, зная, что люди не понимают фурланского диалекта, добавлял по-словенски: «Репа и картошка!» Особо быстрым умом он никогда не отличался, но почему он лишился разума, никто не знал. В один прекрасный вечер он ни с того ни с сего взбесился. Сбросил со стола огромный глиняный горшок с репой и картофелем и принялся скакать по комнате, точно сражаясь с драконом. Его скрутили, окатили холодной водой и заперли в клеть. На другое утро хозяин велел ему собрать котомку и уйти. Русепатацис ушел в хлев, где он спал, но котомку увязывать не стал, а, взяв топор, принялся убивать коров и лошадей. Услыхав ржание и мычание, люди бросились в хлев, но почти все животные уже были мертвы. Завопив, словно топор вот-вот должен был опуститься на его голову, хозяин рухнул на колени и, ломая руки, умолял своего слугу смилостивиться. Русепатацис презрительно усмехнулся и бросил топор. Тогда его схватили и до полусмерти избили, а потом передали жандармам, и те увели его с собой. Однако жандармам, как позже и судьям, Русепатацис на все вопросы отвечал презрительным фырканьем: «Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка!» Решив, что имеют дело с помешанным, его недолго продержали в кутузке, а когда доктора удостоверили, что опасности он не представляет, отправили по месту рождения. Однако Русепатацис не смог жить в равнинной Фурлании. Он убежал обратно в Толминский край. Это был спокойный, ничуть не страшный человек. Но стоило случайно поставить перед ним репу и картофель, как он приходил в ярость. Говорил он очень мало. Обычно махал рукой да презрительно фыркал:
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка!
Тантадруй ему тоже обрадовался. Подбежал и поскорее сообщил, что он нашел настоящую смерть.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка!
– Нет, тантадруй, не репа и картошка! – обиженно возразил дурачок. – Это будет… Нет! – Он затряс головой и опять приложил палец к губам, чтоб удержать свою тайну. – Я жупнику сперва должен рассказать!
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка!
– Ты с ума сошел! – вспыхнул Лука, до сих пор лишь хмуро на него посматривавший.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка!
– Тихо! – загудел Лука. – Мы с ним идем за колокольцами, и божорно-босерна!
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка! – еще презрительнее фыркнул фурланец, но тем не менее пошел за своими друзьями.
У прилавка, где Локовчен продавал коровьи колокольчики, им попался Хотейчев Матиц, по прозвищу Ровная Дубинка. Это тоже был парень хоть куда, но он больше, чем остальные, напоминал ребенка. Он ни на что не годился, и поэтому юность его была воистину печальная. Его тоже спас старый Хотеец. Однажды Матиц пришел к нему, рассеянно огляделся вокруг, потом уселся на ограде и принялся бить камнем о камень. Хотеец его пожалел. Разыскав нож и несколько осколков стекла, он вырезал метровую палку толщиной с руку, подсел к Матицу и сперва очистил ножом палку, а потом стал шлифовать ее.
– Видишь, Матиц, – ласково обратился он к несчастному, – я дам тебе нож и стекло, а ты выстругай точно такую же палку, да чтоб она была гладкая, ровная вдоль и поперек, здесь и вот здесь, и вообще всюду одинаковая.
– И вообще всюду одинаковая, – изумленно пробормотал Матиц, имевший привычку повторять последние слова услышанной фразы. Не теряя времени, он принялся за дело. Так он обрел цель в жизни. С тех пор прошло уже двадцать лет, но пока ему не удалось сделать такой палки, которая на обоих концах, здесь и вот здесь, всюду была бы одинаковая. Стоило ему обстрогать и отшлифовать палку на одном конце, как она становилась толще на другом, едва он выравнивал ее там, как выяснялось, что она толще в середине, а когда он справлялся с серединой, оказывалось, что она снова стала толще на нижнем конце. Так он строгал и чистил, пока не доходил до сердцевины. Палка, которая теперь становилась прутом, переламывалась у него в руках. Но ему и горя было мало! Он бросал ее, вырезал другую, ведь дерева было сколько душе угодно, и принимался опять строгать с терпением и усердием гения, приносящего в жертву долгие годы жизни, чтобы осуществить свой великий замысел, так что в стороны отлетали стружки да обломки палок.
– Божорно-босерна! – загремел Лука и отдал ему честь.
– Жорнобосерна! – пробормотал Ровная Дубинка, устремив на него огромные мутные глаза.
– Тантадруй, – приветствовал его веселый голосок, – теперь она у меня, и эта будет настоящая!
– И эта будет настоящая! – повторил Матиц, выпучив глаза, вытащил из-под мышки обстроганную палку, осмотрел ее и недоверчиво покачал головой; дескать, нет, не настоящая, потому что не на обоих концах, здесь и вот здесь, и поперек и вообще всюду ровная и одинаковая.
– Тантадруй, теперь я умру! – радостно сообщил дурачок.
– Теперь я умру? – удивленно повторил Ровная Дубинка.
– Тантадруй, я умру! – повысил голос дурачок.
– Я умру! – испуганно воскликнул Ровная Дубинка.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка! – презрительно фыркнул фурланец.
– И картошка, – в испуге повторил Ровная Дубинка, поворачиваясь к нему.
– Тихо, и божорно-босерна! – загудел Лука.
– Жорнобосерна, – встрепенулся Ровная Дубинка, глядя теперь на Луку.
– Тантадруй, я жупнику расскажу! – вмешался дурачок, занятый своими мыслями.
– Я жупнику расскажу, – удивленно повторил Ровная Дубинка.
– Тантадруй, я расскажу! – рассердился дурачок.
– Я расскажу, – настаивал Ровная Дубинка.
– Тантадруй, ты не расскажешь! – сердито крикнул Тантадруй и задрожал так, что зазвенели все его колокольчики.
Парни, окружившие несчастных, засмеялись.
– Не расскажешь, – испуганно согласился Ровная Дубинка, не сводя глаз с Тантадруя.
– Расскажу, тантадруй! – закричал дурачок и посмотрел на Луку, которого считал своим покровителем.
– Ты с ума сошел! – загремел Лука на Ровную Дубинку.
– Ты с ума сошел, – послушно повторил Матиц, задрожав всем телом от громкого голоса Луки.
– Ты с ума сошел, и божорно-босерна! – яростно заревел Лука.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка! – в свою очередь фыркнул фурланец.
– И картошка! – перепуганно вторил ему Ровная Дубинка.
Люди кругом опять захохотали. Но они не успели всласть посмеяться. Мгновенно, будто повинуясь чьему-то приказу, они смолкли и стали расходиться, ибо словно из-под земли перед ними вырос Хотеец.
– Стыдитесь! – Глаза старика под косматыми седыми бровями сверкнули. – Оставьте несчастных в покое. Такое с каждым из нас может случиться!
– Божорно-босерна! – Лука воинским салютом и трубным кличем приветствовал Хотейца.
– Тантадруй, теперь она у меня, и эта будет настоящая! – поспешно сообщил Тантадруй.
– Ладно, ладно, ты жупнику расскажи. – Старик отечески похлопал его по плечу.
– Тантадруй, мне только трех колокольцев не хватает, – похвастался дурачок.
– А теперь мы их купим! – решительно загудел Лука.
– Ладно, ладно, дети мои! – кивнул Хотеец и, повернувшись к Локовчену, торговавшему коровьими боталами, сказал, как может говорить только уверенный в себе хозяин: – Дай ему три штуки, Локовчен.
– Боже, царю небесный! – заломил руки Локовчен. – Он же их еле носит!
– Он не чувствует тяжести! – серьезно возразил Хотеец.
– Вы думаете, не чувствует? – с сомнением поднял на него глаза Локовчен, будто подозревая, что у того самого не все дома.
– Думаю! – стоял на своем старик, точно это было самое простое и очевидное для всех дело на белом свете.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка! – раздался презрительный голос фурланца.
Люди опять рассмеялись. Хотеец вздрогнул, сердито посмотрел на Русепатациса, словно позабыв, что перед ним больной человек. Потом поглядел на людей, которые, стихнув, ожидали, что последует дальше. Видно, он собирался ответить покрепче, но справился с собой. Снова повернувшись к несчастным, он ласково сказал:
– Не смейте бродить, когда стемнеет! Все приходите ко мне спать! Поняли?
– Поняли! Спать, и божорно-босерна! – загремел Лука, салютуя.
– Тантадруй, если она будет настоящая, я сперва умру! – упирался дурачок.
– Ладно, ладно! – уступил Хотеец. – Тогда ты позже придешь спать.
– Тьфу! Raus е patacis, репа и картошка! – фыркнул фурланец.
Хотеец невольно повернулся так резко, что Матиц Ровная Дубинка испуганно отскочил в сторону и почти в лицо ему крикнул:
– И картошка…
И снова смеялись люди. Однако на сей раз их смех внезапно перекрыл звонкий, необыкновенно красивый голос:
– Эй, глупцы, чего вы ржете? Ведь сами вы с ума сойдете!
И прежде чем они успели оглянуться и осмотреться, всем стало ясно, что это красавец Найденыш Перегрин. Люди расступились, и он предстал перед ними во всей своей красоте. У него были черные, как вороново крыло, волосы, большие синие глаза, белая кожа и почти девичьи черты лица, почему он и считался образцом красоты. Если кого-нибудь находили по-настоящему красивым, говорили, что он почти так же прекрасен, как Найденыш Перегрин, а это была высокая оценка. Толковали, будто он был сыном красавца цыгана и местной красотки, которая тайком носила и родила его, а потом оставила в придорожной канаве. Окрестили его Перегрином, потому что обнаружили в день этого святого, и назвали Найденышем, что соответствовало истине. Хотеец взял его к себе, не имея своих детей, но сумел сделать из него только пастуха, потому что чем старше становился Перегрин, тем сильнее говорила в нем беспокойная кровь. В раннем детстве он много плакал, хотя для этого не было никаких особых причин, а когда превратился в парня, затаил слезы в душе, украсил лицо улыбкой и отправился странствовать по белу свету. Хотеец не мог понять этого и потому не мог простить. Красавцу не было равного во всей округе. Он играл на гармонии, на скрипке, на кларнете, цитре и трубе, вообще владел любым музыкальным инструментом, который попадал ему в руки, пел, причем так хорошо, что у женщин мурашки пробегали по коже. Был он бродягой и большим шутником. Шутки его не были злыми, однако иногда они доставляли людям немало хлопот. Одной из самых излюбленных его забав был обмен. Шел он, например, в полночь по селу и из чистого озорства в первом же попавшемся доме мимоходом снимал с окна горшок с гвоздикой, уносил на другой конец села, там ставил кому-нибудь на подоконник, брал здесь в свою очередь горшок с геранью, уносил в третий дом, обменивал герань на иной цветок, который отправлял еще дальше. Так неслышно бродил он всю ночь и столь основательно перепутывал цветы, что потом девушки и бабы целую неделю ходили с горшками по селу, хохотали, ворчали и бранились. И все знали, что это проделки Найденыша Перегрина. Иногда но ночам он обменивал у крестьян скот, телеги, инструмент, копны сены на лугах и даже перетаскивал снопы пшеницы и гречихи с одного козольца на другой. Когда крестьяне потом попрекали его за такие забавы, он лишь посмеивался и отвечал, что, мол, ничего худого не вышло, ведь все осталось в деревне. Вообще же сердце у него было доброе. И хотя он ни у кого не тронул волоска на голове, его побаивались: опасались его зорких глаз и острого языка; жил он точно полевой цветок или птица небесная, поэтому мог всякому сказать в глаза, что о нем думает. Говорил он так складно, точно каждого одаривал талером, предпочитая использовать рифмы, которыми сыпал как из рукава.
И вот встал он посреди обиженных людей, сдвинул с прекрасного лба на затылок зеленую шляпу, насмешливо оглядел всех, указал пальцем на четырех несчастных и громко сказал:
– Благо им, настолько разумным, что все для вас умное – для них безумно!
Люди молча расходились. Исчез и Хотеец, избегавший встреч со своим приемным сыном. А Тантадруй подскочил к юноше и умильно попросил:
– Тантадруй, спой. Перегрин, спой!
Перегрин положил ему на плечо руку и приветливо спросил:
– Ну, теперь у тебя настоящая?
– Настоящая, тантадруй! – радостно подтвердил дурачок.
– И ты умрешь?
– Тантадруй, умру!
– Если так, я спою! – ласково улыбнулся Перегрин. Он снял с плеча гитару, провел пальцами по струнам и запел:
На-а небе стоит солнце,
а на земле – мороз.
Собрал я колокольцы,
и все они для вас.
Та-а-та-ан, та-а-та-ан,
та-а-ан-та-друй.
Ой-ю-юй, ой-ю-юй,
ой-ю-юй, ой-ю-юй…
Тантадруй сиял от счастья, да и остальным было хорошо, потому что пел Найденыш в самом деле прекрасно, даже Русепатацис растрогался и ни разу не фыркнул. Словно бы всех озарил необычный, ясный и согревающий, свет. Перегрин смолк, и Тантадруй попросил его спеть еще.
– Пока оставим, в другой раз добавим! – шутливо улыбнулся парень и исчез в толпе.
Тантадруй кинулся было следом, но тут же вернулся, так как продавец колокольчиков Локовчен принялся вовсю названивать, привлекая покупателей.
– Давай, народ, налетай! – кричал он. – А вот колокольцы! Лучшие звоночки! Прекрасные голосочки!
Тантадруй приступил к делу. Возился он долго, но в тот самый миг, когда он наконец выбрал, Русепатацис выхватил колокольчики у него из рук, бросил в кучу к остальным и презрительно заявил, что это репа и картошка. Лука взял колокольцы, сунул их Тантадрую и повелительно загремел:
– Возьми вот эти, и божорно-босерна!
Локовчен сразу смекнул, что чем меньше он будет вмешиваться, тем скорее освободится от нежеланных покупателей. Так и случилось. Лука привязал три колокольчика ремешками к веревке, на которой уже болталось тридцать семь штук. Увидев, что дело сделано, дурачок радостно подскочил на месте.
– Тантадруй, теперь я пошел к жупнику!
– Божорно-босерна! – отдал ему честь Лука и закричал вдогонку – Если кверху, то не будет настоящая. Книзу, немного по земле, а потом прямо в землю. Запомни это, и божорно-босерна!
– Тьфу! – презрительно фыркнул фурланец. – Raus е patacis, репа и картошка!
– И картошка! – дружелюбно пробормотал Матиц Ровная Дубинка; ему показалось, будто непременно надобно что-то сказать, и потому он повторил последние услышанные слова.








