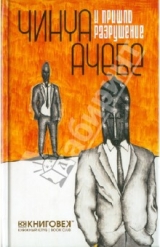
Текст книги "И пришло разрушение…"
Автор книги: Чинуа Ачебе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Глава восьмая
Два дня после смерти Икемефуны Оконкво не притрагивался к пище. С утра до вечера он пил пальмовое вино, и глаза его покраснели и стали свирепыми, как у затравленной крысы. Он позвал своего сына Нвойе посидеть с ним в его оби.Но мальчик боялся отца и, как только заметил, что он задремал, выскользнул из хижины.
Ночью Оконкво не мог заснуть. Он старался не думать об Икемефуне, но чем больше он гнал от себя тяжелые мысли, тем больше они его осаждали. Один раз он даже встал с постели и прошелся по двору. Однако он был так слаб, что едва держался на ногах. Он шел будто пьяный великан на комариных ножках. Холодная дрожь пронизывала его с головы до ног.
На третий день Оконкво попросил свою вторую жену, Эквефи, поджарить ему бананов. Она приготовила их так, как он любил, – с кусочками бобов и рыбы.
– Ты не ел целых два дня, – сказала его дочь Эзинма, принеся ему еду. – Поэтому ты должен все доесть.
Она уселась, вытянув ноги. Оконкво рассеянно ел. «Ей надо было родиться мальчишкой», – подумал он, глядя на свою десятилетнюю дочь. Он дал ей кусок рыбы.
– Пойди принеси мне холодной воды, – сказал он.
Эзинма, продолжая жевать рыбу, побежала в хижину матери и вскоре вернулась с чашей воды.
Оконкво взял чашу из ее рук и жадно выпил. Потом съел еще несколько кусочков и отодвинул миску.
– Дай-ка сюда мой мешок, – сказал он Эзинме. Она принесла ему мешок из козьей шкуры, лежавший в дальнем конце хижины. Он стал шарить в нем, ища табакерку. Мешок был большой, и рука почти вся ушла в него. В мешке, помимо табакерки, были и другие вещи. Там лежал рог для вина и калебас, и, когда он шарил рукою, они стукались друг о друга. Наконец он достал табакерку и, прежде чем насыпать на левую ладонь немного табаку, постучал ею несколько раз по колену. Потом он вспомнил, что не достал ложечку для табака. Он опять пошарил в мешке, вытащил плоскую ложечку из слоновой кости и на ней поднес к носу коричневый табак.
Эзинма взяла в одну руку миску, в другую – пустую чашу и пошла обратно в хижину матери. «Ей надо было родиться мальчишкой», – опять подумал Оконкво. Его мысли вернулись к Икемефуне, и он вздрогнул. Если б только у него была работа, он бы смог забыть. А это был как раз период затишья между сбором урожая и предстоящими посадочными работами. Единственно, что мог сейчас делать мужчина, это укреплять пальмовыми ветками забор своей усадьбы. Но Оконкво уже сделал это. Он закончил работу в тот самый день, когда прилетела саранча, – он работал по одну сторону стены, а Икемефуна и Нвойе – по другую.
«Когда ты успел превратиться в дрожащую старуху, – спрашивал себя Оконкво, – ты, который славился своей военной доблестью во всех девяти деревнях? Неужели мужчина, убивший в бою пять человек, может так раскиснуть из-за того, что к их числу прибавился еще один мальчишка? Ты, Оконкво, и впрямь превратился в женщину».
Он вскочил на ноги, повесил через плечо мешок из козьей шкуры и отправился к своему другу Обиерике.
Обиерика сидел перед своей хижиной в тени апельсинового дерева и из листьев пальмы рафия мастерил новую крышу для хижины. Он поздоровался с Оконкво и проводил его к себе в оби.
– Я собирался зайти к тебе, хотел только закончить эту часть крыши, – сказал он, отряхивая песок.
– Как она у тебя получилась? Хорошо? – спросил Оконкво.
– Хорошо, – ответил Обиерика. – Сегодня к нам придет жених моей дочери, и я надеюсь, что мы договоримся о выкупе. Мне хочется, чтобы ты был при этом.
В эту минуту в обисо стороны улицы вошел Мадука, сын Обиерике, и, поздоровавшись с Оконкво, направился во двор.
– Подойди-ка сюда, я хочу пожать тебе руку, – сказал Оконкво мальчику. – Мне очень поправилось, как ты в тот раз боролся.
Мадука улыбнулся, пожал руку Оконкво и вышел во двор.
– Он многого достигнет, – сказал Оконкво. – Я был бы счастлив иметь такого сына. А вот Нвойе меня беспокоит. Его кто угодно на обе лопатки положит! Два младших брата подают больше надежд. Но скажу тебе откровенно, Обиерика, мои дети на меня не похожи. Где те молодые побеги, которые вырастут, когда старое банановое дерево погибнет? Если б Эзинма родилась мальчишкой, я был бы счастливее. У нее есть характер.
– Ты понапрасну тревожишься, – сказал Обиерика. – Они еще слишком молоды.
– Нвойе уже мог бы стать отцом. В его годы я сам о себе заботился. Нет, дружище, он уже достаточно взрослый. Крепкого петуха видно сразу, как только он вылупится из яйца. Я сделал все, что мог, чтобы Нвойе вырос настоящим мужчиной, но у него в характере слишком много от его матери.
«Слишком много от его деда», – подумал Обиерика, но не сказал вслух. Та же мысль пришла и Оконкво. Но он давно научился отгонять от себя этот призрак. Едва только его начинала тревожить мысль о слабости и неудачах отца, он старался избавиться от нее, думая о своей собственной силе и успехах. Так он поступил и на этот раз. Мысли его обратились к недавним событиям, когда он выказал подлинное мужество.
– Не могу понять, почему ты не пошел с нами, когда надо было убить этого мальчишку? – спросил он Обиерику.
– Потому что не хотел, – резко ответил Обиерика. – Я предпочел заняться чем-нибудь более приятным.
– Можно подумать, что ты оспариваешь власть Оракула, ведь это он потребовал, чтобы мальчишку предали смерти.
– Нет, я ничего не оспариваю. Откуда ты взял? Но ведь Оракул не требовал от меня быть исполнителем его воли.
– Кто-нибудь ведь должен был это сделать. Если бы мы все боялись крови, решение Оракула не было бы исполнено. И как ты думаешь, что тогда сделал бы Оракул?
– Ты прекрасно знаешь, Оконкво, что я не боюсь крови. И если кто-нибудь обвинит меня в этом, знай, что он лжец! Но вот что я тебе скажу, друг. На твоем месте я бы тогда остался дома. То, что вы сделали, не понравится богине земли. Как раз за такие поступки богиня истребляет целые семьи.
– Богиня земли не может наказать меня за повиновение ее посланцу, – ответил Оконкво. – Мать не затем кладет кусок горячего ямса в руку ребенка, чтобы обжечь ему пальцы.
– Верно, – согласился Обиерика. – Однако, если бы моего сына повелел убить Оракул, я бы не противился, но и не участвовал бы в убийстве.
Они готовы были продолжать спор, но тут вошел Офоэду. По его глазам было видно, что он принес важные новости. Однако вежливость требовала не торопить его с рассказом. Обиерика предложил ему кусочек ореха кола, который ели они с Оконкво. Офоэду не спеша жевал орех и говорил о саранче. Окончив есть, он сказал:
– Странные дела творятся.
– Что случилось? – спросил Оконкво.
– Вы знаете Огбуефи Ндулуе? – спросил Офоэду.
– Огбуефи Ндулуе из деревни Ире? – в один голос спросили Оконкво и Обиерика.
– Так вот, он умер сегодня утром, – сказал Офоэду.
– Что ж тут странного. Ведь он был старше всех в Ире, – заметил Обиерика.
– Это верно, – согласился Офоэду. – Но вот почему не бил барабан, чтобы возвестить Умуофии о его смерти?
– Почему? – опять в один голос спросили Обиерика и Оконкво.
– В этом-то все и дело. Вы знаете его первую жену, которая ходит с палкой?
– Да, ее зовут Озоэмена.
– Так, так, – сказал Офоэду. – Озоэмена, как вы знаете, не могла, по старости, ухаживать за Ндулуе во время его болезни. Это делали его младшие жены. Так сегодня утром, когда Ндулуе умер, одна из них пошла в хижину Озоэмены и сказала ей об этом. Озоэмена поднялась с циновки, взяла свою палку и пошла в и.У порога она опустилась на колени и, низко поклонившись, позвала своего мужа, который лежал на циновке. «Огбуефи Ндулуе!» – позвала она трижды и затем вернулась к себе в хижину. Когда младшая жена снова пошла за ней, чтобы позвать ее на обмывание тела, то застала Озоэмену мертвой.
– Да, это действительно странно, – сказал Оконкво. – Значит, похороны Ндулуе отложат, пока не похоронят его жену.
– Вот почему и не бил барабан, чтобы оповестить Умуофию.
– Всегда говорили, что Ндулуе и Озоэмена – одна душа, – сказал Обиерика. – Помню, когда я был еще мальчишкой, о них даже сложили песню. Он ничего не делал, не посоветовавшись с нею.
– Я не знал этого, – сказал Оконкво. – Я думал, что в молодости он был сильным человеком.
– Он и был сильным, – подтвердил Офоэду. Оконкво с сомнением покачал головой.
– На войне он вел за собой Умуофию, – сказал Обиерика.
Оконкво постепенно приходил в себя. Ему только нужно было чем-нибудь занять свои мысли. Если бы он убил Икемефуну в напряженный период полевых работ, ему не было бы так тяжело, – он бы весь сосредоточился на работе. Оконкво был человеком не мысли, а действия. Однако, если не за работой, то хотя бы за разговором можно было отвлечься.
Вскоре после ухода Офоэду Оконкво поднял свой мешок и собрался домой.
– Я должен идти, – сказал он. – Мне надо еще успеть надрезать пальмы.
– Кто надрезает для тебя высокие пальмы? – спросил Обиерика.
– Умезулике, – ответил Оконкво.
– Иногда я думаю, что лучше бы мне не иметь титула озо, – сказал Обиерика. – У меня сердце разрывается, когда я вижу, как эти юноши губят деревья своими надрезами.
– Верно, – согласился Оконкво, – но закону страны надо подчиняться.
– И откуда только у нас такой закон! – сказал Обиерика. – Во многих других кланах человеку, имеющему титул, можно самому залезать на пальму. А у нас залезть на высокое дерево нельзя, зато надрезать прямо с земли низкое дерево можно сколько угодно. Совсем как Димарагана, который отказался дать свой нож, чтобы резать мясо собаки – видите ли, собака для него табу, – и согласился разорвать это мясо на куски зубами.
– А по-моему хорошо, что в нашем клане так уважают титул озо, – сказал Оконкво. – В кланах, о которых ты говорил, титул этот ценится так низко, что его может получить каждый нищий.
– Я просто пошутил, – сказал Обиерика. – В Абаме и Анинте титул стоит меньше двух каури. Там каждый мужчина носит на лодыжке нитку как символ этого титула и не лишается его, даже если он вор.
– Да что и говорить, имя озоони запятнали, – сказал Оконкво и поднялся, чтобы идти.
– Теперь уж, наверно, скоро придут мои родственники, – сказал Обиерика.
– Я скоро вернусь, – ответил Оконкво и взглянул на небо, по солнцу определяя время.
Когда Оконкво вернулся, он застал в хижине Обиерики семерых. Тут был жених, молодой человек лет двадцати пяти, и с ним его отец и дядя. Со стороны Обиерики присутствовали два его старших брата и шестнадцатилетний сын Мадука.
– Передай матери Алуеке, чтобы она прислала нам орехов кола, – сказал Обиерика сыну. Мадука молнией выскочил из хижины. Разговор сразу перешел на него, и все согласились, что мальчишка он очень шустрый.
– Иногда мне кажется даже, что он не в меру шустер, – сказал Обиерика снисходительно. – Никогда спокойно не ходит, вечно куда-то торопится. Если его посылаешь с каким-нибудь поручением, он тут же улетает, даже не дослушав до конца.
– Ну, это он в тебя, – возразил его старший брат. – У нас говорят: «Когда корова жует траву, телята смотрят ей в рот». Мадука определенно тебе в рот смотрел.
Он еще не договорил, а Мадука уже вернулся в сопровождении своей сводной сестры Акуэке, которая несла деревянную миску с тремя орехами кола и крокодиловым перцем. Она передала миску старшему из братьев отца и смущенно поздоровалась за руку с женихом и его родственниками. Ей было около шестнадцати, и на вид она уже вполне созрела для замужества. Жених и его родственники опытным взглядом осматривали ее юное тело, словно желая в этом убедиться.
Волосы девушка связала хохолком на макушке. Кожу слегка натерла соком красного дерева и разрисовала все тело черной краской. На шее у нее надето было тройное черное ожерелье, спускавшееся на пышную, упругую грудь. Красные и желтые браслеты украшали ее руки, а талию опоясывало несколько рядов джигиды.
Пожав руки гостям, или, вернее, протянув свою руку, чтобы ее пожали, она ушла обратно в хижину своей матери помогать в стряпне.
– Сперва сними с пояса бусы, – сказала мать девушке, когда та потянулась к очагу, чтобы взять пестик, стоявший рядом. – Сколько раз я тебе говорила, что джигида с огнем плохие товарищи. Но ты никогда не слушаешь. Видно, уши у тебя только для украшения. Вот вспыхнут твои бусы, тогда будешь знать!
Акуэке отошла в другой конец хижины и стала снимать с пояса бусы. Это надо было делать медленно и осторожно, снимая отдельно каждую нитку, иначе они могли лопнуть, и тогда пришлось бы наново нанизывать тысячу крошечных колечек. Она стягивала книзу каждую нитку, скользя ладонями по бедрам, пока бусы не падали к ее ногам.
Между тем мужчины в обиуже приступили к пальмовому вину, которое принес жених Акуэке. Вино было очень хорошее и крепкое. Оно сильно бродило, и белая пена то и дело переливалась через край кувшина, несмотря на то, что на горлышко был положен плод пальмы, чтобы сдерживать игристую влагу.
– Это вино приготовлено большим искусником, – сказал Оконкво.
Молодой жених по имени Ибе широко улыбнулся и сказал своему отцу:
– Слышишь, что говорят? – А затем пояснил, обращаясь к остальным: – А вот он ни за что не хочет признать, что я свое дело знаю.
– Он так надрезал три моих лучших пальмы, что те засохли, – сказал его отец Укегбу.
– Но ведь это было пять лет тому назад, – возразил Ибе, начиная разливать вино. – Тогда я еще не умел надрезать деревья.
Он наполнил первый рог и подал своему отцу. Потом налил остальным. Оконкво открыл свой мешок из козьей шкуры, достал оттуда большой рог и, дунув внутрь, на случай, если туда попала пыль, подставил его Ибе.
За вином мужчины говорили о чем угодно, только не о том, ради чего они собрались. Лишь когда весь кувшин был опорожнен, отец жениха откашлялся и объявил о цели их прихода.
Тогда Обиерика вручил ему маленькую связку коротких палочек. Укегбу пересчитал их.
– Их тридцать штук? – спросил он.
Обиерика кивнул.
– Что ж, начнем с этого, – сказал Укегбу. А затем обратился к брату и сыну: – Давайте выйдем и тихонько все обсудим. – Все трое поднялись и вышли. Когда они вернулись, Укегбу отдал связку Обиерике. Тот пересчитал палочки. Вместо тридцати их было только пятнадцать. Он передал их старшему из своих братьев, Мачи, который тоже пересчитал их и сказал:
– Мы не думали спускать ниже тридцати. Но ведь собака сказала: «Если я уступлю тебе, а ты уступишь мне – это будет игра». Сватовство должно быть игрой, а не ссорой. Итак, мы набавим. – Он приложил к пятнадцати палочкам еще десять и передал связку Укегбу.
Мало-помалу выкуп за Акуэке был установлен в двадцать мешков каури. Уже смеркалось, когда обе стороны пришли наконец к согласию.
– Пойди скажи матери Акуэке, что мы кончили, – сказал Обиерика своему сыну Мадуке.
И сразу же в обивошли женщины, они несли большую миску фуфу. За ними следом вторая жена Обиерики внесла горшок с похлебкой, а Мадука принес кувшин с пальмовым вином.
Мужчины ели, пили пальмовое вино и рассуждали об обычаях, принятых в соседних деревнях.
– Не далее как сегодня утром, – сказал Обиерика, – мы с Оконкво толковали Об Абаме и Апинте – у них мужчины, носящие титул, сами лазят на деревья и готовят фуфу для своих жен.
– У них там все вверх ногами. О размере выкупа за невесту они договариваются не при помощи палочек, а спорят и торгуются, словно покупают на базаре козу или корову.
– Это очень плохо, – сказал старший из братьев Обиерики. – Но то, что хорошо в одном месте, то всегда плохо в другом. В Умунсо, например, вообще не торгуются, даже на палочках. Там жених таскает мешки с каури до тех пор, пока родные невесты его не остановят. Это плохой обычай, потому что дело у них всегда кончается ссорой.
– Мир велик, – сказал Оконкво. – Я слыхал даже, что в некоторых племенах дети принадлежат не отцу, а матери и ее семье.
– Этого не может быть, – сказал Мачи, – Ты еще скажешь, что женщина лежит на мужчине, когда они делают детей.
– Это все равно что сказки про белых людей, – будто бы они такие же белые, как этот мел, – сказал Обиерика, показывая на кусок мела, который каждый мужчина держал у себя в обии которым его гости провели на полу черточки, прежде чем приняться за орехи кола, – И еще говорят, что у этих белых людей на ногах нет пальцев.
– А ты что же никогда их не видел? – сказал Мачи.
– А ты разве видел? – спросил Обиерика.
– А то как же, один из них часто здесь проходит, – ответил Мачи, – его зовут Амади.
Те, кто знал Амади, покатились от хохота. Это был прокаженный, а прокаженных было принято тактично называть «белокожими».
Глава девятая
Впервые за три ночи Оконкво уснул. Среди ночи он вдруг проснулся, и мысли его вернулись к трем прошедшим дням, не вызывая, однако, в нем прежней тревоги. Теперь он даже удивлялся, что же, собственно, его беспокоило? Наверно, вот так же человек удивляется при ярком дневном свете, почему он так испугался привидевшегося ночью сна. Он потянулся и почесал бедро в том месте, куда во время сна его ужалил москит. Другой москит жужжал у правого уха. Он хлопнул по уху в надежде убить москита. И почему они всегда жалят именно в уши? Когда он был маленьким, мать рассказывала ему об этом сказку. Но сказка была такой же глупой, как все женские сказки. В ней говорилось, как Москит предложил Уху выйти за него замуж, а Ухо в ответ покатилось со смеху: «Сколько ж ты думаешь еще прожить? – спросило оно, – Ведь ты и так на скелет похож». Москит улетел обиженный и потом каждый раз, встречаясь с Ухом, говорил: «Ну, вот видишь, я еще жив».
Оконкво повернулся на бок и снова заснул. Утром его разбудил стук в дверь.
– Кто там? – недовольно спросил он. Он знал, что это могла быть только Эквефи. Из трех его жен лишь Эквефи осмелилась бы постучать к нему в дверь.
– Эзинма умирает, – послышался ее голос, и в этих словах была заключена вся трагедия, все несчастье ее жизни.
Оконкво вскочил с постели, отодвинул засов и ринулся в хижину Эквефи.
Эзинма, дрожа всем телом, лежала на циновке, а рядом ярко полыхал огонь, который ее мать поддерживала всю ночь.
– Это иба, – сказал Оконкво.
Не медля ни минуты он схватил мачете и отправился в лес, чтобы собрать листья, травы и кору деревьев, нужные для приготовления лекарства от иба.
Эквефи стояла на коленях возле больной девочки и то и дело щупала ее влажный пылающий лоб.
Эзинма была единственным ребенком Эквефи и самым дорогим для нее существом на свете. Очень часто именно Эзинма решала, что ее мать должна приготовить на обед. Эквефи давала ей даже такое лакомство, как яйца, которые дети обычно получали редко, – считалось, что яйца пробуждают склонность к воровству. Как-то раз, когда Эзинма ела яйцо, в хижину неожиданно вошел Оконкво. Он был очень возмущен и поклялся отколотить Эквефи, если она еще раз посмеет дать девочке яйцо. Однако отказать в чем-то Эзинме было просто невозможно. После отцовского запрета она еще больше пристрастилась к яйцам, ей особенно нравилось то, что она ест их тайком. Мать всегда уводила ее при этом в заднюю комнату и закрывала дверь.
Эзинма не называла свою мать «ннэ», как все дети. Она звала ее по имени – Эквефи, как это делал отец и другие взрослые. Отношения между Эквефи и Эзинмой были не просто отношениями между матерью и ребенком. Они скорее были похожи на дружбу людей, равных по возрасту, чему немало способствовали их маленькие тайны, вроде угощения в задней комнате.
Эквефи много перенесла в своей жизни. Она родила десятерых детей, и девять из них умерли в детстве, в большинстве случаев не достигнув и трех лет. Она хоронила одного ребенка за другим, и ее горе постепенно перешло в полное отчаяние и какую-то мрачную покорность судьбе. Рождение детей должно приносить женщине высшую славу, а ей оно доставляло только телесные муки, не суля никаких радостей в будущем. Торжественное наречение имени на восьмой базарной неделе превращалось каждый раз в пустой обряд. Все растущее в ней чувство безнадежности нашло выражение в именах, которые она давала своим детям. Одно из них звучало, как страстный вопль: Онвумбико – «Смерть, умоляю тебя». Но смерть не вняла мольбе. Онвумбико умер, не прожив и пятнадцати месяцев. Потом родилась девочка Озоэмена – «Да не случится этого снова». Она умерла на одиннадцатом месяце. За нею умерли еще двое. Тогда Эквефи решила бросить судьбе вызов и назвала следующего младенца Онвума – «Смерть, можешь взять». И смерть взяла.
Когда у Эквефи умер второй ребенок, Оконкво пошел к одному знахарю, который был также прорицателем при Оракуле Афа, и спросил его совета. Знахарь сказал ему, что ребенок Эквефи – огбание,одно из тех нечистых существ, которые после своей смерти опять вселяются в чрево матери, чтобы родиться снова.
– Когда твоя жена опять затяжелеет, пускай не спит в своей хижине, – сказал знахарь, – Пускай уйдет к родным. Только так она сможет избавиться от своего мучителя и нарушить этот зловещий круговорот рождения и смерти.
Эквефи сделала так, как ей велели. Как только она затяжелела, она отправилась к своей старухе матери, в другую деревню. Там-то и родился третий ребенок, и там же на восьмой день был совершен обряд обрезания. В усадьбу Оконкво она вернулась только за три дня до наречения имени. Ребенка назвали Онвумбико.
Когда Онвумбико умер, его похоронили без обычных обрядов. Оконкво побывал у другого знахаря, который славился великими познаниями о детях огбание.Его звали Окагбуе Уянва. Высокий, лысый бородатый, он поражал всем своим видом. У него была светлая кожа и горящие глаза, в которых мелькал красный огонек. Он всегда скрежетал зубами, слушая тех, кто приходил к нему за советом. Знахарь задал Оконкво несколько вопросов об умершем ребенке. Вокруг толпились соседи и родственники, пришедшие на похороны.
– В какой базарный день он родился? – спросил он.
– В день ойе, – отвечал Оконкво.
– А умер сегодня утром?
– Да, – ответил Оконкво. И тут только сообразил, что ребенок умер в тот же самый базарный день, в какой родился. Соседи и родственники тоже отметили это совпадение и говорили между собой о том, что все это, конечно, неспроста.
– Где ты спишь со своей женой, у себя в обиили в ее хижине? – спросил знахарь.
– В ее хижине.
Впредь зови ее к себе в оби.
Потом знахарь приказал не устраивать умершему ребенку обычных похорон. Он достал острую бритву, хранившуюся в мешке из козьей шкуры, и изуродовал мертвое тельце, а затем за ножку поволок его в Нечистый лес. После такого обращения огбаниедолжен был бы хорошенько подумать, стоит ли опять возвращаться, – если, конечно, это не был один из тех упрямцев, которые готовы явиться обратно даже со следами увечий: без пальца или же с темным шрамом на коже, оставленным бритвой знахаря.
К тому времени, как умер Онвумбико, Эквефи совсем ожесточилась. У первой жены ее мужа было уже трое сыновей, здоровых и сильных как на подбор. Когда она родила третьего сына, Оконкво, согласно обычаю, подарил ей козу. Эквефи отнюдь не питала к ней неприязни, но ей было так тяжело на душе из-за своего собственного чи,что она просто не могла радоваться чужим удачам. И потому в день, когда мать Нвойе праздновала с музыкой и угощением рождение своих трех сыновей и все гости веселились, одна только Эквефи была мрачна. Мать Нвойе восприняла это как признак недоброжелательства, столь обычного среди жен. Откуда ей было знать, что горечь, скопившаяся в сердце Эквефи, не изливалась на других, а терзала ее самое; что она гневалась не на чужое счастье, а на своего злого чи,который сделал ее несчастной.
Но вот наконец у нее родилась Эзинма, и хотя она была болезненна, ей, казалось, суждено было жить. Сначала Эквефи отнеслась к ее рождению, как обычно, – со спокойной безнадежностью. Но девочка дожила до четырех лет, до пяти, до шести… И к Эквефи вернулось чувство материнской любви, а вместе с ним и тревога. Она решила вырастить ребенка и посвятила этому всю себя. Наградой ей служили те немногие дни, когда Эзинма бывала здорова и резвилась, как молодое пальмовое вино. В такое время казалось, что ничто больше ей не грозит. Но вдруг совершенно неожиданно ей снова становилось хуже. Все знали, что она огбание.Им свойственны такие неожиданные переходы от болезни к здоровью.
Тем не менее она прожила уже так долго, что, по всей вероятности, решила остаться в этом мире навсегда. Случалось, что некоторые огбаниеуставали от зловещего кругооборота жизни и смерти или проникались жалостью к своим матерям и оставались жить. Эквефи в глубине души верила, что Эзинма родилась, чтобы жить. Она верила, потому что только эта вера придавала ее жизни какой-то смысл. Ее вера еще больше окрепла, когда около года тому назад знахарь выкопал Эзинмин ийи-ува.Теперь все поняли, что она будет жить, ведь ее связь с миром огбаниебыла окончательно порвана. Эквефи несколько успокоилась. Но она так сильно тревожилась за дочь, что полностью избавиться от своих страхов не могла. И хотя она верила, что выкопанный ийи-увабыл настоящий, она не могла позабыть и того, что некоторые действительно нечистые дети нарочно вводят людей в заблуждение, и те выкапывают поддельные ийи-ува.
Однако Эзинмин ийи-увавыглядел настоящим. Это был гладкий камушек, завернутый в грязную тряпку. И выкопал его не кто иной, как Окагбуе, славившийся своими познаниями в этой области. Сначала Эзинма ему не хотела помочь. Но этого и следовало ожидать. Никто из огбаниене станет так просто открывать свои тайны, большинство их никогда и не открывало, – они умирали слишком маленькими, прежде чем могли отвечать на вопросы.
– Где ты закопала свой ийи-ува? – спросил Окагбуе Эзинму. Ей было тогда девять лет, и она только что оправилась после тяжелой болезни.
– А что такое ийи-ува? – спросила она в ответ.
– Ты прекрасно знаешь. Ты закопала его где-то в землю, чтобы после смерти вернуться и снова мучить свою мать.
Эзинма посмотрела на мать, глаза которой с печалью и мольбой устремлены были на нее.
– Ну, отвечай же, – громовым голосом приказал Оконкво, стоявший рядом. Вся семья и многие соседи находились тут же.
– Оставь! Я сам с ней поговорю, – спокойно и властно сказал знахарь, обращаясь к Оконкво. Он опять повернулся к Эзинме.
– Где ты закопала свой ийи-ува?
– Там, где закапывают детей, – ответила девочка, и в толпе безмолвных зрителей послышался невнятный говор.
– Пойдем со мной, ты мне покажешь место, – приказал знахарь.
Эзинма пошла вперед, за ней по пятам следовал Окагбуе, затем шли Оконкво и Эквефи, а за ними уже все остальные. Дойдя до большой дороги, Эзинма повернула налево, в сторону реки.
– Но ведь ты сказала, что это там, где закапывают детей, – заметил знахарь.
– Нет, – сказала Эзинма, решительно шагая, словно в сознании всей важности происходящего. Она то пускалась бежать, то неожиданно останавливалась. Толпа в молчании следовала за ней. Женщины и дети, возвращавшиеся с реки с полными кувшинами на головах, недоумевали, что такое случилось, но при виде Окагбуе, сразу догадывались, что тут дело касается огбание.Кроме того, все они хорошо знали Эквефи и ее дочь.
Дойдя до большого дерева удала, Эзинма повернула налево, в лес; толпа последовала за нею. Маленькой Эзинме было легче пробираться между деревьями и лианами, чем ее спутникам. Лес наполнился шорохом опавшей листвы под ногами людей, треском ломающегося хвороста и шелестом раздвигаемых веток. Эзинма углублялась все дальше в лес, за ней шли все остальные. Вдруг она повернулась и пошла обратно, к дороге. Все остановились, чтобы ее пропустить, и потом гуськом двинулись за нею.
– Если ты попусту завела нас в такую даль, я тебе всыплю как следует, – пригрозил Оконкво.
– Говорю тебе, не трогай ее. Я знаю, как с ними обращаться, – сказал Окагбуе.
Эзинма возвратилась к дороге, посмотрела налево и направо и повернула направо. Вскоре они снова оказались дома.
– Где ты закопала свой ийи-ува? – спросил Окагбуе, когда Эзинма остановилась наконец у отцовского оби.Окагбуе не изменил голоса. Он говорил все так же спокойно и властно.
– Вон там, возле апельсинового дерева, – сказала Эзинма.
– Почему же ты, нечистая дочь Акалоголи, не сказала об этом сразу? – взревел Оконкво.
Знахарь не обращал на него внимания.
– Покажи мне точное место, – спокойно сказал он Эзинме.
– Вот здесь, – сказала она, когда они подошли к дереву.
– Покажи пальцем! – сказал Окагбуе.
– Вот здесь, – сказала она, ткнув пальцем в землю. Оконкво стоял рядом, и ворчание его напоминало раскаты грома в период дождей.
– Принесите мне мотыгу, – приказал Окагбуе.
Когда Эквефи принесла мотыгу, он уже снял с себя мешок из козьей шкуры и свои одежды, так что на нем осталась только повязка – длинная и узкая полоса ткани, обернутая вокруг пояса и пропущенная между ног. Он сразу принялся копать там, где указала Эзинма. Все сидели вокруг, наблюдая, как яма становится все глубже и глубже. Верхний темный слой земли вскоре сменился ярко-красной глиной, которой женщины мажут стены и пол своих хижин. Окагбуе копал молча, без передышки, спина его блестела от пота. Оконкво стоял у края ямы. Он предложил Окагбуе выйти из ямы и передохнуть немного, а тем временем он, Оконкво, покопает. Но Окагбуе ответил, что еще не устал.
Эквефи ушла к себе в хижину варить ямс. На этот раз муж выдал ей больше ямса, чем обычно, – надо было угостить знахаря. Эзинма пошла вместе с нею помочь чистить овощи.
– Слишком много зелени, – сказала она.
– Разве ты не видишь, что горшок полон ямса? – ответила Эквефи. – И потом ты ведь знаешь, что зелени всегда становится меньше после варки.
– Знаю, – сказала Эзинма, – из-за этого Змея-ящерица и убила свою мать.
– Вот именно, – сказала Эквефи.
– Она дала своей матери, – продолжала Эзинма, – семь корзин с овощами, чтобы та их сварила, а их после варки оказалось только три. Тогда она убила ее.
– Только сказка на этом не кончается.
– О, теперь я вспомнила! – воскликнула Эзинма. – Она принесла еще семь корзин и сама сварила щи. И опять их оказалось только три корзины. Тогда она убила себя.
А Окагбуе и Оконкво все копали и копали, отыскивая ийи-уваЭзинмы. Соседи в ожидании сидели вокруг. Яма стала теперь такой глубокой, что уже не видно было того, кто копал. Только куча красной глины становилась все выше и выше. Нвойе, сын Оконкво, стоял у самого края ямы, боясь что-нибудь упустить. Окагбуе опять взял мотыгу у Оконкво. Он работал, как всегда, молча. Соседи и жены Оконкво разговаривали между собой. Детям тоже наскучило ждать, и они затеяли игры.
Вдруг Окагбуе с ловкостью леопарда выскочил из ямы.
– Он уже близко! – сказал он. – Я его чувствую.
Все мгновенно пришли в волнение; те, кто сидел, повскакивали на ноги.
– Позови свою жену и дочь, – сказал знахарь Оконкво. Но Эквефи и Эзинма, услышав шум, сами выбежали из хижины посмотреть, что случилось.








