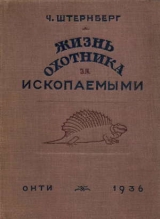
Текст книги "Жизнь охотника за ископаемыми"
Автор книги: Чарльз Штернберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Глава III
Экспедиция с профессором Копом в область верхнемеловых отложений в 1876 году
В первых числах августа 1876 года мы с м-ром Айзеком были уже в Омахе, поджидая профессора Копа из Филадельфии.
Мы встретили его на станции. Как сейчас помню, с каким изумлением он наблюдал за мной, когда я ковылял по улице на своей искалеченной ноге. Наконец, он повернулся к мистеру Айзеку, которого знал как хорошего наездника, и спросил:
– Может ли мистер Штернберг ездить верхом?
Айзек ответил:
– Я видел, как он на неоседланном пони гнал свою кобылу из табуна диких лошадей.
Профессор этим ответом удовлетворился. А когда мы поехали в Монтану, он дал мне самого норовистого коня во всем отряде.
Скоро мы мчались в поезде, по безлесным равнинам Небраски, поднимаясь все выше с каждым часом, пока не достигли высот Великого водораздела и не въехали в каньоны Вебера и Эхо, леса которых кажутся карликовыми по сравнению с величием поднимающихся над ними гор.
Впервые в жизни я был среди таких поразительных утесов и хребтов. У меня дух захватывало от удивления, когда они раскрывались перед моими глазами. Они быстро сделались привычным зрелищем, но никогда не оставляло меня чувство благоговения при взгляде на вершины, подобные башням, на мощные сверкающие снегом хребты Скалистых гор, на изумительные каньоны, прорезавшие огромные толщи горных пород.
Мы имели удовольствие пользоваться обществом миссис Коп до самого Окдена. Потом мы, мужчины, втроем поехали по узкоколейке Айдаго, в Франклин. Здесь ожидало нас самое неудобное путешествие, какое я когда-либо испытал: девятьсот километров в дилижансе через безводные и бесплодные равнины Айдаго. Шесть лошадей, запряженных в колымагу, поднимали облака мелкой пыли, которая проникала сквозь платье, засоряла глаза и уши, смешивалась с потом, проступавшим из всех пор, и скоро придала нам вид заболевших желтухой.
Я не могу не описать неудобств этого ужасного переезда. Мы ехали день и ночь, останавливаясь только чтобы поесть. Обед нам стоил доллар на человека и состоял из горячих пресных лепешек, черного кофе, сала и горчицы. Ни масла, ни молока, ни яиц достать было негде. Если измученные тем, что долго не спали, мы забывались на минутку, толчок на какой-нибудь выбоине стукал нас головами о стенки повозки или о голову соседа. Помню, профессор как-то совсем изнемог от недостатка сна. Я подложил ему под голову руки и держал их так, пока он не отдохнул хоть несколько часов. Я и сейчас благодарен попутчикам, которые уступали мне место рядом с кучером, где, прикрывшись кожаным фартуком, я высыпался вволю.
Когда мы добрались до гор, красота раскрывшейся картины и отсутствие пыли сделали путешествие более приятным. Но зато пришлось проделать очень крутой подъем пешком.
Форт Бентон оказался типичным пограничным городком тех дней: улицы, вымощенные игральными картами, и продажа виски в открытых ларьках и кабачках. О нашем приезде сообщили, когда мы были еще в Элена, и профессор с большим трудом достал снаряжение. Продавцы знали, что он приезжий, и пытались «стричь» его, т. е. взять несообразную цену.
В конце концов он, однако, купил четырех лошадей для повозки. Дышловые оказались норовистыми мустангами[23]23
Мустанг – дикая американская лошадь.
[Закрыть], которых приходилось стегать все время, чтобы заставить работать. А одного славного четырехлетнего жеребчика пришлось избить раз шесть, чтобы отучить останавливаться ни с того ни с сего и лягать передней ногой каждого, кто подходил к нему. Один только старый конь Майор был надежен, как сталь; он часто выручал нас, благородно исполняя свои обязанности наперекор отчаянному сброду лошадей, с которыми пришлось ему работать.
Мы двинулись вниз по реке к устью р. Юдит, против Клаггета, где у индейца-торговца была лавочка, обнесенная частоколом. Здесь мы начали лагерную жизнь. За рекой разбросаны были хижины двух тысяч индейцев племени Ворона, которые готовились к ежегодной охоте на буйволов в этой нейтральной области. На время охоты за этой крупной дичью, которая служила им главной пищей, Вороны и Сиуксы обычно заключали мир.
В сердце м-ра Айзека все еще жил ужас перед краснокожими. Он настаивал на том, что мы должны сторожить лагерь, что нужно дежурить по очереди и делать постоянные обходы. Чтобы успокоить его, мы организовали охрану. Я взял первую очередь дежурств, а м-р Айзек – вторую.
Профессор оказал мне честь, предложив разделить с ним палатку.
Только что мы заснули, как услышали крик м-ра Айзека:
– Стой!
Выглянув, мы увидели, что к лагерю приближается индеец в сопровождении своей жены. В лунном свете они были видны очень отчетливо.
– Стой! Стой! – орал м-р Айзек, целясь из винчестера.
Но индеец, сопровождаемый верной женой, продолжал подвигаться вперед, к самому дулу ружья, повторяя:
– Мой – добрый индеец! Мой – добрый индеец!
Коп оделся и вышел к ним. Оказалось, что индеец по ошибке принял нас за тайных торговцев водкой и явился закупить на свою долю. Профессор приказал ему лечь спать под повозкой, а наутро переправиться обратно за реку и пригласить с полдюжины главных вождей с нами позавтракать.
Индейцы легли и заснули. Но только что начали они мирно похрапывать, как окончилась очередь Айзека сторожить, и он пошел к повозке, чтобы разбудить повара, медлительного, грузного человека, жирные щеки которого внушили профессору Копу уверенность, что он умеет стряпать удобоваримую пищу.
В четыре часа утра настала очередь Копа стать на стражу. Его разбудили, но его спенсеровская винтовка оказалась на дне сундука, и поэтому, а может быть потому, что он был убежденный противник всякой войны, он отказался итти на дежурство. Так мы и проспали спокойно до утра без охраны.
Перед самым завтраком профессор принялся, по своему обыкновению, мыть в особой чашечке свою вставную челюсть. В это время явились вереницей шесть доблестных вождей, которых он накануне пригласил завтракать через заночевавшего у нас индейца.
Проворно сунув челюсть в рот, Коп пошел им навстречу с приветливо улыбающимся лицом. Но гости в один голос закричали:
– Еще раз! Сделай так еще раз!
Он проделал тот же незамысловатый фокус снова и снова к их немалому изумлению и восторгу.
После этого они попробовали вытащить зубы у себя самих и друг у друга, но это им не удалось, и все уселись завтракать. Повар щедро подливал им кофе, пока они не напились досыта и не закричали:
– Довольно!
Мы перебрались через Миссури, которая здесь текла светлым прозрачным потоком, и через реку Юдит и стали лагерем в узкой долине Собачьей речки (Дог-крик), среди пустырей, богатых ископаемыми, искать которые мы явились так издалека и ради которых готовы были подвергнуться стольким опасностям.
Во все стороны тянулся нескончаемый лабиринт оврагов и овражков, оправдывая название урочища – Негодные Земли (Бедленд). Над нами высилось обнажение размытой горной породы в триста шестьдесят метров мощностью; Коп в то время относил его к различным системам. Обнажение состояло из толстых пластов черной сланцеватой глины, которая с поверхности распадалась в мелкую черную пыль. Нижние слои содержали многочисленные прослойки лигнита[24]24
Лигнит – вид бурых углей.
[Закрыть], который представлял собой хороший мягкий уголь и легко загорался. В обрывах каньонов мы находили пласты его больше метра толщиной. Стоило только подвезти повозку к такому обрыву, чтобы в несколько минут нагрузить ее прекрасным углем.
Едва только брезжил рассвет, мы завтракали и выезжали на работу; кирки наши и мешки для коллекций привязывались к седлам, а в седельных сумках был уложен второй завтрак – копченая грудинка и морские сухари.
Обычно я ехал рядом с профессором на лукавом вороном мустанге, который постоянно подстерегал момент, чтобы вырваться на свободу. Мундштук с цепочкой; которая почти разрывала ему рот, был единственным способом справляться с ним. Так как на правое ухо я почти глух, то мне обычно приходилось ехать от профессора справа, если позволяла дорога. Он не всегда бывал разговорчив, но если уж начнет рассказывать о чудесных обитателях земного шара, которые жили в давно минувшие времена или теперь еще живут, так его не остановишь. Он как будто сам с собой разговаривал при этом, глядя прямо перед собой. Увлекшись своим предметом, он почти не обращался ко мне; а я слушал, замирая от восторга.
Но не до того было норовистому мустангу. Внезапно его передние ноги отрывались от земли, и он вытягивался во весь рост на задних. Затем, почувствовав давление испанского мундштука, он проворно опускался на все четыре и кидался вперед, влево от профессора. Если профессор, случайно оглянувшись, находил пустым место, где я только что был, он изумленно восклицал:
– Как! Ведь я думал – вы едете справа, а вы вдруг, оказывается, слева от меня!
Как только я, бывало, заслушаюсь профессора и чуть-чуть отпущу поводья, пони непременно уж повторит свой фокус. Я так увлекался рассказами Копа, что мне случалось при этом терять стремя.
Самую высокую часть Негодных Земель составляли слои р. Юдит, которые после изысканий профессора Д. В. Хатчера причислены к ярусу Форт Пьер верхнемеловых отложений. Здесь плоскогорья и равные луга давали обильный корм нашим пони. Мы поднимались обычно на эти высоты, стреноживали лошадей и уходили в овраги и промоины искать ископаемых. Необходимо было внимательнейшим образом присматриваться к осыпающейся глине, так как только струйка пыли, немного отличающаяся по цвету от однообразной черноты кругом, указывала, где погребены кости.
Вследствие неплотного строения рыхлой черной глины и налегающих на нее песчаников, Миссури прорыла себе ложе на шестьдесят метров ниже уровня степи, а вся местность, изрезанная настоящим лабиринтом каньонов и боковых оврагов, представляла собой ужасающее зрелище полнейшего бесплодия.
Ночью вид сверху на их запутанную сеть был страшен. Черный цвет породы, образующей склоны, не позволял ни одному лучу света проникать в глубину ущелий, и мрак казался таким густым и плотным, что хоть режь его. Длинные гребни, оканчивающиеся отвесными обрывами, подошва которых уходила в реку на триста метров ниже, тянулись в глубину страны. Часто они бывали изрезаны поперечными промоинами, образуя пики, зубцы, обелиски, башни и другие фантастические формы. Эти хребты бывали так узки, что мы иной раз с трудом проходили по ним, а склоны обрывались под углом в сорок пять градусов. Поверхность была покрыта размельченной глиной, в которой на каждом шагу вязли ноги; это, впрочем, давало нам некоторую опору и удерживало от падения с опасной быстротой вниз, в ущелье.
Однажды профессор попросил меня взобраться к одному местечку близ вершины величавого гребня, увенчанного двумя массивными выступами песчаника; они выдвигались над крутым склоном подобно карнизам какого-то титанического здания. Эти выступы, расположенные один над другим и разделенные двадцатью метрами глины, были начисто размыты водой почти на метр, так что я легко нашел тропинку, где умещались мои ноги, когда после усердного карабканья добрался до нижнего выступа. С моего высокого насеста у меня перед глазами открывался изумительный вид Негодных Земель на многие и многие километры вокруг. Зрелище это настолько унылое, что не опишешь никаким пером.
Моей задачей было обыскать каждый сантиметр покрытого пылью ската между двумя выступами: нет ли там ископаемых костей. После многих бесплодных усилий я дошел до места в вершине ущелья, где отвесный скат обрывался прямо вниз. Верхний песчаниковый выступ на протяжении девяти метров обрушился, и громадная каменная глыба, увлекая за собой обломки и пыль, сглаживая и раздавливая все на своем пути, грянула вниз по откосу. Она ударила в нижний выступ с такой силой, что он тоже обломился, и все покатилось в пропасть. Сосновый лесок у подножья утеса обвалом сравняло с землей. Уцелевшие деревья, которые, как я знал, были метров пятнадцать высотой, казались на-глаз не выше всходов на полях, а огромная глыба камня походила на булыжник.
Я решил, что мне не будет трудно проползти через гладкое пространство; я рассудил, что если начну соскальзывать, то успею вонзить острый конец кирки в мягкую глину и удержусь. Итак, взобравшись по откосу через осыпь до верхнего выступа, я пустился наперерез. Добравшись до полпути, я начал скользить вниз и, уверенно подняв кирку, изо всей силы ударил в склон. Не хотелось бы мне снова испытать ужас, овладевший мною, когда кирка, от которой всецело зависела моя жизнь, отскочила, словно я ударил не камень, а полированную сталь. Яростно ударял я снова и снова все время соскальзывая вниз со все возрастающей быстротой и приближаясь к пропасти, на другом краю которой была безопасность, а внизу – верная и страшная смерть.
Помню, я совершенно потерял надежду на спасение. После первого потрясения я не испытывал уже страха смерти. Но короткие минуты, пока я скользил, показались мне часами, с такой бешеной скоростью работал мой мозг. Все, что я думал и делал когда-либо, пронеслось передо мной с той же быстротой и отчетливостью, как чудесная панорама утесов и каньонов, на которые я любовался за несколько мгновений перед тем. Все мелкие события моей жизни, с самого детства, были пережиты с прежним ощущением радости или горя. Я отчетливо видел людей, которых знавал, даже давно забытых. Образ матери вставал ярче всех остальных: что она почувствует, когда узнает, что я разбился о скалы?
Я даже представил себе, как Коп начнет меня разыскивать, если я не вернусь в лагерь; как он пройдет по моим следам в мелкой пыли до места, где я соскользнул вниз; мне очень хотелось знать спустится ли он в каньон и много ли останется от моего тела для погребения.
Но и до сего дня я не знаю, как я спасся. Внезапно я очутился на выступе с той стороны, которую оставил минутой раньше. Вероятно, моя одежда, насквозь пропитавшаяся пылью, играла роль тормоза.
Я пролежал около часа, колени у меня дрожали, и я так ослабел, что не мог тотчас же вернуться в лагерь.
Возбуждение, в котором держала нас наша работа, и связанная с нею опасность сделали нас как будто совсем равнодушными к жизни. Профессор Коп был, пожалуй, равнодушней всех нас. Я помню, однажды ночью он ехал по следу буйвола к реке, как вдруг лошадь его внезапно остановилась и уперлась, отказываясь итти дальше. Не слезая, чтобы выяснить причину, он всадил шпоры в бока упрямого животного, и оно взвилось в воздух. М-р Айзек, который сопровождал его, последовал за ним. На утро они с удивлением увидели, что перепрыгнули ущелье в три метра ширины. Если бы не острое зрение и не сила их лошадей, они бы разбились насмерть.
Постоянным предметом удивления для нас была неутомимость Копа. Мы привыкли к суровой лагерной жизни на канзасском мелу; а ведь он как раз перед поездкой проводил по четырнадцати часов каждый дань за работой в кабинете или в литографской мастерской: он заканчивал в то время большую монографию для правительства, – приходилось работать над собственной рукописью и самому читать корректуры. Когда мы его встретили в первый раз в Омахе, он так был слаб, что на ходу покачивался из стороны в сторону; теперь он карабкался на высочайшие скалы и проходил по самым опасным закраинам, работая без перерыва с самого раннего утра до поздней ночи.
Каждый вечер мы возвращались в лагерь, усталые и измученные жаждой – мы не пили весь день, потому что вся вода в Негодных Землях похожа на крепкий раствор слабительных солей – и садились за ужин. Нам подавали сладкие пирожки, паштеты и тому подобные вкусные, но неудобоваримые явства. Когда мы ложились спать, у профессора начинались жестокие кошмары. Каждое животное, следы которого мы находили в течение дня, играло с ним ночью, подбрасывало на воздух, лягало, прыгало по нему.
Когда я будил его, он ласково благодарил и снова засыпал до следующего приступа. Иногда половина ночи проходила в таком состоянии. Но на утро он шел впереди нас на работу, а вечером последним покидал поле. Я никогда больше не знавал такого поразительного примера власти человека над собственным телом.
Его память и воображение были также необычайны. Ему случалось говорить со мной часами, в стройном порядке классифицируя живых и вымерших животных всего света; он давал им без счета научные имена и отписывал их. Я забывал названия тотчас, как их услышу, но то любовное внимание, с которым он относился ко всем животным, имело на меня длительное и полезное влияние. Если у меня было малейшее чувство отвращения или страха к какому-нибудь животному, то я потерял его после рассказов этого художника-натуралиста: он научил меня понимать жизнь животных, а сам умел находить красоту даже в ящерицах и змеях. Он был убежден и меня научил так думать, что самовольно уничтожать жизнь – любую жизнь! – преступление.
Конечно, первый закон природы – самосохранение; но как жесток страх, который многие – чаще женщины, чем мужчины – испытывают перед змеями, ящерицами и пауками! Как могут они радоваться, когда какой-нибудь бедный маленький уж, который уничтожает в кладовых или подвалах мышей и крыс, изловлен, изрезан на куски? Сердце мое обливается кровью, когда я подумаю, как жестоко отнимается жизнь: то, чего никогда, никакой ценой нельзя вернуть. Вместе с Копом я готов восстать против истребления некоторых наших друзей-животных. Тот, кто бессмысленно уничтожает жизнь, не имеет права говорить о любви к жизни, о строительстве жизни.
Мы не нашли ни одного полного экземпляра какого-либо ископаемого животного за все время нашей стоянки у речки Собачьей. Но близ вершины Негодных Земель, под пластами желтоватого песчаника, мы набрели на места, которые были буквально набиты разрозненными костями и зубами динозавров, этих ужасных ящеров, чья поступь некогда сотрясала землю.
Их последний потомок ныне – маленькая рогатая ящерица Среднего Канзаса. Среди обломков попадались куски тонко-чеканных панцирей морских черепах – трионикс адокус (Trionyx Adocus) и остатки того странного динозавра-траходона (Trachodon) (рис. 11, внизу), зубы которого были размещены один над другим так, что когда старый зуб стирался, другой был уже наготове, чтобы заменить его.

Рис. 11. Внизу – нижняя челюсть траходона; видны последовательные ряды зубов. Сверху – вид сверху и сбоку на зуб миледафуса двухстороннего (По Осборну и Лэмбу).
Образец на прилагаемом рисунке взят из статьи в «Материалах по палеонтологии Канады» д-ров Осборна и Лэмба о позвоночных из средне меловых отложений северо-западной территории (1902). Великолепный динозавр мелового периода, изображенный здесь, найден в Вайоминге (рис. 12). Этот экземпляр реставрирован профессором Маршем и впоследствии монтирован в музее Йэльского университета. Какое своеобразное зрелище представляло собой, вероятно, это огромное травоядное, когда поднявшись на задние конечности, действуя могучим хвостом словно третьей ногой треножника, оно захватывало ветви деревьев своими короткими передними ногами и держало охапку, пока зубы соскабливали нежную зелень.

Рис. 12. Череп утконосого динозавра (Diclonius), 120 см длины. Американский музей естественной истории.
В одном из упомянутых выше мест мы нашли зуб, принадлежащий какой-то вымершей рыбе, похожей на ската. Зубы были размещены по верхней и нижней сторонам рта, наподобие камней мостовой; они образовывали что-то вроде мельницы, которая дробила ракушек, служивших этому созданию пищей. Необычайно в этих зубах то, что одна сторона их покрыта белой эмалью, а другая – черной. Коп назвал этот вид – миледафус (Myledaphus bipartitus) (рис. 11).
Ромбовидные, покрытые эмалью чешуи лепидотуса (Lepidotus), древнего родственника щуки, попадались очень часто, а также зубы различных видов динозавров, кроме уже упомянутых.
Теперь все большие музеи Америки имеют полные или почти полные скелеты этих созданий, самых крупных животных, которые когда-либо жили на суше. Великолепный экземпляр бронтозавра (рис. 13) в Американском музее в Нью-Йорке имеет более восемнадцати метров в длину. Ничто так не воспламеняет воображение, как посещение зал, где хранятся теперь эти вымершие ящеры.

Рис. 13. Бронтозавры. Реставрация Осборна и Найта (с картины в Американском музее естественной истории).
Я очень рад, что позднейшие знатоки этого дела, д-р Осборн и д-р Лэмб, воздали должное профессору Копу за находки 1876 года, особенно замечательные тем, что Коп был первым ученым, у которого хватило дальновидности и мужества обследовать тамошние залежи ископаемых после того, как индейцы племени Черноногих прогнали из этой области д-ра Гайдена, который первый открыл их.
Убедившись в том, что на речке Собачьей более или менее полного скелета нам не найти, Коп взял проводника и отправился вниз по реке до Коровьего острова (Кау-айленд), расположенного ниже по течению. Этот пункт был конечным пунктом пароходных рейсов по Миссури в октябре, когда вода стояла так низко, что пароход не мог подняться до форта Бентон. Последний пароход уходил вверх пятнадцатого октября, чтобы забрать груз руды и пассажиров и отвезти к железнодорожной станции в Омахе. Так как профессор решил сесть на этот пароход, то ему необходимо было остаться поблизости.
Через несколько дней он прислал приказ снять лагерь и отправиться со всем снаряжением, согласно указаниям проводника, к Коровьему острову. Задача была не из легких; по правде сказать, она на первый взгляд показалась просто невыполнимой. Ни одна повозка никогда еще не проезжала по этим крутым склонам. Тем не менее м-р Айзек принял на себя командование, и по склону в триста шестьдесят метров высоты мы двинулись к вышележащей степи, предварительно выгрузив из повозки все, кроме профессорского сундука, который нельзя было ни навьючить на лошадь, ни нести в руках.
Мы работали топорами, кирками и лопатами очень усердно, срубая деревья и засыпая колдобины. Мы сами строили себе дорогу, поднимаясь шаг за шагом, пока не добрались к полудню до места, которое угрожало стать концом нашего путешествия. Перед нами поднимался откос, покрытый совершенно размельченной глиной и такой крутой, что невозможно было бы взобраться на него даже верхом, не делая длинных косых петель по склону. Гребень был так узок, что повозка не могла проехать, а противоположный скат – так же крут, как вздымавшийся перед нами.
Возница отказался ехать дальше. Это очень рассердило Айзека, который заявил, что в таком случае он сам будет править лошадьми. Он отпряг переднюю пару, взобрался на козлы и принялся понукать бестолковых мустангов. Один пошел по тропке, которую мы проложили, другой – по рыхлой земле рядом, пониже.
Я был весьма озабочен участью возницы и его запряжки. Но опыт научил меня, что спорить с рассерженным человеком бессмысленно; поэтому я сел на лошадь и ждал, что будет дальше. Айзек поднялся метров на девять от подножья склона, когда неизбежное случилось.
Повозка начала медленно крениться на сторону, увлекая за собой лошадей, а потом все снаряжение – и повозка и лошади – покатились по откосу вниз. Когда колеса повозки поднимались кверху, пони поджимали ноги к брюху.
У меня душа ушла в пятки от страха, что Айзека убьет опрокидывающейся повозкой, или что и он, и повозка, и все снаряжение скатятся в пропасть. Но, сделав три полных оборота, лошади встали на ноги, а повозка на колеса, словно ничего с ними не случилось.
Увидав, что Айзек жив и невредим, я не мог удержаться от смеха. Вследствие этого мне было указано, что если я так находчив и остроумен, то следовало бы мне самому подняться по этому откосу. Я быстро распорядился: привязали веревки к задней оси повозки, а выпряженных лошадей отвели по тропинке вверх. Потом отнесли наверх концы веревок, привязанных к оси повозки, и припрягли к ним лошадей. Лошади начали медленно спускаться по противоположному скату и таким образом втащили наверх повозку. Потом мы установили повозку на гребне верхом, т. е. так, что правые колеса ехали по одному склону, а левые – по другому, и благополучно довезли повозку до ровного места в степи.
Покончив с этим, мы вернулись с лошадьми вниз, чтобы привезти к месту стоянки повозки наше лагерное оборудование, которое оставили на Собачьей речке.
Около трех часов пополудни разведчик, который не показывался нам на глаза во время тяжелой работы по доставке наверх снаряжения и оборудования лагеря, выехал с юга, из ложбинки между двумя холмами. И в то же время с востока появился другой всадник, во весь дух мчавшийся к нам. По знаку разведчика возница остановил повозку, а мы с Айзеком сдержали верховых лошадей.
Во втором всаднике мы узнали профессора Копа, который подскакал к проводнику и остановил его; жесты обоих и повышенные голоса показывали, что между ними начался горячий спор. В конце концов разведчик с нахмуренным лицом подъехал к повозке, ни слова не говоря, вытащил свой сверток одеял и запасного платья и уехал по направлению к форту Бентон.
Повар окликнул его, а потом выскочил из повозки и побежал следом. Когда они оказались на таком расстоянии, что голосов не было слышно, разведчик остановился, и между ними начался оживленный разговор.
Повар вернулся к повозке, взвалил на широкие плечи свои одеяла и пожитки и пустился пешком к лагерю дровосеков, в нескольких километрах к северу, на берету реки.
Коп подъехал к нам и рассказал, что эти молодцы, которым заплачено за три месяца, сбежали здесь, посреди степи, оставив его без работников в двухстах километрах от опорной базы.
Повидимому, разведчик наткнулся где-то неподалеку на лагерь немирных индейцев, и молодцы наши струсили.
Профессор спросил, управимся ли мы с двойной работой, которая свалилась на нас. Мы обещали.
Айзек уселся на козлы, и мы приготовились двинуться дальше, но несчастья никогда не приходят поодиночке. Наш четырехлетний жеребчик хорошо отдохнул во время остановки и внезапно решил в свою очередь попытаться прекратить работу экспедиции. Он зашалил, а когда профессор подошел к нему, чтобы взять под уздцы, – начал лягаться передними ногами.
Тут терпение профессора лопнуло. Трусливое бегство наших рабочих, недостаток провизии – мы ничего не ели с тех пор, как выехали с Собачьей речки, – и мучившая нас жажда (а до ближайшего источника на нашем пути было еще очень далеко), – все это оставило в сердце профессора мало милосердия и жалости к норовистой лошади. Он приказал Айзеку отпрячь жеребчика и привязать к задней оси повозки, а мне тем временем взобраться наверх, с дубинкой в руках, чтобы лошадь не вскочила в повозку.
Держа в правой руке плеть, Коп подошел к животному, ласково пытаясь уговорить его и протягивая левую руку. Лошадь, однако, продолжала биться изо всех сил. Профессор едва-едва избежал удара копытом, отступил и ударил упрямого коня рукояткой плети, позади уха. Жеребчик упал как подкошенный и некоторое время пролежал, оглушенный ударом. Но когда он вскочил на ноги и профессор попытался подойти к нему с протянутой рукой и ласковыми словами, он начал лягаться снова. Коп опять свалил его с ног. Поднявшись, лошадь сделала еще одну слабую попытку лягаться; но третьего удара оказалось достаточно. После этого животное приветливо приняло попытки профессора погладить его; когда лошадь отвязали, она так заторопилась вернуться в постромки, что почти потащила за собой Копа.
Только поздно ночью, после четырнадцати часов изнурительной работы, мы получили возможность поужинать салом с морскими сухарями и лечь на несколько часов отдохнуть. Наш запас продовольствия мы подвесили на дерево, чтобы его не могли похитить серые медведи (гриззли), которые бродили вокруг и могли добраться до нашей стоянки в поисках хлебных крошек и объедков сала. Мы каждую минуту могли проснуться от прикосновения когтистой лапы.
На следующий день мы проехали вдоль обширных равнин, опоясывающих Негодные Земли. Степь была покрыта густыми пучками травы и часто оказывалась изрытой лапами гриззли: они здесь искали диких артишоков, сладкий корень которых – их любимое лакомство. Мы часто видели также стада оленей, лосей и антилоп. Наша дорога проходила частью среди предгорий реки Юдит, поднимавшихся от нас к югу. Когда мы снова выехали на равнину, то очутились в огромном амфитеатре. На западе в молчаливом величии вздымались зубчатые хребты Скалистых гор, глубоко изрезанные каньонами и ущельями, в которых белел и искрился при утреннем свете вечный снег. На юге, востоке и севере круг замыкался горами реки Юдит, Малыми Скалистыми горами, Медвежьей Лапой и горами Сладких Трав на границе с Ассинобойей. Дивное зрелище! Приятно было думать, что наша повозка первая проникла в эту богатейшую страну, которая долгие годы принадлежала только краснокожему охотнику. Скоро холмам этим суждено было откликнуться на свисток локомотива, скоро богатая почва должна была дать хлеб тысячам людей, но в те дни, о которых я здесь вспоминаю, мы не встретили ни одного человека на протяжении шестидесяти километров.
Вечером после второго дня тяжелой работы, мы остановились у вершины узкого с очень крутыми склонами оврага, выходившего на открытую равнину меж двух гребней, которые обрывались отвесно к Миссури, текущей на триста шестьдесят метров ниже.
Коп сказал нам, что придется простоять некоторое время, так как здесь находилась временная стоянка парохода. Узнав об этом, я бросил мой сверток одеял. Он прыгнул в овраг, высоко взлетая в воздух со скалы на скалу, и не остановился ни разу, пока не зацепился за куст кактуса, которым заросла лощинка внизу.
Из повозки выгрузили все, кроме профессорского сундука, и подкатили ее к голове оврага. Айзек взял на себя заботу управлять ею, а профессор и я медленно стали спускать ее по откосу на веревках, привязанных к задней оси. Когда веревки у нас кончались, Айзек подкладывал под колеса камни, а мы передвигались вниз до нового подходящего места, где можно было зацепить за что-нибудь веревки; так продолжалось, пока мы не добрались донизу. Потом спустили вниз все вещи, очистили лощинку от кактусов и поставили палатку. Только далеко за полночь могли мы приняться за приготовление еды, а потом завернулись в одеяла и заснули в полном изнеможении.
Не только во время этой поездки, но и в продолжение всего нашего пребывания в Негодных Землях мы страдали от великого множества черных комаров, которые забивались под шапки и в рукава и вызывали невыносимый зуд; расчесы покрывались гноем и толстыми струпьями. Комары забирались также под седла и потники, раздражая лошадей. За неимением чего-либо другого, мы смазывали лица и руки топленым салом, да и лошадей намазывали под седлами и хомутами.
Ископаемые кости всегда походят отчасти на породу, в которой они заключены: когда мы добрались до плотной породы, они оказались очень твердыми. Профессор нашел здесь первый известный в Америке образец, удивительного рогатого динозавра моноклона (Monoclonius).








