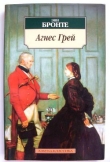Текст книги "Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Книга 2"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)
Глава XXXIV
Бабушка приводит меня в изумление
Как только мы с Дорой были помолвлены, я написал Агнес. Я написал ей длинное письмо, в котором пытался дать ей понять, в каком блаженстве я утопаю и что за прелесть Дора. Я умолял Агнес не рассматривать мою любовь как легкомысленную влюбленность, всегда мимолетную или напоминающую одно из тех детских увлечений, над которыми мы с нею обычно смеялись. Я убеждал ее, что глубина этой любви поистине неизмерима, и выражал полную уверенность, что такой любви свет еще не видел.
И вот, когда я писал Агнес, сидя у открытого окна в чудесный вечер, и вспомнил ее ясные, спокойные глаза и кроткое лицо, при этом воспоминании такой мир и покой снизошли на мою смятенную и взволнованную душу, – а в этих треволнениях я жил последнее время и с ними отчасти было связано мое счастье, – что я расплакался. Помнится, я сидел над неоконченным письмом, подперев голову рукой, и мечтал о том, как бы это было хорошо, если бы Агнес была причастна к радостям моего домашнего очага. Мне казалось, что под сенью дома, ставшего для меня священным благодаря присутствию Агнес, мы с Дорой будем счастливы больше, чем где бы то ни было. И казалось мне, что в любви, в радости и печали, в надежде и разочаровании – словом, во власти любого чувства – сердце мое невольно обращается к ней и там находит свое пристанище и лучшего друга.
О Стирфорте я не упомянул. Я написал только, что в Ярмуте случилось большое горе, что Эмили исчезла, а мне ее исчезновение нанесло двойную рану, принимая во внимание обстоятельства, его сопровождавшие. Я знал, как быстро она всегда угадывает правду, и знал я также, что она никогда первая не упомянет его имя.
На это письмо я получил ответ с обратной почтой. Читая его, я словно слышал голос Агнес. Да, это был ее нежный голос! Что могу я еще к этому добавить?
Во время моих последних отлучек из дому Трэдлс заходил раза два-три. Он застал Пегготи, которая ему сообщила, что она моя старая няня (о чем она сообщала решительно всем, кто хотел ее слушать), и он, завязав с ней добрые отношения, оставался поболтать обо мне. Так рассказала мне Пегготи, но боюсь, что болтал не он, а она, да притом весьма много, ибо ей – да благословит ее бог! – бывало трудненько остановиться, когда речь заходила обо мне.
Тут я припоминаю не только о том, что ждал визита Трэдлса в назначенный им день, – а этот день настал, – но и об отказе миссис Крапп от всех обязанностей, связанных с ее службой (но отнюдь не от жалованья), если Пегготи будет у меня бывать. После того как миссис Крапп, ведя на лестнице беседу, – очевидно, с каким-то невидимым духом, ибо по всем признакам, кроме нее, там никого не было, – визгливо поделилась с ним своим мнением о Пегготи, она прислала мне письмо, в котором излагались ее взгляды. Начав с заявления, которое у нее было наготове во всех случаях ее жизни, а именно – что она «тоже мать», она уведомляла меня о том, что знавала и лучшие времена, но во все периоды своей жизни питала врожденное отвращение к шпионам, доносчикам и незваным гостям. Имен она не называет, писала она, но на воре и шапка горит, и особенно она презирает шпионов, доносчиков и незваных гостей, носящих вдовий траур (эти слова были подчеркнуты). Если джентльмен предпочитает быть жертвой шпионов, доносчиков и незваных гостей (имен она не называет), это его личное дело. Он имеет право поступать, как ему нравится, ну что ж, пусть поступает! Но она, миссис Крапп, выговаривает себе право не «иметь прикосновения» к таким особам. Поэтому она просит освободить ее от присмотра за помещением на верхнем этаже, покуда все не будет так, как было раньше и как было бы желательно. Далее она добавляла, что ее расходную книжку можно найти каждую субботу утром на маленьком столике, и просила производить подсчет расходов немедленно с единственной благодетельной целью избежать раздоров, «неприятных» для обеих сторон.
Затем миссис Крапп принялась устраивать на лестнице капканы, главным образом с помощью кувшинов, добиваясь, чтобы Пегготи переломала себе ноги. Такое осадное положение показалось мне внушающим тревогу, но я слишком боялся миссис Крапп, чтобы искать какого бы то ни было выхода.
– Дорогой Копперфилд! Как вы поживаете? – воскликнул Трэдлс, придя точно в назначенный час, несмотря на упомянутые препятствия.
– Очень рад видеть вас, дорогой Трэдлс, и жалею, что раньше вы меня не заставали. Но я так был занят…
– Да, да, знаю… Это так понятно! – сказал Трэдлс. – Ваша… мм… живет в Лондоне?
– Вы о ком говорите?
– Она… простите… мисс Д… она живет в Лондоне? – спросил Трэдлс и от избытка деликатности покраснел.
– О да! Под Лондоном.
– Моя… может быть, вы припоминаете… она живет в Девоншире… их, знаете ли, десять… стало быть, я в этом смысле не так занят, как вы, – серьезно сказал Трэдлс.
– Удивительно, как это вы можете так редко с ней видаться, – сказал я.
– О! Да, пожалуй… – согласился Трэдлс с задумчивым видом. – Мне кажется, это потому, что иначе нельзя. Копперфилд…
– Конечно! – согласился я, улыбаясь и слегка краснея. – Но еще и потому, что вы – образец постоянства и терпения, Трэдлс.
– Вы так полагаете? – сказал Трэдлс и снова призадумался. – Не знаю, так ли это. Но она такая удивительная девушка, что, может быть, поделилась этими свойствами со мной. Вот теперь, когда вы об этом заговорили, Копперфилд, мне это не кажется удивительным. Уверяю вас, что она всегда забывает о себе и заботится об остальных девяти…
– Она самая старшая?
– О нет! Старшая – красавица!
Кажется, он заметил, что я улыбнулся, услышав такой простодушный ответ. И с улыбкой на своей бесхитростной физиономии добавил:
– Но, конечно, и моя Софи… Правда, славное имя, Копперфилд?
– Прекрасное! – сказал я.
– Но, конечно, и моя Софи, – продолжал он, – также красива, на мой взгляд, и кому угодно покажется одной из самых лучших девушек на свете – так я думаю… Когда же я говорю, что самая старшая – красавица, это значит, что она…
Тут он как будто очертил обеими руками какое-то облако и энергически закончил:
– Ослепительна!
– Вот как!
– Уверяю вас. Это что-то необычайное! Понимаете ли, она создана, чтобы вызывать восхищение в свете, но ей слишком редко представляется такая возможность, потому что они стеснены в средствах, и она, разумеется, по этой причине немножко раздражительна и иногда бывает слишком требовательна. Софи, знаете ли, ее ублажает.
– Софи – самая младшая? – осведомился я.
– О нет! – ответил Трэдлс, потирая подбородок, – двум самым младшим только девять и десять лет. Софи обучает их.
– Так она вторая? – спросил я.
– Нет, – ответил Трэдлс. – Вторая – Сара. У нее, бедняжки, что-то неладное с позвоночником. Доктора говорят, что это пройдет, но покуда она должна лежать в кровати еще год. Софи ухаживает за ней. Софи – четвертая.
– А мать жива?
– О да! Она жива, – сказал Трэдлс. – Это женщина высокой души, но сырой климат вреден для ее организма, и… словом, она не владеет ни руками, ни ногами.
– Да что вы! – воскликнул я.
– Печально, не правда ли? – спросил Трэдлс. – Но если к этому подойти, принимая во внимание только удобства семьи, то это не так ужасно, как могло бы быть, потому что Софи заняла ее место. Она, так сказать, заменяет мать своей собственной матери, а также и девяти сестрам.
Я пришел в восхищение от добродетелей этой молодой леди и, из самых достойных побуждений решив воспрепятствовать тому, чтобы злоупотребляли добротой Трэдлса в ущерб его планам на совместную жизнь с Софи, осведомился, как поживает мистер Микобер.
– Благодарю, Копперфилд, очень хорошо, – ответил Трэдлс. – Я теперь с ними не живу.
– Не живете?
– Нет. Видите ли, дело в том… – зашептал Трэдлс, – что теперь, вследствие временных затруднений, он переменил свою фамилию на Мортимер и не выходит из дому, пока не стемнеет… Да и то только в очках. За невзнос платы за квартиру был наложен арест на наше имущество. Миссис Микобер находилась в таком ужасном состоянии, что я не мог сопротивляться и поручился по второму векселю, о котором мы здесь говорили. Вам легко представить себе, как я обрадовался, когда благодаря этому все уладилось и миссис Микобер снова обрела хорошее расположение духа.
– Гм…
– Но радость ее была непродолжительна, потому что, к несчастью, через неделю наложен был второй арест, – продолжал Трэдлс. – После этого хозяйство у нас распалось. Теперь я живу в меблированных комнатах, а Мортимеры ведут жизнь очень уединенную. Надеюсь, вы не сочтете меня эгоистом, Копперфилд, если я скажу вам, что оценщик увез мой круглый столик с мраморной доской, а также подставку для цветов и цветочный горшок Софи?
– Какая бесчеловечность! – воскликнул я с негодованием.
– Это было… это было больно, – сказал Трэдлс и сделал гримасу, которой он обычно сопровождал эту фразу. – Но я не хочу никого упрекать, у меня другая цель. Дело в том, Копперфилд, что я не мог выкупить эти вещи, когда их продавали, во-первых, потому, что оценщик, поняв, что я хочу их купить, назначил непомерно высокую цену, а во-вторых, потому, что у меня совсем не было денег. Но вот… Я следил все время за лавкой оценщика… – Трэдлс был в восторге от своей тайны. – Лавка помещается в самом начале Тоттенхем-Корт-роуд. И, наконец, сегодня они были выставлены на продажу. Я видел их через дорогу, потому что, упаси боже, если меня заметит оценщик – он заломит за них бог знает сколько! Теперь деньги у меня есть, и, может быть, вам нетрудно будет спросить вашу славную няню, не согласится ли она пойти со мной в эту лавку, – я покажу ей лавку из-за угла, – и купить вещи по доступной цене как бы для себя?
Отчетливо помню, с каким удовольствием излагал мне Трэдлс этот план и как гордился своим необычайным хитроумием.
Я ответил ему, что моя старая няня с удовольствием окажет ему эту услугу и что на поле битвы мы отправимся втроем, но при одном условии. Условие это таково: он должен торжественно обещать, что больше не разрешит мистеру Микоберу брать взаймы от его имени или вообще как бы то ни было использовать это имя.
– Этого больше не будет, дорогой Копперфилд, потому что я уже понял, насколько я был опрометчив и как дурно поступил по отношению к Софи. Я уже себе дал слово, и впредь опасаться нечего, но, если хотите, охотно даю слово и вам. По первому злосчастному обязательству я уже уплатил. Не сомневаюсь, мистер Микобер вернул бы эту сумму, если бы мог, но он не может. Впрочем, должен сказать, Копперфилд, что в одном мистер Микобер очень меня подкупил; это касается второго обязательства, срок которого еще не истек. Теперь он не говорит мне, что обеспечение уже есть, но что оно будет. И я должен признать, что он поступает честно и благородно!
Мне не хотелось охлаждать упования моего славного приятеля, и я согласился с ним. Мы еще немного потолковали, а затем направились к мелочной лавке, чтобы завербовать Пегготи; Трэдлс отказался провести со мной вечер, ибо очень боялся, что его вещи приобретет кто-нибудь другой, прежде чем он успеет их выкупить, да к тому же этот вечер он всегда посвящал писанию письма самой лучшей девушке в мире.
Мне не забыть его взглядов, которые он бросал из-за угла Тоттенхем-Кортроуд, пока Пегготи приценивалась к этим драгоценным вещам; не забыть мне и его волнения, когда Пегготи, так и не сторговавшись с хозяином, медленно шла к нам обратно я вдруг смягчившийся оценщик ее окликнул и она вернулась назад. В конце концов переговоры завершились тем, что она приобрела вещи по сравнительно недорогой цене, и Трэдлс потерял голову от радости.
– О, как я вам благодарен! – воскликнул он, услышав, что вещи будут посланы по его адресу в тот же вечер. – Но что, если я попрошу вас еще об одном одолжении, вы не найдете его нелепым, Копперфилд?
Я заранее сказал, что не найду.
– Если бы вы были так любезны, – обратился он к Пегготи, – и прямо сейчас забрали горшок для цветов, мне хотелось бы (ведь этот горшок, Копперфилд, принадлежит Софи) самому отнести его домой!
Пегготи с удовольствием исполнила его просьбу, а Трэдлс, осыпав ее изъявлениями признательности, с любовью обхватил цветочный горшок руками и понес его по Тоттенхем-Корт-роуд, и лицо его выражало такую радость, какой я еще не видывал.
Затем мы с Пегготи отправились ко мне домой. Я не знавал ни одного человека, для которого лавки обладали бы такой же притягательной силой, как для Пегготи, и я шел не спеша, забавляясь тем, как она смотрит на витрины во все глаза, и нисколько ее не торопил. Поэтому прошло немало времени, пока мы добрались до Аделфи.
Поднимаясь по лестнице, я обратил внимание Пегготи на внезапное исчезновение капканов миссис Крапп и на следы чьих-то ног. Мы оба очень удивились, когда, поднявшись выше, увидели мою наружную дверь открытой (я запер ее перед отходом) и услышали голоса, доносившиеся из комнат.
Недоумевая, что это означает, мы переглянулись и вошли в гостиную. Каково же было мое удивление, когда я увидел тех, кого меньше всего на свете ожидал здесь встретить, – мою бабушку и мистера Дика! Бабушка, словно Робинзон Крузо женского пола, сидела на груде чемоданов, перед ней стояли клетки с ее двумя птичками, на коленях лежала кошка, а сама она пила чай. Мистер Дик задумчиво опирался на гигантский змей, подобный тем, какие мы не раз запускали вместе, и около него на полу тоже был нагроможден какой-то багаж.
– Бабушка! Дорогая бабушка! – воскликнул я. – Какая неожиданная радость!
Мы крепко обняли друг друга, затем обменялись сердечным рукопожатием с мистером Диком, а миссис Крапп, которая разливала чай и была исключительно любезна, с жаром заявила, что она заранее отлично знала, в какой восторг придет мистер Копперфулл, когда увидит своих дорогих родственников.
– А! Ну, а ты как поживаешь? – обратилась бабушка к Пегготи, которая задрожала от страха в присутствии этой грозной особы.
– Ты помнишь мою бабушку, Пегготи? – спросил я.
– Заклинаю тебя, дитя мое, не называй эту женщину именем, которое услышишь разве что на островах Южных морей! – воскликнула бабушка. – Если она вышла замуж и отделалась от своей фамилии, – а лучше этого она не могла ничего придумать, – то почему же не дать ей воспользоваться преимуществами такой перемены? Как тебя теперь зовут, Пе?
Это был компромисс, несколько примирявший бабушку с неприятным для нее именем.
– Баркис, сударыня, – приседая, сказала Пегготи.
– Ну что ж! Это звучит по-человечески, – сказала бабушка. – Оно звучит так, что ты уже не нуждаешься в миссионере. Как поживаешь, Баркис? Хорошо, надеюсь?
Услышав эти милостивые слова и увидев протянутую ей руку, Баркис подошла, пожала руку и приседанием выразила свою благодарность.
– Вижу, мы постарели, – сказала бабушка. – Встречались мы с тобой только один раз. Хороши мы были тогда! Трот, дорогой, еще чашку!
Я поспешил подать чашку чаю бабушке, сидевшей, как всегда, прямо, не сгибаясь, и осмелился заметить, что лучше бы ей не сидеть на сундучке.
– Бабушка, позвольте мне пододвинуть сюда софу или кресло. Зачем вам сидеть так неудобно? – сказал я.
– Спасибо, Трот, – ответила она. – Я предпочитаю сидеть на моих вещах. – Тут она пристально поглядела на миссис Крапп и закончила: – Вы, сударыня, можете больше не утруждать себя.
– Подсыпать еще немножко чая в чайник, сударыня? – осведомилась миссис Крапп.
– Нет, благодарю, сударыня, – ответила бабушка.
– Принести еще кружочек масла, сударыня? А не то позвольте предложить вам свежее яичко. Или, может, поджарить ломтик грудинки? Для вашей милой бабушки, мистер Копперфулл, я все готова сделать! – сказала миссис Крапп.
– Мне ровно ничего не нужно, сударыня. Благодарю, я сама справлюсь.
Миссис Крапп, которая все время улыбалась, чтобы выказать свой добрый нрав, все время склоняла голову на плечо, чтобы заявить о своем слабом здоровье, все время потирала руки, чтобы выразить готовность услужить каждому, кто этого достоин, – миссис Крапп была вынуждена, улыбаясь, склонив голову к плечу и потирая руки, покинуть комнату.
– Дик, вы помните, что я говорила вам о людях угодливых и преклоняющихся перед богатством? – спросила бабушка.
У мистера Дика был испуганный вид, словно он забыл об этом, но он поспешил ответить утвердительно.
– Миссис Крапп принадлежит к их числу, – сказала бабушка. – Баркис, будь добра, займись чаем и дай мне еще чашку. Я не хочу, чтобы эта женщина мне наливала.
Я слишком хорошо знал бабушку и понял, что она очень озабочена и что этот приезд имеет гораздо большее значение, чем может показания несведущему наблюдателю. Я заметил, как пристально она на меня посмотрела, когда ей казалось, будто я занят какими-то посторонними мыслями, и как не покидало ее чувство странной нерешительности, хотя внешне она сохраняла спокойствие и невозмутимость. И я стал опасаться, не обидел ли я ее чем-нибудь, а совесть моя подсказала, что я еще не сообщил ей ничего о Доре. Может быть, в этом все дело?
Мне было известно, что она заговорит только тогда, когда сама того захочет, а потому я подсел к ней, занялся птичками, принялся играть с кошкой и держал себя так непринужденно, как только мог. Но мне было совсем не по себе и стало не лучше, когда я увидел, что мистер Дик, стоявший позади бабушки, опираясь на огромный змей, пользуется каждым удобным случаем, чтобы с мрачным видом кивнуть мне головой и указать на бабушку.
– Трот! – обратилась ко мне бабушка, когда допила чай, и, тщательно разгладив на коленях платье, вытерла губы. – Ты, Баркис, можешь остаться. Трот! Ты приобрел твердость духа и уверенность в себе?
– Надеюсь, бабушка.
– А как тебе кажется? – спросила мисс Бетси.
– Кажется, что приобрел
– Тогда скажи, мой милый, – продолжала бабушка, серьезно глядя на меня, – как по-твоему, почему я предпочитаю сидеть сегодня вечером на своих вещах?
Я покачал головой, ибо не мог догадаться.
– Потому что это все, что у меня осталось. Потому что я разорена, мой дорогой.
Если бы дом со всеми нами свалился в реку, я не был бы так потрясен.
– Дик это знает, – продолжала бабушка, спокойно кладя мне на плечо руку. – Да, я разорена, дорогой Трот. Все, что у меня осталось, находится здесь, в этой комнате, если не считать коттеджа. Я поручила Дженет сдать его внаем. Баркис, я хочу, чтобы этому джентльмену было где сегодня переночевать. А для меня, может быть, вы устроите что-нибудь здесь, во избежание лишних расходов. Мне решительно все равно. Только на сегодняшнюю ночь. Подробней мы поговорим обо всем этом завтра.
Я опомнился от изумления и от огорчения за нее, – да, могу сказать с уверенностью, за нее! – лишь тогда, когда она бросилась мне на шею, восклицая, что ей тяжело только из-за меня. Но уже через секунду она справилась со своим волнением и сказала с видом скорее торжествующим, чем удрученным:
– Надо стойко выносить превратности судьбы, мой дорогой, и не дать им нас запугать. Надо играть свою роль до конца. Надо устоять перед бедой, Трот!
Глава XXXV
Уныние
Как только я обрел способность соображать, которая мне вначале изменила после ошеломительного сообщения бабушки, я предложил мистеру Дику направиться к мелочной лавке, чтобы воспользоваться кроватью, на которой еще совсем недавно спал мистер Пегготи. Мелочная лавка находилась на площади Хангерфордского рынка, а в те времена площадь Хангерфордского рынка была непохожа на теперешнюю – перед входом в дом находилась деревянная колоннада (вроде той, какая бывает на старинных барометрах перед домиком с фигурками мужчины и женщины), весьма понравившаяся мистеру Дику. Удовольствие проживать над таким сооружением вознаградило бы его, полагаю, за многие неудобства, а поскольку, в сущности, их было мало, если не считать упомянутых мной ароматов и крохотных размеров помещения, мистер Дик был очарован своей комнатой. Правда, миссис Крапп с негодованием объявила ему, что там и кошку негде повесить, но мистер Дик, усевшись на кровать и обхватив ногу руками, справедливо заметил, обращаясь ко мне:
– Но я совсем не хочу вешать кошку, Тротвуд. Я никогда не вешал кошек. Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне!
Я старался разузнать, известна ли мистеру Дику причина столь неожиданных и великих перемен в жизни бабушки. Но, как я и ожидал, он не имел об этом никакого понятия. Он мог сообщить мне только, что два дня назад бабушка обратилась к нему с такими словами: «Дик! Вы в самом деле философ, каким я вас считаю?» На это он ответил, что льстит себя этой надеждой. Тогда бабушка сказала: «Дик, я разорена». На это он ответил: «Ах, вот как!» А тогда бабушка горячо его похвалила, чему он очень обрадовался. И затем они отправились ко мне, а дорогой пили портер и ели сандвичи.
Мистер Дик был безмятежно спокоен, когда с удивленной улыбкой смотрел на меня широко открытыми глазами, сидя на кровати и обхватив руками ногу, и, к стыду своему должен признаться, я попробовал ему объяснить, что это разорение означает нужду, страдания и голод. Но тут же я горько раскаялся в своей жестокости: его лицо вдруг побледнело и вытянулось, слезы полились по щекам, и он устремил на меня такой невыразимо печальный взгляд, что от этого взгляда должно было смягчиться сердце куда более жестокое, чем мое. Гораздо легче было привести его в уныние, чем теперь снова развеселить. И тут я понял (мне следовало сообразить раньше), все его спокойствие проистекало единственно лишь из того, что он нерушимо верил в самую мудрую, самую удивительную женщину в мире и безоговорочно полагался на силу моего ума. Такой ум, по его мнению, мог справиться с любыми несчастьями, кроме, пожалуй, смерти.
– Что же нам делать, Тротвуд? – спросил мистер Дик. – У нас, правда, есть Мемориал…
– Да, да, я знаю, что есть! – сказал я. – Сейчас, мистер Дик, нам остается только сохранять беззаботный вид, – бабушка не должна заметить, что мы думаем об этом.
Он с жаром согласился со мной и стал умолять, чтобы я, если он свернет хотя бы на дюйм с правильного пути, вразумил его одним из тех хитроумных способов, какие всегда находятся в моем распоряжении. К сожалению, надо сказать, что страх, который я на него нагнал, был слишком силен, чтобы он мог его скрыть. В течение всего вечера он следил за бабушкой таким мрачным взглядом и с таким беспокойством, словно она чахла у него на глазах. Поймав себя на этом, он старался изо всех сил не качать головой, но зато вращал глазами так, словно они были заводные, а это было ничуть не лучше. За ужином я видел, что он смотрит на булку (которая случайно оказалась невелика) таким взглядом, точно она одна может спасти нас от голода. А когда бабушка настояла на том, чтобы он ел, как всегда, я подглядел, как он украдкой сует в карман куски хлеба и сыра, несомненно с единственной целью поддержать нас этими запасами, когда мы достигнем последней степени истощения.
Бабушка, напротив, сохраняла полное спокойствие – это был хороший урок для всех нас и прежде всего для меня. Она была очень приветлива с Пегготи, за исключением тех моментов, когда я нечаянно называл ее этим именем, и держала себя так, словно была дома, хотя я хорошо знал, как неуютно она чувствует себя в Лондоне. Спать она должна была на моей кровати, а я должен был лечь в гостиной, оберегая ее покой. Она считала крайне важным находиться поблизости от реки на случай пожара и в этом отношении, как мне кажется, была довольна.
– Трот, милый, не нужно! – сказала она, увидев, что я приготовляю напиток, который она обычно пила перед сном.
– Как, бабушка? Ничего не нужно?
– Вина не надо, дорогой мой. Эля.
– Но у меня, бабушка, есть вино. И вы всегда смешивали вино с водой.
– Сохрани его на случай болезни. Нельзя тратить вино попусту, Трот. Принеси мне эля. Полпинты, – сказала бабушка.
Мистер Дик, мне кажется, чуть не упал в обморок. Бабушка была непреклонна, и я сам пошел за элем. Этим удобным случаем воспользовались Пегготи и мистер Дик, чтобы отправиться в мелочную лавку, так как было уже поздно. Я расстался с ним, беднягой, когда он с огромным змеем за спиной стоял на углу улицы, – поистине памятник человеческой скорби.
Когда я вернулся, бабушка ходила по комнате и теребила оборку ночного чепца. Я подогрел эль и по заведенному порядку поджарил гренки. Когда все было для нее приготовлено, она тоже была готова, – на голове у нее был ночной чепец и подол капота подобран на колени.
– Мой милый, это гораздо лучше, чем вино, – сказала бабушка, проглотив полную ложку приготовленного питья. – И для печени полезнее.
Кажется, мой вид свидетельствовал, что я в этом не уверен, так как она добавила:
– Та-та-та, мой мальчик! Если все дело ограничится тем, что нам придется пить эль, будет превосходно.
– Я бы и сам так думал, бабушка, если бы это касалось меня, – сказал я.
– А почему же ты так не думаешь?
– Потому что вы и я разные люди, – ответил я.
– Глупости, Трот! – отрезала бабушка.
Бабушка продолжала прихлебывать с ложечки горячий эль, макая в него гренки с большим удовольствием, в котором не было ни капли притворства.
– Трот, как правило, я не люблю новые лица, – продолжала бабушка, – но твоя Баркис мне нравится.
– Эти слова для меня дороже золота, – сказал я.
– Какой странный мир! – заметила бабушка, потирая нос. – Я не в силах понять, как могла появиться на свет женщина с такой фамилией. Казалось бы, легче родиться с фамилией Джексон или какой-нибудь другой в этом роде.
– Возможно, что она с этим согласна. Но это не ее вина, – сказал я.
– Допускаю, что так, – сказала бабушка, по-видимому не очень довольная тем, что приходится соглашаться. – И все-таки это очень неприятно. Правда, теперь она Баркис. В этом есть некоторое утешение. Баркис любит тебя больше всех на свете, Трот.
– Она готова сделать все, чтобы это доказать, – сказал я.
– Да, пожалуй, все, – подтвердила бабушка. – Подумай только: эта глупая женщина умоляла меня взять часть ее денег, потому что у нее их слишком много. Вот дурочка!
Она прослезилась от умиления, и слезы закапали в горячий эль.
– Я никогда не видела более нелепого существа, – сказала бабушка. – С первой же минуты я поняла, что она самое нелепое существо, поняла, как только увидела ее с этим несчастным младенцем – с твоей матерью. Но в ней, в Баркис, есть много хорошего…
Притворившись, будто смеется, бабушка провела рукой по глазам. Покончив с этим, она снова вернулась к своим гренкам и к нашей беседе.
– Ах, господи помилуй, – вздохнула она. – Мне все известно, Трот. Когда вы ушли с Диком, Баркис мне все рассказала. Мне все известно. Понятия не имею, на что могут надеяться эти несчастные девушки. Лучше было бы им разбить себе голову… об… об каминную доску… – закончила она.
Должно быть, созерцание моей каминной доски подсказало ей эту идею.
– Бедная Эмили! – сказал я.
– Ох! Не говори мне, что она бедная! – отозвалась бабушка. – Прежде чем причинить всем столько горя, она должна была как следует подумать! Поцелуй меня, Трот. Как жалко, что тебе так рано довелось приобрести жизненный опыт.
Когда я потянулся к ней, она уперлась стаканом мне в колено, чтобы удержать меня, и сказала:
– О Трот, Трот! Так, значит, ты воображаешь, что влюблен?
– Воображаю, бабушка! Я обожаю ее всей душой! – воскликнул я, так покраснев, что дальше уж некуда было краснеть.
– Ну, разумеется! Дора! Так, что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна?
– О бабушка! Никто не может даже представить себе, какова она!
– А! И не глупенькая? – осведомилась бабушка.
– Глупенькая?! Бабушка!
Я решительно уверен, что ни разу, ни на один момент мне и в голову не приходило задуматься, глупенькая она или нет. Конечно, я отбросил эту мысль с возмущением. Тем не менее она поразила меня своей неожиданностью и новизной.
– Не легкомысленная? – спросила бабушка.
– Легкомысленная?! Бабушка!
Я мог только повторить это дерзкое предположение с тем же чувством, что и предыдущее.
– Ну, хорошо, хорошо… я ведь только спрашиваю, – сказала бабушка. – Я о ней плохо не отзываюсь. Бедные дети! И вы, конечно, уверены, что созданы друг для друга и собираетесь пройти по жизни так, словно жизнь – пиршественный стол, а вы – две фигурки из леденца? Верно, Трот?
Она задала мне этот вопрос так ласково и с таким видом, шутливым и вместе с тем печальным, что я был растроган.
– Бабушка! Я знаю, мы еще молоды и у нас нет опыта, – сказал я. – Я не сомневаюсь, что мы, может быть, говорим и думаем о разных глупостях. Но мы любим друг друга по-настоящему, в этом я уверен. Если бы я мог предположить, что Дора полюбит другого или разлюбит меня, или я кого-нибудь полюблю или разлюблю ее – я не знаю, что бы я стал делать… должно быть, сошел бы с ума!
– Ох, Трот! Слепой, слепой, слепой! – мрачно сказала бабушка, покачивая головой и задумчиво улыбаясь. – Один мой знакомый, – продолжала она, помолчав, – несмотря на мягкий свой характер, способен на глубокое, серьезное чувство, напоминая этим свою покойную мать. Серьезность – вот что этот человек должен искать, – чтобы она служила ему опорой и помогала совершенствоваться, Трот. Глубокий, прямой, правдивый, серьезный характер!
– О, если бы вы только знали, как Дора серьезна! – воскликнул я.
– Ах, Трот! Слепой, слепой! – повторила она.
Сам не знаю почему, но мне почудилось, будто надо мной нависло облако, словно я что-то утратил или чего-то мне не хватает.
– Но все-таки я не хочу, чтобы два юных существа разочаровались друг в друге или стали несчастны, – продолжала бабушка, – и, хоть это любовь детская, а детская любовь очень часто – я не говорю, что всегда! – ни к чему не приводит, отнесемся к ней серьезно и будем надеяться на благополучный исход. Времени впереди еще довольно.
В общем, это было не очень утешительно для восторженного влюбленного, но я был рад, что бабушка посвящена в мою тайну; тут я сообразил, что она, вероятно, утомилась. Я горячо ее поблагодарил за любовь ко мне и за все ее благодеяния, а она нежно пожелала мне спокойной ночи и унесла свое питье в мою спальню.
Каким я чувствовал себя несчастным, когда улегся в постель! Сколько я думал о том, что теперь в глазах мистера Спенлоу я бедняк; о том, что я совсем не таков, каким себя воображал, когда делал предложение Доре; о том, что честь заставляет меня сообщить Доре об изменившемся моем положении в обществе и вернуть ей слово, если она этого пожелает; о том, как ухитрюсь я прожить, пока прохожу обучение, когда я ничего не зарабатываю; о том, как помочь бабушке, когда все пути к этому были для меня закрыты!.. Сколько я думал о том, что останусь без денег, вынужден буду ходить в потертом костюме, не смогу подносить Доре маленьких подарков, не смогу гарцевать на красивом скакуне серой масти и показывать себя в наиболее выгодном свете! Жалкий я был эгоист, и понимал это, и мучился тем, что так много думаю о собственном своем несчастье… Но я был влюблен в Дору и ничего не мог поделать. Я знал, что низко с моей стороны думать так мало о бабушке и так много о себе, но мое себялюбие неотделимо было от Доры и я не мог забыть Дору из-за любви к кому бы то ни было. Как я был страшно несчастен в эту ночь!