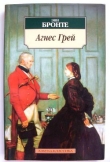Текст книги "Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Книга 2"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Глава LXI
Мне показывают двух интересных раскаявшихся заключенных
Временно, – во всяком случае до той поры, пока я закончу книгу, что должно было занять несколько месяцев, – я поселился в Дувре у бабушки; там я и работал у того самого окна, откуда глядел на луну, вставшую над морем, в те дни, когда впервые появился под этим кровом, ища убежища.
Я не хочу отступать от своего решения касаться своих художественных произведений лишь постольку, поскольку они могут быть случайно связаны с ходом этого повествования, и потому не стану говорить на этих страницах о надеждах, радостях, трудностях и удачах моей писательской жизни. О том, что я целиком отдавался своей работе и вкладывал в нее всю мою душу, мне уже приходилось упоминать. Если мои книги чего-нибудь стоят, мне нечего к этому прибавить. А если им цена невелика, кому интересно все, что я могу о них сказать?
Изредка я приезжал в Лондон – окунуться в его кипучую жизнь или посоветоваться с Трэдлсом по какому-нибудь деловому вопросу. Во время моего отсутствия он очень умело вел мои дела, и они находились в прекрасном состоянии. Я приобрел известность, на мое имя приходило огромное количество писем от неведомых мне людей – большей частью это были письма бог весть о чем, на которые и отвечать-то было нечего, – и я не возражал против предложения Трэдлса повесить на двери его квартиры табличку с моим именем. Туда и доставлял надежный почтальон груды писем, и там, время от времени, я в них погружался, не щадя сил, как министр внутренних дел, но не получая за это никакого вознаграждения.
Среди них довольно часто попадались письма, а которых бесчисленные ходатаи по делам, шнырявшие вокруг Докторс-Коммонс, любезно предлагали выступать под моим именем (если я согласился бы купить себе звание проктора), уплачивая мне определенную часть своих доходов. Но все эти предложения я отклонял; мне было известно, что несть числа таким подпольным юристам, а Докторс-Коммонс и так достаточно плох, чтобы у меня возникло желание сделать его еще хуже.
Сестры Софи уехали еще до той поры, когда мое имя украсило дверь Трэдлса, и смышленый подросток делал вид, будто понятия не имеет о существовании Софи, которая заключена была в заднюю комнатку, откуда, отрываясь от работы, она могла увидеть уголок закопченного садика, где находился насос. Там я всегда и заставал ее, очаровательную хозяйку, и когда никто не подымался по лестнице, она услаждала наш слух пением девонширских баллад, умиротворяя мелодией смышленого подростка, сидевшего в конторе.
Сначала я не понимал, почему так часто застаю Софи за столом: она что-то писала в тетради, а при моем появлении быстро запирала ее в ящик. Но скоро тайна открылась.
В один прекрасный день Трэдлс, только что пришедший из суда, вынул из своего бюро лист бумаги и спросил, что я могу сказать об этом почерке.
– Ох, Том, не надо! – воскликнула Софи, которая нагревала у камина его туфли.
– Почему же не надо, моя дорогая? – спросил Том, и в тоне его было восхищение. – Ну, что вы думаете, Копперфилд, об этом почерке?
– Удивительно подходящий для деловых бумаг почерк, – сказал я. – Я никогда не видал такой твердой руки.
– Правда, это не женский почерк? – спросил Трэдлс.
– Женский почерк? – повторил я. – Да что вы! Этот почерк тверд как камень.
Трэдлс от восторга захохотал и сообщил, что это почерк Софи. Да, это писала Софи, она поклялась, что скоро ему не нужен будет переписчик, так как бумаги станет переписывать она, а этот почерк она приобрела, копируя прописи, и теперь пишет… не помню сколько страниц в час. Софи очень сконфузилась при этих словах и сказала, что, когда Тома назначат судьей, он не станет так, как сейчас, кричать о ней на всех перекрестках. Том это отрицал. Он утверждал, что будет по-прежнему ею гордиться.
– Какая у вас добрая и очаровательная жена, дорогой Трэдлс! – сказал я, когда она, посмеиваясь, вышла из комнаты.
– О мой дорогой Копперфилд, это самая чудесная женщина! Как она всем здесь управляет! Как она аккуратна и бережлива, как она любит порядок и какая домовитая! А какая веселая, Копперфилд! – воскликнул Трэдлс.
– Она заслуживает этих похвал, – сказал я. – Вы счастливец, Трэдлс. Вы оба, мне кажется, самые счастливые люди на свете.
– Вот это верно – мы самые счастливые люди! – согласился Трэдлс. – Вы только подумайте. Она встает при свечах, когда еще темно, делает уборку, идет на рынок в любую погоду, когда клерки еще не появились в Инне, готовит из самых дешевых продуктов вкусный обед, печет пудинги и пироги, наводит повсюду порядок, заботится о своей внешности, сидит со мной по вечерам, как бы это ни было поздно, всегда бодрая, всегда в хорошем расположении духа. И все это ради меня. Честное слово, Копперфилд, иногда я не могу этому поверить!
Трэдлс был проникнут нежностью даже к туфлям, которые она ему согрела: он надел их и с наслаждением положил ноги на каминную решетку.
– Иногда я не могу этому поверить, – повторил он. – А наши развлечения! Нам они дорого не стоят, но как мы веселимся! Когда мы по вечерам дома и запираем входную дверь и опускаем эти шторы… это она их сшила… как у нас уютно! А если погода хорошая и мы вечером идем погулять, как мы развлекаемся на улицах! Мы останавливаемся у освещенных витрин ювелирных лавок. Я показываю Софи, какую змейку с бриллиантовыми глазками – она, знаете ли, лежит, свернувшись, на белом шелку – я подарил бы ей, если бы смог купить. А Софи показывает мне, какие золотые часы с крышкой, украшенной драгоценностями, она подарила бы мне, если бы только могла… И тут мы выбираем себе ложки, вилки, лопатки для рыбы, десертные ножи, сахарные щипцы, которые мы непременно купили бы, если бы могли. А потом идем дальше очень довольные, словно в самом деле нее это приобрели. Когда же мы попадаем на площади и на главные улицы и видим дома, которые сдаются внаем, мы их внимательно разглядываем и иногда спрашиваем себя: а подошел бы нам этот дом, если бы меня назначили судьей? Потом мы начинаем в нем устраиваться: эта комната – нам, та комната – сестрам и так далее. И решаем, подошел бы дом или нет. А иногда мы идем за полцены в театр, [44]44
…идем за полцены в театр… – то есть после начала вечернего представления, когда к 9 часам вечера не проданные ранее билеты продавались в театрах за полцены.
[Закрыть]в партер… На мой взгляд, не жалко заплатить деньги только за то, чтобы подышать его воздухом… И наслаждаемся пьесой как только возможно. Софи верит каждому слову на сцене, да и я тоже. По дороге домой мы покупаем в кухмистерской малую толику чего-нибудь или, скажем, омара у торговца рыбой, приносим сюда и устраиваем великолепный ужин. А за ужином вспоминаем все, что видели. Ну, скажите, Копперфилд, могли бы мы проводить время так хорошо, будь я лорд-канцлером?
«Кем бы вы ни были, дорогой Трэдлс, у вас все получалось бы мило и хорошо», – подумал я и сказал:
– Кстати, теперь вы больше не рисуете скелеты?
Трэдлс захохотал и покраснел.
– Если говорить правду, Копперфилд, случается… Как-то мне пришлось сидеть в задних рядах в Суде Королевской Скамьи, в руках у меня было перо, и мне взбрело в голову попробовать, не разучился ли я этому делу. Ох, боюсь, на краю пюпитра красуется теперь скелет… в парике!
Мы оба захохотали. Трэдлс посмотрел, улыбаясь, на огонь в камине и сказал знакомым мне тоном, в котором слышалось всепрощение:
– Старина Крикл!
– Вот письмо от этого… негодяя, – отозвался я.
Меньше всего был я склонен простить Криклу его привычку колотить Трэдлса, видя, что сам Трэдлс готов ему это простить.
– От Крикла? От владельца школы? – вскричал Трэдлс. – Не может быть!
– И его так же, как и многих других, прельстили некоторая моя известность и заработок, – сказал я, поднимая глаза от вороха писем. – И он также обнаружил, что всегда любил меня. Теперь у него нет школы, Трэдлс. Он теперь мировой судья Мидлсекса. [45]45
…мировой судья Мидлсекса. – Мидлсекс – небольшое графство, в которое раньше территориально входил и Лондон, издавна выделенный в особую муниципально-административную единицу, а с 1888 года образовавший самостоятельное Лондонское графство. Мировые судьи графств во времена Диккенса имели широкие административные права.
[Закрыть]
Я ждал, что Трэдлс удивится, но он нисколько не был удивлен.
– Как он мог стать судьей Мидлсекса? Что вы об этом думаете? – спросил я.
– О боже мой! – воскликнул Трэдлс. – На этот вопрос нелегко ответить. Может быть, он за кого-нибудь голосовал или кому-нибудь дал взаймы денег… А может быть, у кого-нибудь что-нибудь купил или кому-нибудь оказал услугу, а тот был знаком с кем-нибудь, и этот «кто-нибудь» попросил лорд-наместника графства назначить Крикла на эту должность.
– Во всяком случае, теперь он эту должность занимает, – сказал я. – И он мне пишет, что был бы рад показать мне единственно правильную систему, обеспечивающую поддержание дисциплины в тюрьмах – единственно непогрешимый способ достигнуть искреннего раскаяния заключенных… и этот способ, оказывается, – одиночное заключение. Что вы скажете?
– Об этой системе? – нахмурившись, спросил Трэдлс.
– Нет. Принимать мне это предложение? И пойдете ли вы со мной?
– Не возражаю, – сказал Трэдлс.
– Тогда я ему так и напишу. Вы помните, как этот Крикл – не буду говорить об обращении его с нами – выгнал из дому своего сына? И помните, какую жизнь он заставил вести свою жену и дочь?
– Прекрасно помню, – сказал Трэдлс.
– А если вы прочтете его письмо, вы обнаружите, что это самый мягкий человек, когда речь идет о преступниках, заключенных в тюрьму и виновных решительно по всех преступлениях. Но на других представителей рода человеческого его мягкость не простирается.
Трэдлс пожал плечами, он нисколько не был удивлен; впрочем, я не ждал, что он будет удивлен, да я и сам не удивился, ибо в противном случае следовало признать, что мои знания уродливых жизненных явлений крайне недостаточны. Мы сговорились о дне нашего посещения и в тот же вечер я написал мистеру Криклу.
В назначенный день – кажется, на следующий день, но это неважно, – мы с Трэдлсом отправились в тюрьму, где мистер Крикл был лицом всемогущим. Это было огромное, внушительное здание, стоившее весьма недешево. Когда я подходил к воротам, у меня мелькнула мысль: ну и шум бы поднялся, если бы какой-нибудь простак предложил истратить половину тех денег, которых стоило это здание, на постройку ремесленной школы для юношей или богадельни для достойных старцев.
В тюремной канцелярии, которая могла бы находиться в нижнем этаже Вавилонской башни, – столь солидна была вся постройка, – мы встретились с нашим старым школьным учителем. С ним было два-три деловых на вид чиновника и несколько посетителей, которых те привели с собой. Он принял меня как человек, воспитавший в былые времена мой ум и нежно меня любивший. Когда я представил ему Трэдлса, он тем же тоном, но менее восторженно заявил, что был руководителем, учителем и другом Трэдлса. Наш уважаемый наставник значительно постарел, но внешность его от этого не выиграла. Лицо по-прежнему было злое, глазки такие же маленькие и еще более заплывшие. Сальные, редкие, с проседью волосы, – такие для меня памятные! – почти совсем исчезли, а вздувшиеся вены не очень красили голый череп.
После недолгой беседы с этими джентльменами я мог предположить, что на свете нет ничего более важного, чем забота о комфорте арестантов, чего бы этот комфорт ни стоил, и что на всем земном шаре за стенами тюрьмы делать решительно нечего. Затем мы начали осмотр. Был обеденный час, и прежде всего мы направились в огромную кухню, где с точностью часового механизма приготовляли обед, – для каждого заключенного особо, – который затем относили в камеры. Я шепотом сказал Трэдлсу, что меня удивляет разительный контраст между этой обильной трапезой и обедом (о бедняках я уже не говорю) солдат, матросов, крестьян да и всего честного трудового люда: из пятисот человек ни один не имел обеда, хоть сколько-нибудь напоминавшего этот. Но я узнал, что «система» требовала хорошей пищи, и, – короче говоря, чтобы раз навсегда покончить с этой системой, – я обнаружил, что в этом отношении, как и во всех прочих, она пресекала решительно все сомнения и не имела никаких недостатков. По-видимому, никому и в голову не приходило, что может быть другая система, кроме вышеупомянутой.
Пока мы шли великолепным коридором, я спросил у мистера Крикла и его друзей, в чем заключаются главные преимущества этой всемогущей и самой передовой системы. В ответ я услышал, что эти преимущества заключаются в строгой изоляции арестанта – ни один заключенный ничего не должен знать о других – и в оздоровлении его души, а следствием такого режима является сожаление о совершенном и раскаяние.
Но когда мы посетили заключенных в их камерах, проходя коридорами, с которыми эти камеры сообщаются, и узнали, каким путем они идут в тюремную церковь, я стал подозревать, что арестанты могут узнать решительно все друг о друге и легко между собой общаться. Теперь, когда я пишу, думается мне, это вполне доказано, но тогда – во время моего посещения – такое подозрение сочли бы глупым кощунством, оскорбляющим «систему», и я старательно пытался обнаружить в арестантах раскаяние.
Тут меня снова одолели сомнения. Я установил, что раскаяние рядилось в костюм одного и того же образца, подобно тому как по одному образцу были сшиты сюртуки и жилеты, выставленные в лавках готового платья за стенами тюрьмы. Я установил, что многочисленные излияния арестантов весьма мало различаются по своему характеру и даже форме (а это уже совсем подозрительно). Я нашел много лисиц, говоривших с пренебрежением о виноградниках, где на каждом кусте в изобилии висят спелые гроздья; но я не нашел ни одной лисицы, которую можно было бы подпустить хотя бы к одной виноградной кисти. А кроме того, я пришел к заключению, что наиболее сладкоречивые люди привлекали к себе наибольшее внимание, и сметливость этих людей, тщеславие, отсутствие развлечений, любовь ко лжи (у многих из них она безгранична, в чем можно убедиться, зная их прошлую жизнь) – все это толкало их к упомянутым выше излияниям и приносило им немалую выгоду.
Но пока мы делали обход, мне так настойчиво говорили о Номере Двадцать Седьмом, который, несомненно, был фаворитом и, так сказать, образцовым заключенным, что я решил не выносить окончательного приговора до лицезрения этого Двадцать Седьмого Номера. Номер Двадцать Восьмой, как я узнал, тоже был блестящей звездой, но, на его беду, слава его несколько тускнела в ослепительных лучах Номера Двадцать Седьмого. О Номере Двадцать Седьмом мне столько наговорили – о его благочестивых наставлениях всем и каждому и о замечательных письмах, которые он постоянно пишет своей матери (по его мнению, она шла дурным путем), что мне не терпелось его повидать.
Свое нетерпение мне пришлось умерить, ибо Номер Двадцать Седьмой приберегали для заключительного эффекта. Но, наконец, мы подошли к двери его камеры, и мистер Крикл, заглянув в глазок, с восторгом сообщил, что Номер Двадцать Седьмой читает сборник гимнов.
К двери немедленно устремилось столько народу, чтобы увидеть Номер Двадцать Седьмой, погруженный в чтение гимнов, что голов шесть-семь заслонили от меня глазок. Дабы устранить это неудобство, дать нам возможность поговорить с Номером Двадцать Седьмым и убедиться в его непорочности, мистер Крикл приказал отомкнуть дверь камеры и вызвать Номер Двадцать Седьмой в коридор. Это было исполнено. И каково же было удивление мое и Трэдлса, когда перед нами предстал… Урия Хип!
Выйдя из камеры, он мгновенно нас узнал и сейчас же, извиваясь, как в прежние времена, проговорил:
– Как поживаете, мистер Копперфилд? Как поживаете, мистер Трэдлс?
Это знакомство изумило всю компанию. Каждый из присутствующих, думается мне, был восхищен тем, что он отнюдь не возгордился и нас узнал.
– Так-так, Номер Двадцать Седьмой… – произнес мистер Крикл; выражение лица у него было сентиментальное, он любовался Урией. – В каком вы состоянии сегодня?
– Я очень смиренен, сэр! – отвечал Урия Хип.
– Вы всегда смиренны, Номер Двадцать Седьмой! – заметил мистер Крикл.
Тут вмешался другой джентльмен; он спросил крайне озабоченно:
– А вы вполне довольны?
– Вполне. Благодарю вас, сэр, – взглянув на него, сказал Урия Хип. – Я никогда не был так доволен, как сейчас. Теперь я вижу, какой я был безрассудный. Вот почему я доволен.
На джентльменов эти слова произвели большое впечатление. Третий джентльмен, вытянув шею, с чувством спросил:
– А мясо вам нравится?
– Благодарю вас, сэр, – ответил Урия, переводя на него глаза. – Вчера оно было жестковато, но мой долг – не роптать. Я совершал безрассудства, джентльмены, – продолжал Урия с бледной улыбкой, – и должен безропотно нести все последствия.
Джентльмены зашептались между собой – они были восхищены тем, что дух Номера Двадцать Седьмого парит в небесах, а также возмущены поставщиком, давшим Урии основание для жалобы (мистер Крикл немедленно ее записал). А тем временем Номер Двадцать Седьмой стоял среди нас с таким видом, словно был самым ценным экспонатом в известнейшем музее. Но вот, чтобы сразу нас, неофитов, ослепить, был отдан приказ выпустить из камеры Номер Двадцать Восьмой.
Я так уже был изумлен, что почти не удивился, когда из камеры вышел мистер Литтимер, погруженный в чтение какой-то душеспасительной книги.
– Номер Двадцать Восьмой! – обратился к нему доселе молчавший джентльмен в очках. – На прошлой неделе, старина, вы жаловались на какао. А как обстоит дело теперь?
– Благодарю, сэр, теперь стало лучше, – сказал мистер Литтимер. – Прошу прощения за смелость, сэр, но все же я должен сказать, что молоко, на котором оно сварено, разбавлено. Впрочем, сэр, мне известно, что в Лондоне сильно разбавляют молоко и добыть цельное молоко затруднительно.
Джентльмен в очках, как мне показалось, ставил ставку на свой Номер Двадцать Восьмой против Номера Двадцать Седьмого мистера Крикла: каждый из них выдвигал своего фаворита.
– В каком вы расположении духа, Номер Двадцать Восьмой? – спросил джентльмен в очках.
– Благодарю вас, сэр, – отозвался мистер Литтимер. – Теперь я вижу, какой я был безрассудный. Я очень огорчаюсь, когда думаю о прегрешениях моих прежних приятелей. Но, я надеюсь, они заслужат прощение.
– И теперь вы вполне счастливы? – спросил джентльмен в очках и кивнул головой, дабы приободрить мистера Литтимера.
– Премного обязан, сэр. Вполне! – откликнулся мистер Литтимер.
– Может быть, у вас есть что-нибудь на душе? Говорите, Номер Двадцать Восьмой! – продолжал джентльмен в очках.
– Сэр! – не поднимая головы, сказал мистер Литтимер. – Если мне глаза не изменяют, здесь находится джентльмен, который когда-то знал меня. Этому джентльмену полезно будет услышать, сэр, что своим прошлым безрассудством я целиком обязан моей легкомысленной жизни на службе у молодых людей. Я позволял им склонять меня к слабостям, с которыми не мог бороться. Надеюсь, что джентльмену пойдет на пользу это предупреждение, сэр, и он не будет на меня в обиде. Это я говорю для его блага. Я сознаю свои прошлые безрассудства. Надеюсь, он раскается в своих ошибках и прегрешениях.
Кое-кто из джентльменов прикрыл рукой глаза, словно только что перешагнул порог церкви.
– Это делает вам честь, Номер Двадцать Восьмой, – заметил джентльмен в очках. – Я ждал этого от вас. Не хотите ли вы еще что-нибудь сказать?
– Сэр! Есть одна молодая женщина, вступившая на дурной путь, которую я пытался спасти, сэр, но это мне не удалось, – продолжал мистер Литтимер, слегка приподнимая брови, но по-прежнему не поднимая глаз. – Я прошу джентльмена, если он может и будет столь любезен, передать этой молодой женщине, что я прощаю ей вину ее передо мной и призываю ее раскаяться…
– Не сомневаюсь, Номер Двадцать Восьмой, джентльмен, к которому вы взываете, глубоко чувствует то, что вам удалось так хорошо выразить, и все мы должны это почувствовать, – сказал в заключение джентльмен в очках. – Мы вас больше не задерживаем.
– Благодарю вас, сэр, – сказал мистер Литтимер. – Позвольте пожелать вам, джентльмены, доброго здравия. Надеюсь, вы вместе с вашими близкими узрите свои прегрешения и исправитесь!
С этими словами Номер Двадцать Восьмой удалился, обменявшись взглядом с Урией. Похоже было на то, что они нашли способ сообщаться между собой и знали друг друга. А когда за мистером Литтимером захлопнулась дверь камеры, вокруг меня зашептались о том, что это человек весьма респектабельный и этот случай заслуживает всяческого внимания.
– Ну, а вы, Номер Двадцать Седьмой, скажите, что мы для вас можем сделать? – заговорил мистер Крикл, выдвигая на опустевшую сцену своего фаворита. – Говорите!
– Смиренно прошу вас, сэр, разрешите мне еще написать матери, – сказал Урия, тряхнув гнусной головой.
– Это разрешение, конечно, будет дано, – вымолвил мистер Крикл.
– Как я вам благодарен, сэр! Я так беспокоюсь о моей матери. Боюсь, она не спасется. Кто-то неосторожно спросил:
– От кого?
На него зашикали. Все были явно возмущены.
– За гробом, сэр, – извиваясь, ответил Урия. – Мне хотелось бы, чтобы у моей матери было такое же душевное состояние, как у меня. Если бы я сюда не попал, я не был бы в таком состоянии. Я хочу, чтобы сюда попала и моя мать. Какое счастье для каждого попасть сюда!
Это пожелание доставило джентльменам превеликое удовольствие – большее удовольствие, чем все, что здесь до сей поры происходило.
– Прежде чем я здесь очутился, – продолжал Урия, искоса бросая на нас взгляд, способный испепелить весь мир, в котором мы жили, – я вел себя как человек безрассудный. Но теперь я осознал свое безрассудство. В мире много греха. И моя мать тоже повинна в грехе. Всюду один только грех – всюду, но не здесь.
– Значит, вы совсем изменились? – осведомился мистер Крикл.
– О господи! Да, сэр! – воскликнул обращенный, подававшим столь большие надежды.
– А если вы выйдете отсюда, вы снова не собьетесь с пути? – спросил кто-то.
– О го…споди! Нет, сэр!
– Это очень приятно слышать, – сказал мистер Крикл. – Вы поздоровались, Номер Двадцать Седьмой, с мистером Копперфилдом. Может быть, вы хотите ему что-нибудь сказать?
– Вы знали меня, мистер Копперфилд, задолго до того, как я сюда попал и здесь изменился, – обратился ко мне Урия и поглядел на меня так, что более мерзкого выражения лица мне же приходилось ни у кого видеть, даже у него. – Вы меня знали, когда, несмотря на свои безрассудства, я был смиренным с гордецами и кротким с людьми необузданными. Необузданны были вы, мистер Копперфилд. Помните, однажды вы дали мне пощечину?
Сострадание у всех на лицах. Кто-то бросает на меня негодующий взгляд.
– Но я прощаю вам, мистер Копперфилд, – продолжал Урия, кощунственно и чудовищно сравнивая себя, всепрощающего, с Тем, имя которого я не буду здесь называть. [46]46
…чудовищно сравнивая себя… с Тем, имя которого… – то есть с Христом, учившим: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (евангелие от Матфея, V, 39)
[Закрыть]– Я всем прощаю. Не к лицу мне быть злопамятным. Я прощаю вам и надеюсь, что в будущем вы обуздаете свои страсти. Надеюсь, что раскается и мистер У., и мисс У., и все остальные из этой греховной компании. Вас постигло несчастье, надеюсь, это пойдет вам на пользу. Но лучше, если вы попадете сюда. И для мистера У. и для мисс У. будет лучше, если они попадут сюда. Я от души желаю вам, мистер Копперфилд, и всем вам, джентльмены, очутиться здесь. Когда я думаю о своем прошлом безумии и о теперешнем своем состоянии, я уверен, это будет самое для вас лучшее. Как мне жаль всех, кто еще не попал сюда!
Под шум одобрительных возгласов он проскользнул в свою камеру, и мы с Трэдлсом почувствовали великое облегчение, когда за ним заперли дверь.
Это раскаяние было весьма примечательно, что и побудило меня спросить, за какие преступления осуждены эти два человека. Но, несомненно, этот вопрос интересовал джентльменов меньше всего. Тогда я обратился к одному из двух сторожей; по их лицам я заключил, что они прекрасно понимают, чего стоит вся эта болтовня.
– Вам известно, какое преступление было последним «безрассудством» Номера Двадцать Седьмого? – спросил я сторожа, когда мы шли по коридору.
Он ответил, что какое-то преступление, связанное с банком.
– Мошенничество?
– Да, сэр. Мошенничество, подлог и участие в шайке. Он был не один. Это он подбил остальных. Злоумышление на большую сумму. Приговор – каторжные работы пожизненно. Номер Двадцать Седьмой – продувная бестия, он чуть-чуть было не выкрутился, а все-таки не вышло. Банку удалось схватить его за хвост… но это было нелегко.
– А вы что-нибудь знаете о преступлении Номера Двадцать Восьмого?
– Номер Двадцать Восьмой… – начал шепотом сторож, пока мы шли по коридору, и поглядел через плечо назад, боясь, не услышит ли Крикл и компания, как он непозволительно отзывается об этих непорочных созданиях. – Номер Двадцать Восьмой – он тоже приговорен к каторжным работам пожизненно – поступил на службу к молодому человеку и накануне отъезда за границу ограбил его на двести пятьдесят фунтов. Я хорошо помню это дело, потому что преступника задержала карлица.
– Кто?
– Крошечная женщина. Забыл ее фамилию.
– Не Моучер ли?
– Вот-вот! Он улизнул и собирался отправиться в Америку. Он был в белокуром парике и с баками, право же, вам никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так менялся. Но в Саутгемптоне крошечная женщина встретила его на улице, сразу узнала, бросилась ему под ноги, он упал, а она вцепилась в него прямо как смерть!
– Какая прелесть эта мисс Моучер! – воскликнул я.
– Вы бы то же самое сказали, если бы увидели, как она стояла на стуле в ложе для свидетелей во время суда. Когда она его схватила, он исполосовал ей лицо и зверски избил, но она его не отпускала, пока его не заперли на замок. Она так в него вцепилась, что полицейским пришлось забрать их вместе. Вы послушали бы, как она смело давала показания! Весь суд ее хвалил, а потом ее доставили прямо домой. На суде она заявила, что, будь он Самсон, а у нее только одна рука, все равно она задержала бы его – так много дурного она о нем знает. И я думаю, что это так.
Я был того же мнения и почувствовал к мисс Моучер большое уважение.
Итак, мы осмотрели все, что полагалось. Тщетно было бы убеждать достойного мистера Крикла, что Номера Двадцать Седьмой и Двадцать Восьмой нисколько не изменились, что они остались такими же, как раньше, и что именно здесь лицемерные мошенники и должны делать такого рода излияния; во всяком случае, не хуже, чем мы, они знают рыночную цену таких излияний и знают, какую службу они им сослужат за океаном. Короче говоря, все это вместе взятое было дутой, гадкой затеей, наводившей на прискорбные мысли. Мы покинули их с их «системой» и, ошеломленные, отправились домой.
– Быть может, не худо, Трэдлс, – сказал я, – что они помешались на этой дурацкой выдумке. Тем скорей с ней будет покончено.
– Надеюсь, что так, – отозвался Трэдлс.