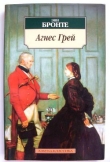Текст книги "Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Книга 2"
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц)
Что случилось?
– Мистер Дэви…
О, несчастный, как горько он зарыдал!
Я оцепенел при виде такого горя. Не знаю, о чем я тогда подумал, чего ужаснулся. Я мог только смотреть на него.
– Хэм! Бедный мой Хэм! Ради бога, скажите мне, что случилось!
– Моя любовь, мистер Дэви… радость и надежда моего сердца… Ради нее я готов был отдать жизнь, отдал бы и теперь… она ушла!
– Ушла!
– Эмли убежала! О мистер Дэви, подумайте, как она убежала, если я молю сейчас милосердного бога убить ее (а она мне дороже всего на свете), только бы не дать ей дойти до бесчестья и погибели!
Его лицо, обращенное к затянутому облаками небу, его крепко стиснутые дрожащие руки, его страдальческий вид остаются и по сей день в моих воспоминаниях неразрывно связанными с этим пустынным берегом. Здесь всегда ночь, и он – единственное живое существо на берегу.
– Вы человек ученый, вы знаете, как лучше поступить, – торопливо продолжал он. – Что мне сказать там, дома? Мистер Дэви, как объявлю я об этом ему?
Я увидел, что дверь приоткрывается, и инстинктивно сделал попытку придержать щеколду, чтобы выиграть время. Слишком поздно! Мистер Пегготи высунул голову, и никогда не забыть мне, как изменилось его лицо, едва он увидел нас, – никогда, хотя бы я прожил пятьсот лет.
Помню громкий стон и крик, помню женщин, бросившихся к нему, и вот мы все стоим в комнате. У меня в руке записка, которую дал мне Хэм. А у мистера Пегготи расстегнут жилет, волосы взъерошены, лицо и губы совсем белые, и кровь тоненькой струйкой стекает по его груди (вероятно, она брызнула у него изо рта); он пристально смотрит на меня.
– Читайте, сэр, – тихим, дрожащим голосом сказал он. – Медленно, прошу вас. Не знаю, смогу ли я понять…
Среди мертвой тишины я стал читать закапанное слезами письмо:
– "Когда ты, любящий меня гораздо больше, чем я того заслуживала даже в то время, когда мое сердце было невинно, получишь это письмо, я буду очень далеко".
– Я буду очень далеко, – медленно повторил он. – Постойте! Эмли очень далеко. Читайте!
– "Когда я покину завтра утром мой любимый дом-любимый дом… о да, мой любимый дом…"
Письмо было написано, судя по пометке, вчера вечером.
– "…я его покину, чтобы никогда не возвращаться, если он не привезет меня сюда настоящей леди. Ты найдешь это письмо спустя много часов завтра вечером. О, если бы ты знал, как разрывается у меня сердце! Если бы ты, которому я причинила такое зло, что никогда не простить тебе меня, если бы ты только мог знать, как я страдаю! Но я слишком большая грешница, чтобы писать о себе. Пусть утешит тебя мысль, что я такая плохая. Ради господа бога скажи дяде, что никогда еще я так горячо не любила его, как теперь. Ох, не вспоминай о том, как вы все были ласковы и добры ко мне… не вспоминай о том, что мы с тобой должны были пожениться, но постарайся думать обо мне так, как будто я умерла, когда была маленькой, и меня где-то похоронили. Молю небеса, которых я недостойна, сжалиться над моим дядей! Скажи ему, что я никогда еще не любила его так горячо. Будь ему утешением. Полюби какую-нибудь честную девушку, которая будет верна тебе и достойна тебя, а для дяди станет тем, чем была когда-то я. И пусть в вашей жизни не будет иного позора, чем тот, который принесла вам я! Да благословит бог всех вас! Я часто буду на коленях молить бога за вас. Если он не привезет меня назад настоящей леди и я не смогу больше молиться за себя, я буду молиться за вас. Мой прощальный нежный привет дяде. Мои последние слезы и последняя моя благодарность дяде!"
Это было все.
Я давно уже перестал читать, а мистер Пегготи все стоял и смотрел на меня. Наконец я решился взять его за руку и, как мог, стал умолять, чтобы он попытался овладеть собой. Он ответил: «Благодарю вас, сэр, благодарю вас», – и не пошевельнулся.
Хэм заговорил с ним. Мистер Пегготи почувствовал его скорбь и стиснул ему руку, но продолжал стоять все в той же позе, и никто не смел его потревожить.
Наконец он медленно, словно оторвавшись от какого-то видения, отвел глаза от моего лица и обвел взглядом комнату. Потом тихим голосом сказал:
– Кто этот человек? Я хочу знать его имя.
Хэм взглянул на меня, и я пошатнулся словно от удара.
– Ты кого-то подозреваешь? – спросил мистер Пегготи. – Кто он?
– Мистер Дэви! – взмолился Хэм. – Выйдите на минутку, а я скажу ему то, что должен сказать. Не годится вам это слушать, сэр.
Снова я пошатнулся. Опустившись на стул, я попытался что-то ответить, но язык у меня онемел, а в глазах помутилось.
– Я хочу знать его имя! – снова услышал я.
– Последнее время… – заикаясь, начал Хэм, – сюда наезжал… один человек, слуга. И еще бывал здесь один джентльмен. Они были заодно.
Мистер Пегготи по-прежнему стоял неподвижно, но теперь он смотрел на Хэма.
– Слугу видели вчера вечером… с нашей бедной девочкой, – продолжал Хэм. – Всю эту неделю или побольше того он где-то здесь прятался. Думали, он уехал, а он прятался. Не оставайтесь здесь, мистер Дэви, не оставайтесь!
Я почувствовал, как рука Пегготи обвилась вокруг моей шеи, но я не смог бы двинуться с места, даже если бы потолок грозил обрушиться мне на голову.
– Сегодня утром, когда еще не совсем рассвело, за городом на Норвичской дороге видели чью-то карету и лошадей, – продолжал Хэм. – К ней направился слуга, потом ушел, потом появился снова. Когда он появился снова, с ним была Эмли. Тот, другой, сидел в карете. Это тот самый человек.
– Ради бога! – пробормотал мистер Пегготи, отшатнувшись и вытянув руку, словно хотел отстранить от себя что-то, чего он страшился. – Не говорите мне, что его имя – Стирфорт!
– Мистер Дэви! – дрожащим голосом воскликнул Хэм. – Вашей вины тут нет… у меня и в мыслях не было вас винить… но его имя – Стирфорт, и он – последний негодяй!
Мистер Пегготи не вскрикнул, не пролил ни одной слезы, не сделал ни единого движения; но потом вдруг как будто опять проснулся и ухватился за свою грубую куртку, висевшую на гвозде в углу.
– Помогите снять! Мне что-то худо, не могу управиться сам, – нетерпеливо сказал он. – Да помогите же мне! Вот так, – добавил он, когда кто-то пришел на помощь. – А теперь дайте вон ту шляпу!
Хэм спросил его, куда он идет.
– Я иду искать мою племянницу. Иду искать мою Эмли! Сперва пойду и продырявлю то судно… Пущу на дно там, где, клянусь богом, утопил бы его, если бы только мог догадаться, что запало ему в голову… Если бы только я знал об этом, когда он сидел передо мной, – с бешенством продолжал мистер Пегготи, вытянув сжатую в кулак правую руку, – когда он сидел и смотрел мне в лицо, умереть мне на этом месте, я бы утопил его и считал себя правым! Я иду искать мою племянницу.
– Где? – вскричал Хэм, становясь между ним и дверью.
– Везде! Я буду искать мою племянницу по всему свету. Я найду мою бедную, опозоренную племянницу и приведу ее домой. Не удерживайте меня! Говорю вам, я иду искать мою племянницу!
– Нет, нет! – вся в слезах воскликнула миссис Гаммидж, бросаясь между ними. – Нет! Дэниел, сейчас ты не пойдешь! Ты пойдешь искать ее немного погодя, бедный мой покинутый Дэниел… Так оно и нужно сделать, но сейчас не иди. Сядь и дай мне попросить у тебя прощенья, Дэниел, за то, что я всегда была для тебя обузой… Что значат все мои беды по сравнению с этой бедой!.. Давайте поговорим о тех временах, когда она осиротела, и Хэм тоже осиротел, а я была бедной вдовой, и ты меня взял к себе в дом. Бедное твое сердце смягчится, Дэниел, – она прислонилась головой к его плечу, – и тебе легче будет переносить боль! Ведь ты помнишь обетование, Дэниел: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне», [1]1
«Так как вы сделали это…»– цитата из евангелия от Матфея (XXV, 40).
[Закрыть]и оно сбудется под этим кровом, где мы столько лет находили пристанище. Теперь он был готов покориться всем и каждому, и когда я услышал, как он рыдает, желание броситься на колени, просить у них прощенья за то горе, какое я на них навлек, и проклясть Стирфорта, уступило место более высокому чувству. Мое наболевшее сердце обрело такое же утешение, и я тоже зарыдал.
Глава XXXII
Начало долгого странствия
Что свойственно мне – свойственно и многим другим людям, я полагаю, и вот почему я не боюсь сознаться, что никогда я не любил Стирфорта больше, чем тогда, когда разорвались узы, привязывавшие меня к нему. Я был глубоко потрясен, узнав о его низости, но больше, чем когда бы то ни было, больше, чем в период самой беззаветной моей любви к нему, я думал теперь о его блестящих способностях, умилялся всем, что было хорошего в его натуре, и воздавал должное тем его качествам, благодаря которым он мог бы стать благороднейшим человеком и прославить свое имя. Как бы глубоко я ни чувствовал, что бессознательно принимал участие в его преступлении, опозорившем честную семью, но, мне кажется, если бы я очутился с ним лицом к лицу, у меня не хватило бы духу бросить ему хотя бы один упрек. Я все еще любил его, хотя и прозрел, я все еще сохранял такую нежную память о моей любви к нему, что, думается мне, походил бы на слабого, обиженного ребенка и только лелеял бы надежду на примирение. Но этой надежды у меня не было. Я чувствовал, так же как и он, что между нами все кончено. Какие у него остались обо мне воспоминания – мне неизвестно; думаю, что самые поверхностные, да и те скоро стерлись, но я-то помнил о нем, как помнят о горячо любимом друге, о друге, который умер.
Да, Стирфорт, вы ушли со страниц этого непритязательного повествования! Быть может, моя скорбь, помимо воли моей, обличит вас перед престолом судии, но моя злая память или мои укоры – никогда!.. Это я знаю.
Слухи о том, что случилось, скоро распространились по городу, и, когда на следующее утро я шел по улицам, я слышал, как люди судачили об этом у своих дверей. Многие жестоко осуждали ее, некоторые жестоко осуждали его, но ее приемный отец и жених вызывали у всех только жалость. Все без исключения выражали им сочувствие в постигшем их горе, и это сочувствие было искренним и деликатным. Когда эти два человека медленно шли рано утром по берегу, рыбаки держались в сторонке и, собравшись кучками, толковали о них с глубоким состраданием.
Там, на берегу, у самого моря, я нашел их обоих. Нетрудно было заметить, что всю ночь они не спали, даже если бы Пегготи не сказала мне, что до самого рассвета они оставались там, где я их покинул. У обоих был измученный вид, и я подумал о том, что за одну эту ночь голова мистера Пегготи поникла больше, чем за все годы нашего знакомства. Но они оба были сумрачны и непоколебимы, как само море, а море в тот день тихо лежало под темным небом и мерно катило тяжелые валы, словно дышало в своем покое, тронутое только у горизонта полосой серебряного света, посланного незримым солнцем.
– У нас было о чем поговорить, сэр… О том, что мы должны делать и чего не должны, – обратился ко мне мистер Пегготи после того, как мы все втроем прошли некоторое расстояние в полном молчании. – И теперь мы знаем наш путь.
Ненароком я взглянул на Хэма, который всматривался в далекую светлую полосу, и тут у меня мелькнула страшная мысль… Не то, чтобы лицо его дышало гневом, нет, оно выражало только непоколебимую решимость, но… у меня мелькнула мысль, что если он когда-нибудь встретится со Стирфортом, то убьет его.
– Здесь я исполнил свой долг, сэр, – произнес мистер Пегготи. – Я иду искать мою… – Тут он запнулся, но голос его был тверд, когда он продолжал: – Я иду искать ее. Отныне это мой единственный долг.
Он покачал головой, когда я спросил его, где он будет ее искать; затем он задал мне вопрос, еду ли я завтра в Лондон. Я ответил, что не уехал сегодня только из желания быть ему чем-нибудь полезным. Но я готов ехать, когда ему будет удобно.
– Если вы согласны, сэр, завтра я поеду вместе с вами, – сказал он.
И снова мы шли в полном молчании.
– Что до Хэма, так он будет по-прежнему здесь работать, – снова заговорил мистер Пегготи, – а жить он будет вместе с моей сестрой. А вот тот старый баркас…
– Вы хотите покинуть старый баркас, мистер Пегготи? – спросил я осторожно.
– Теперь мое место не здесь, мистер Дэви, – ответил он. – И если уж поминать о затонувших судах, которые исчезали в темной пучине, то этот мой баркас затонул… Но нет, сэр! Я совсем не хочу, чтобы его покинули. Совсем не хочу…
И опять мы шли молча, пока он не пояснил:
– Я вот чего хочу, сэр: я хочу, чтобы он оставался в таком своем виде, как был, мой баркас, и днем оставался и ночью, и летом и зимой… А вдруг она вернется назад, и вот тут, знаете ли, нехорошо, ежели старое пепелище изменит ей, нет, знаете ли, пусть оно поманит ее подойти поближе… И кто знает, может она заглянет в окошко, совсем как привидение, под шум дождя, и ветер будет реветь, и тут она увидит старое свое местечко у очага. А тогда, мистер Дэви, она заметит, что, кроме миссис Гаммидж, никого нет, и наберется духу и тихонечко, дрожа от страха, она проскользнет в старый дом к своей прежней кроватке и приклонит измученную головку там, где когда-то она покоилась, такая радостная…
Я пытался что-то сказать, но не мог.
– Каждый вечер, как только стемнеет, будет гореть свеча у окошка, как бывало, и если только она когда-нибудь завидит свечу, может быть она услышит призыв: «Вернись, дитя мое, вернись!» А ты, Хэм, если услышишь когда-нибудь в сумерках стук у двери своей тетки – особливо тихий стук, – ты не должен подходить к двери. Пусть откроет тетка… не ты. Пусть она первая увидит мое погибшее дитя…
Он ускорил шаг и некоторое время шел впереди нас. Тут я снова взглянул на Хэма; он по-прежнему не отрывал глаз от далекой полоски света; я коснулся его руки.
Дважды я окликал его, словно спящего, но он не отзывался. Наконец я спросил, о чем он так задумался.
– О том, что впереди, мистер Дэви, вон там…
– О том, какая вас ждет жизнь? Вы об этом говорите?
Он махнул рукой в сторону моря.
– Вот-вот, мистер Дэви. Не знаю, как оно будет, но, мне кажется, вон оттуда придет… конец.
И он посмотрел на меня так, словно только что проснулся, но по-прежнему вид у него был сосредоточенный.
– Какой конец? – спросил я, и снова меня охватил страх.
– Не знаю, – сказал он задумчиво. – Я вспоминал о том, что все началось здесь… и здесь наступит конец. Но не будем об этом говорить! Мистер Дэви, – продолжал он, заметив, по-видимому, выражение моего лица, – вам бояться меня нечего, это у меня просто в голове помутилось… Я что-то не в себе…
И он вправду был сам не свой.
Мистер Пегготи остановился и ждал, пока мы не поравнялись с ним; больше мы не произнесли ни слова. Воспоминания об этом разговоре и прежние мои опасения время от времени начинали преследовать меня, и так было вплоть до того часа, когда неумолимо, в назначенные сроки, конец наступил.
Незаметно для самих себя мы оказались возле старого баркаса и вошли. Миссис Гаммидж больше не дулась в своем уголке, а готовила завтрак. Она взяла у мистера Пегготи его шляпу, придвинула для него стул и сказала так участливо и мягко, что я ушам своим не поверил:
– Милый мой Дэниел, ты должен есть и пить и набираться сил, тебе они теперь нужны. Постарайся, добрая ты душа! А если моя трескотня тебе невтерпеж, – она имела в виду свою болтливость, – тебе стоит только сказать, и я замолчу.
Поставив завтрак на стол, она отошла к окну и усердно занялась починкой рубашек мистера Пегготи и других его вещей; затем она аккуратно уложила их в старый клеенчатый мешок, какой бывает у моряков. Занимаясь этим делом, она говорила все так же мягко:
– Всегда и во всякую пору я буду здесь, Дэниел, и все будет так, как ты хочешь. Я не больно учена, но когда ты отправишься в путь, буду тебе писать и посылать мои письма мистеру Дэви. Было бы хорошо, Дэниел, если бы и ты иной раз написал, каково тебе одному в твоем печальном странствии.
– Боюсь, ты будешь здесь тосковать, – сказал мистер Пегготи.
– О, ничего, ничего, Дэниел! – ответила она. – Не беспокойся обо мне. Дел у меня хватит, Дэниел, надо ведь содержать его в порядке (миссис Гаммидж разумела домашний очаг), покуда ты не вернешься или не вернется кто-нибудь другой… А в хорошую погоду я буду сидеть, как бывало, у двери. И если кто сюда вернется, он еще издали увидит верную старуху вдову.
Какая перемена в миссис Гаммидж за такой короткий срок! Она стала совсем другой женщиной. Она стала такой преданной, так быстро соображала, что следует сказать и о чем лучше помолчать, так мало заботилась о себе и проявляла такую чуткость к горю других, что я проникся к ней большим уважением. А как она работала в этот день! Немало вещей надо было принести с берега и сложить в сарае – весла, сети, паруса, снасти, запасные мачты и реи, чаны для омаров, мешки с балластом и прочее и прочее… И хотя в помощниках не было недостатка, хотя на всем берегу не сыскать было человека с крепкими руками, который не пожелал бы работать изо всех сил для мистера Пегготи, радуясь уже одному тому, что его об этом попросили, но миссис Гаммидж в течение всего дня упорно бралась за непосильную для нее работу и металась то туда, то сюда, принимаясь за самые разнообразные дела, едва ли, впрочем, нужные. Что же касается до сетований на свою несчастную судьбу, то, по-видимому, она даже забыла, каковы были ее невзгоды. При всей своей участливости она не теряла ровного, хорошего расположения духа, что было едва ли не самым удивительным в той перемене, какая с ней произошла. Брюзжания и в помине не осталось. За целый день вплоть до сумерек ни разу голос ее не дрогнул, ни одна слезинка не показалась на глазах. А когда мы, наконец, остались втроем – она, я и мистер Пегготи, и последний, окончательно выбившись из сил, задремал, – она потянула меня к порогу и, с трудом сдерживая рыдания, прошептала.
– Да благословит вас господь, мистер Дэви! Будьте всегда ему другом, бедняжке!
И она быстро вышла за дверь и ополоснула лицо водой, для того чтобы он нашел ее совсем спокойной, когда проснется, и увидел, что она мирно сидит около него за работой. Одним словом, она осталась поддержкой и опорой мистера Пегготи в его горе, а я, покинув их вечером, не переставал размышлять об уроке, полученном мною от миссис Гаммидж, и об опыте, который я приобрел благодаря ей.
Был десятый час, когда я, печально бродя по городу, заглянул к мистеру Омеру. Его дочь сообщила мне, что мистер Омер принял очень близко к сердцу происшедшее событие, целый день был очень огорчен и подавлен и перед сном даже не выкурил своей трубки.
– Лживая, дурная девушка! – сказала миссис Джорем. – И никогда ничего хорошего в ней не было.
– Не говорите так! – запротестовал я. – Вы этого не думаете.
– Нет, думаю! – раздраженно воскликнула миссис Джорем.
– Нет, не думаете! – повторил я.
Миссис Джорем тряхнула головой и попыталась принять вид суровый и непреклонный, но не могла справиться с мягкой своей натурой и расплакалась. Правда, я был еще юн, но такое выражение чувств весьма подняло ее в моих глазах, и я подумал, что оно очень к лицу ей, добродетельной жене и матери.
– Что же она будет делать! – рыдала Минни. – Куда она пойдет? Что с ней станется? Как она могла так жестоко поступить и с собой и с ним!
Я вспомнил о тех временах, когда сама Минни была девушкой, юной и миловидной, и обрадовался, что и она об этом не забыла.
– Моя малютка Минни, – продолжала миссис Джорем, – только что легла спать. Но даже во сне она плачет об Эмли. И целый день малютка Минни плакала об ней и все спрашивала, правда ли, что Эмли такая нехорошая. Что же мне было ей сказать, если Эмли в последний свой приход к нам – это было вечером – сняла со своей шеи ленточку и повязала ее вокруг шеи малютки Минни? А потом опустила на подушку свою голову рядом с головкой Минни и ждала, пока та крепко уснет… И теперь эта ленточка на шейке Минни. Может быть, ее нужно снять, но как мне быть? Эмли – очень дурная, но они так друг друга любили! А ведь ребенок ничего не понимает…
Миссис Джорем была в таком расстройстве, что ее муж вышел из своей комнаты и стал ее успокаивать. Я оставил их вдвоем и отправился домой, к Пегготи, еще более печальный, чем раньше, если это только было возможно.
Это доброе создание – я разумею Пегготи – не обращая внимания на свою усталость, вызванную бессонными ночами и тревогой за мужа, осталась у брата, где хотела пробыть до утра. В доме, кроме меня, была только старушка, которую Пегготи наняла несколько недель назад, когда уже не могла заботиться о хозяйстве. В услугах старушки я не нуждался и отослал ее спать, что было ей весьма по душе, а сам уселся в кухне перед очагом, чтобы все обдумать.
Я думал о последних событиях, думал о смерти мистера Баркиса, потом меня словно подхватила волна и повлекла к тем далям, в которые так странно вглядывался этим утром Хэм, как вдруг стук в дверь прервал течение моих смутных мыслей. На двери висел молоток, но это не был удар молотком. Это был стук рукой, да к тому же в нижнюю часть двери, как будто стучал ребенок.
Это заставило меня вскочить, словно явился лакей какой-нибудь знатной особы. Я открыл дверь и, к своему удивлению, не увидел ничего, кроме огромного зонтика, который, казалось, пришел сам собой. Но тут же я обнаружил под ним мисс Моучер.
Едва ли встретил бы я приветливо это крохотное существо, если бы увидел на лице мисс Моучер, тщетно пытавшейся закрыть зонтик, то «игривое» выражение, которое произвело на меня такое сильное впечатление во время нашего первого и последнего свидания. Но когда она обратила ко мне свое лицо, оно было очень серьезно. А когда я освободил ее от зонтика, весьма неудобного даже для ирландского великана, [2]2
…для ирландского великана… – Имеется в виду Патрик О'Брайн, великан ростом свыше двух с половиной метров; его демонстрировали в Лондоне в 1804–1807 годах.
[Закрыть]она сжала свои ручонки с таким огорченным видом, что я даже почувствовал к ней симпатию.
– Мисс Моучер, как вы сюда попали? В чем дело? – проговорил я и окинул взглядом пустынную улицу, не совсем ясно, впрочем, понимая, зачем мне это нужно.
Коротенькой правой ручкой она сделала мне знак закрыть зонтик и прошмыгнула мимо меня в кухню. Когда я затворил дверь и с зонтиком в руке вошел в кухню вслед за нею, мисс Моучер уже сидела на уголке каминной решетки – она была низенькая, с двумя перекладинами наверху для тарелок, – сидела, укрывшись в тени котелка, и, покачиваясь, терла руками колени, словно ей было больно.
Встревоженный тем, что мне приходится в одиночестве принимать такую нежданную гостью и наблюдать столь странное ее поведение, я снова воскликнул:
– Прошу вас, мисс Моучер, скажите, в чем дело? У вас что-нибудь болит?!
– О милый мой юноша! – воскликнула мисс Моучер, прикладывая обе ручки к сердцу. – У меня болит вот здесь! У меня очень болит вот здесь! Подумать только, что это могла так кончиться! А ведь я, безмозглая дура, могла бы все предвидеть и, пожалуй, предотвратить!
И снова ее большая шляпа, так не соответствовавшая размерам ее нескладной фигурки, закачалась взад и вперед вместе с ее крохотным телом, а на стене заколыхалась шляпа, совсем гигантская.
– Я поражен, видя вас в таком огорчении и…
Но она прервала меня.
– Вечно одно и то же! – воскликнула она. – Они всегда поражены, эти опрометчивые юнцы, высокие и рослые, когда видят, что такое маленькое существо, как я, способно что-то чувствовать! Я для них только игрушка, они забавляются мною, а потом бросают, когда им это прискучит… И они недоумевают, как же это я чувствую глубже, чем игрушечная лошадка или деревянный солдатик! Да, да, всегда так. Вечно одно и то же!
– Может быть, в иных случаях это и верно, но, уверяю вас, я не таков, как вам кажется, – сказал я. – Возможно, я не должен был удивляться, когда увидел вас в таком состоянии… Ведь я вас так мало знаю. Я сказал не подумав…
– Что мне остается делать? – спросила крошечная женщина, вставая и разводя руками, чтобы я мог видеть ее всю, с головы до пят. – Вот, смотрите! Я вот такая, и мой отец был такой, и у меня такая сестра и брат такой. Много лет работаю я ради брата и сестры, изо всех сил работаю, мистер Копперфилд, с утра до ночи. Ведь я должна жить. И никому я зла не приношу. Если находятся такие люди, которые по недомыслию или из жестокости подсмеиваются надо мной, что же мне остается делать, как не смеяться над собой, над ними, над всем на свете? Ну что ж, иногда я так и делаю. Чья же это вина? Моя?
Нет. Я понял, что это не вина мисс Моучер.
– Если бы ваш вероломный друг увидел, что у карлицы есть сердце, – продолжала крошечная женщина, с упреком покачивая головой, – неужто вы думаете, что он отнесся бы ко мне благосклонно, захотел бы мне помочь? Если бы маленькая Моучер (которая отнюдь не виновата, молодой джентльмен, в том, что она такой родилась) обратилась в беде к нему или к таким, как он, неужто вы думаете, что они бы услышали ее слабый голос? Маленькая Моучер, будь она самой злобной и тупой из пигмеев, все равно нуждалась бы в средствах к существованию, но чего бы она добилась? Ничего! Она задохлась бы в погоне за хлебом насущным!
Мисс Моучер снова опустилась на каминную решетку, достала носовой платок и вытерла глаза.
– Вы лучше порадовались бы за меня, если у вас добрая душа, – а я думаю, она у вас добрая, – порадовались тому, что я все это выношу и умею быть веселой, хотя и знаю, какова я… А я, во всяком случае, радуюсь, что мне удается идти своей дорожкой в жизни и никому за это не быть обязанной, и что на все то, чем в меня швыряют по глупости или из тщеславия, я отвечаю только невинным обманом. Я не горюю о том, чего у меня нет в жизни, – ну что ж, так для меня лучше, а повредить это никому не может. И если для вас, великанов, я только игрушка, то хотя бы обращайтесь со мной деликатно!
Мисс Моучер спрятала платок в карман и продолжала, пристально на меня глядя:
– Я видела вас только что на улице. Ноги у меня короткие, в придачу одышка, сами понимаете – я не в состоянии ходить так быстро, как вы, и не могла вас догнать. Но я догадалась, куда вы идете, и вот я здесь. Я уже заходила сюда сегодня, но доброй хозяйки не было дома.
– А вы ее знаете? – спросил я.
– Я знаю о ней от Омера и Джорема. Я была здесь сегодня утром, в семь часов утра. Помните, что сказал мне Стирфорт об этой несчастной девушке, когда я видела вас обоих в гостинице?
Огромная шляпа на голове мисс Моучер и еще более огромная шляпа на стене закачались, когда она задала этот вопрос.
Я очень хорошо помнил то, о чем она говорила, и в течение дня не раз об этом думал. Так я и сказал ей.
– Да проклянет его сам дьявол! – воскликнула крошечная женщина, подняв указательный палец перед сверкающими своими глазами. – И да будет трижды проклят этот негодный слуга! А я-то думала, что вы еще с детства влюблены в нее.
– Я?
– О дитя, дитя! Скажите же мне, заклинаю вас, почему вы так восхваляли ее, краснели и были так взволнованы? – воскликнула мисс Моучер, ломая руки и ерзая на своем сиденье.
Про себя я должен был сознаться, что так оно и было, но совсем по другой причине.
– Что я могла знать? – продолжала мисс Моучер, снова вынула носовой платок и, держа его обеими руками, стала прикладывать к глазам, всякий раз топая при этом ножкой. – Он то помучит вас, то приласкает, я это видела! А вы – вы были воском в его руках, я это тоже видела. Как только я вышла тогда из комнаты, его слуга мне сказал, что «невинный юнец» (так он вас называл, а вам всю вашу жизнь следует звать его «старый негодяй») влюблен в девушку, а она, мол, ветреная особа и вы ей нравитесь, но его хозяин не позволит, чтобы дело дошло до беды, – больше ради вас, чем ради нее, – и потому, мол, они находятся здесь. Как же я могла этому не поверить? Когда Стирфорт пел ей хвалу, я видела, что это вам льстит и услаждает ваш слух! Ведь это вы первый назвали ее имя. И вы сознались, что уже давно восхищаетесь ею. Как только я заговорила о ней, вас начало бросать то в жар, то в холод, вы то краснели, то бледнели. Что же я могла подумать, что же мне оставалось думать? Да только одно: вы молодой повеса, которому не хватает лишь опыта, но попали в руки человеку, достаточно опытному, и он, если захочет, может вас уберечь для вашего же блага. Ох! Они очень боялись, что я доберусь до истины! – воскликнула мисс Моучер, соскочила с решетки и засеменила по кухне, в отчаянии воздевая ручки. – Они знали, как я проницательна, – ведь я должна быть проницательной, чтобы пробиваться в жизни! – и они меня провели, и я передала этой несчастной девушке письмо, а благодаря ему, я уверена, и завязались ее отношения с Литтимером, которого нарочно оставили здесь.
Я стоял, ошеломленный открывшимся мне вероломством, и смотрел на мисс Моучер, которая бегала по кухне взад и вперед, пока не запыхалась; тогда она снова присела на каминную решетку и, вытирая лицо платком, долго покачивала головой, не делая никаких других движений и не нарушая молчания.
– Я разъезжала по этим местам и попала, мистер Копперфилд, третьего дня вечером в Норвич, – продолжала она. – Тут мне довелось узнать, что они приезжали сюда и уехали – без вас; это было странно, и я заподозрила недоброе. Вчера вечером я села в лондонскую карету, проезжавшую через Норвич, и сегодня утром прибыла сюда. Ох! Слишком поздно!
Бедняжку Моучер стало так знобить от волнения и слез, что она повернулась на решетке и погрузила промокшие ножки в теплую золу, чтобы их согреть; так она и сидела, словно большая кукла, пристально глядя на огонь. А я сидел на стуле по другую сторону камина, думал невеселую думу и смотрел то на огонь, то на нее.
– Мне нужно идти, – наконец сказала она, вставая. – Уже поздно. Вы мне доверяете?
Взгляд, брошенный на меня, был проницательный, – как всегда проницательный, – и, по совести говоря, в ответ на этот короткий призыв я не смог сказать «да».
– Ну, что ж! Вы сами знаете, что доверяли бы мне, будь я такого же роста, как и все люди, – сказала она и, опираясь на предложенную мной руку, спрыгнула с решетки и зорко посмотрела на меня.
В этом была немалая доля истины, и мне стало стыдно.
– Вы еще молоды, – продолжала она, покачивая головой. – Послушайтесь доброго совета, – хотя бы он исходил от коротышки ростом в три фута. Только тогда, мой друг, когда у вас есть веские основания, связывайте физические недостатки с моральными.
Теперь она рассталась с каминной решеткой, а я расстался со своими подозрениями. И я сказал ей, что верю в ее искренность и что мы оба оказались слепым орудием в руках вероломных людей. Она поблагодарила меня и назвала «хорошим юношей».
– А теперь послушайте! – воскликнула она, задержавшись на пути к двери, обернулась и, пристально вглядываясь в меня, снова подняла указательный палец. – У меня есть основания подозревать, судя по тому, что я слышала – а у меня всегда ушки на макушке, и я не могу пренебрегать своими способностями, – подозревать, что они бежали за границу. Но если бы они вернулись, если бы кто-нибудь из них вернулся, пока я жива, никто их не разыщет так скоро, как я, потому что я всегда в разъездах. Все, что буду знать я, узнаете и вы. Если я могу сослужить службу бедной, поруганной девушке, я, бог даст, это сделаю. А для Литтимера было бы куда лучше, если бы по его следам бежала ищейка, чем маленькая Моучер!