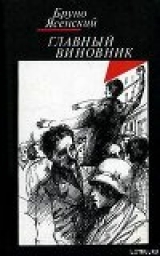
Текст книги "Я жгу Париж"
Автор книги: Бруно Ясенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
IV
– Алло! Гранд-Отель? Будьте любезны соединить меня с комнатой мистера Давида Лингслея. Алло! Алл-о-о! Мистер Давид Лингслей? Говорит секретарь президиума совета комиссаров англо-американской концессии. Президиум просит вас пожаловать на секретное заседание в одиннадцать часов дня. Да, да! Через час. Можем рассчитывать?
Мистер Давид Лингслей повернулся на другой бок. Свет, просачивающийся через щель между шторами, ударил ему в глаза, и, поморщившись, он должен был принять прежнее положение. Так прекрасно спал, и вдруг этот адский звонок. Через час – в «Америкен-экспресс». Надо подумать о вставании.
Мистер Давид Лингслей вытянулся еще раз на удобной четырехспальной кровати. Внезапно он вскочил и присел на постели. Отбросив одеяло, он внимательно ощупал сквозь шелковую пижаму свой живот, потом, приподымая поочередно каждую из рук, железы под мышками. После тщательного осмотра он опять вытянулся.
Каждый день он пробуждался с этим инстинктивным страхом здорового, мускулистого тела, с животной тревогой предчувствующего момент, когда каким-нибудь утром он проснется с гложущей болью в нижней части живота. Об этом неприятном факте мистер Давид Лингслей днем старался не думать, хотя подсознательно скрывал он надежду на одну сотую вероятности.
Каждое утро, однако, когда погруженное в сон тело при внезапном переходе к действительности блуждало еще в пустоте, пока развинченные рычаги воли, привыкшие днем действовать безошибочно, не попадали опять шестерней на шестерню, – к горлу вдруг внезапным клубком подкатывал страх, который надо было крепким кулаком втискивать обратно в его каморку, где он оставался спрятанным до следующего утра.
В эти короткие мгновения мистер Давид Лингслей вспоминал, что там, в ящике ночного столика, – стоит лишь протянуть руку, – лежит, ожидая в нетерпении этого единственного дня, маленькая стальная вещица, притаившаяся и незаметная; ждет, считая чуть слышное тиканье покоящихся на столике пузатых часов, которые где-то в своих внутренностях, в указательном пальце стрелки хранят уже издавна им одним известный роковой час; заранее точно отсчитали столько-то оборотов и отрабатывают их ежедневно, притворным равнодушием прикрывая лихорадочную торопливость.
В такие минуты мистер Давид Лингслей ощущал такую жгучую ненависть к предметам, что только благодаря его прирожденной сдержанности и флегматичности лакей, убирающий каждое утро его апартаменты, не заставал их разгромленными.
Величавые, равнодушные ко всему глади зеркал, принимающие с лакейской услужливостью каждый брошенный им, как пощечину, жест, все эти шкафы и столики, молчаливые, подавляющие своей неопровержимой, математической уверенностью, что они будут стоять здесь, отражать своей полированной кожей другие жесты, лицо и гримасы, когда от мистера Давида не останется и следа, – своим спокойным, дерзким превосходством способны были свести его с ума. Хотелось разбить, изломать их, растоптать ногами; уличить во лжи их непреложную уверенность, насытиться видом их бессильных обломков.
В такие минуты мистер Давид сжимал лишь сильнее взмыленную бритву, под поцелуем которой, как Афродита из морской пены, показывалось его лицо, ослепительное наготой холеной кожи.
С тупой, холодной ненавистью он грубо втискивал в карман жилета часы, опускал в задний карман брюк маленькую стальную вещицу и уходил в город, стараясь оставаться по возможности меньше в своей комнате.
Мистер Давид Лингслей, король американского металлического треста, владелец четырнадцати крупных журналов в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии, посетил Париж под строжайшим инкогнито, собираясь, по старой привычке, летние месяцы провести в Биаррице. Во время трехдневного пребывания в Париже его застигла чума.
Все попытки выбраться из зачумленного города окончились неудачей. Не помогли – престиж фамилии, запоздалое открытие инкогнито, чудовищные связи, астрономические чеки.
После трех дней безрезультатных хлопот он принужден был примириться.
Как все биржевые игроки, мистер Давид Лингслей был фаталистом и, убедившись окончательно в непроизводительности всех попыток, оставшись один в своей роскошной комнате, он честно сознался в проигрыше. До сих пор ему в жизни всегда везло неимоверно. Неоднократно, на очередных ступенях финансовой лестницы, взглянув вниз, он ощущал на минуту легкое головокружение при мысли, что его карта будет когда-нибудь бита.
Убедившись на этот раз, что выхода нет, мистер Давид Лингслей, как подобает джентльмену, составил завещание, переслал его по радиотелеграфу в Америку и, заперев в ящике письменного стола папки текущих дел, стал ждать. Чума явно играла с ним в прятки. На третий же день в мучительных страданиях умер его личный секретарь. Мистер Давид Лингслей ждал своей очереди. На следующий день карета скорой помощи забрала из соседней комнаты машинистку. Постепенно, один за другим, пустели соседние апартаменты. Мистер Лингслей остался один на всем первом этаже. С молниеносной быстротой, точно камни, брошенные в бездонный колодец лифта, бесшумно исчезли лифт-бои[38]38
Мальчики, обслуживающие лифт.
[Закрыть], прислуга, метрдотели. На их месте вырастали новые. Отдав вечером распоряжение курьеру, мистер Давид, спускаясь на следующее утро по лестнице, заставал уже нового курьера; не спрашивал, вторично отдавал распоряжение, стараясь мысленно не возвращаться к этому незначительному эпизоду. Пил мелкими глотками горячий утренний кофе и ехал к своей любовнице.
Вот уже несколько лет мистер Лингслей содержал в Париже любовницу, подарив ей, вместе с коллекцией ослепительных драгоценностей, не лишенный вкуса особняк на Елисейских Полях.
Мистер Лингслей навещал свою любовницу два раза в год, не останавливаясь, впрочем, у нее никогда и живя всегда по-холостяцки в Гранд-Отеле. К этому его принуждали дела, не говоря уже о том, что, как джентльмен и человек женатый, он не любил афишировать свою связь.
В каждое пребывание его в Париже у него было столько дел и хлопот, что обыкновенно лишь сидя уже в купе и принимая из рук грума традиционный пакет книг, присланный ему на вокзал любовницей, он вспоминал, что за все время провел с ней в общем счете не больше шести часов; и каждый раз он давал себе торжественное обещание возместить это в другой раз, то есть через полгода.
Протелеграфировав в Нью-Йорк завещание, мистер Давид Лингслей в первый раз осознал содержание затасканного слова «каникулы» и впервые пожалел, что они будут продолжаться недолго. Как бы то ни было, он решил, впервые в жизни, посвятить их любви. Это была как раз та жизненная функция, для которой у него постоянно не хватало времени, которую он принужден был отправлять между двумя телефонными звонками – всегда второпях и всегда не вовремя.
Некогда, в традиционный брачный вечер, полагая, что по крайней мере на этот раз он сможет посвятить ей предписанные законом двенадцать часов, неожиданно в последнюю минуту он получил предложение об очень заманчивой и сложной сделке, которой напрасно добивался уже давно; и всю брачную ночь, прилежно выполняя, как джентльмен, возложенные на него обществом обязанности и рассеянно отвечая на капризные вопросы молодой супруги, он мысленно отщелкивал числа на счетах, складывая из них ответ, который надо будет дать по телефону рано утром. В итоге, когда через много лет, по обычаю других людей, мистер Давид Лингслей силился как-то вспомнить свою брачную ночь, на клише памяти появились одни длинные столбцы цифр, остальное же где-то затерялось, как плохо проявленный фон.
Впервые в жизни, – быть может, за неделю до своей смерти, – мистер Давид Лингслей мог всецело предаться любви и переживал каждый день настоящие медовые месяцы.
Любовницу свою он содержал в Париже из снобизма, – как два роллс-ройса, как постоянную каюту на «Мажестике», – чтобы было с кем пойти вечером в театр и потом поужинать у Сиро, чтобы соблазнять завистливые взоры других мужчин ее красотой, которую он принимал на веру, понаслышке, не имея никогда времени хорошо ее разглядеть сам; эта любовница оказалась на самом деле необычайным существом, инструментом, содержащим в себе неисчерпаемые гаммы наслаждения.
Мистер Давид проводил с ней теперь целые дни, вечера и ночи, открыв в себе на сороковом году жизни нежнейшего любовника.
Как гурман, желающий обострить наслаждение следующим блюдом, воздерживаясь от предыдущего, он не переехал к ней окончательно, оставив за собой свои апартаменты в Гранд-Отеле, чтобы после коротких часов разлуки возвращаться к ней со все большей тоской, влюбленный в первый раз по уши.
Любовь – вопрос свободного времени. Кто угадает, какие пламенные любовники похоронены в упитанных телесах дельцов, этих парадоксальных рабов, прикованных за ногу невидимой цепью к стрелке собственных часов?
Впрочем, мистеру Давиду Лингслею и на этот раз не суждено было развернуть вполне всех богатств своей неиспользованной эротики. Помешали в этом происшествия, внезапные сейсмические сотрясения, вскоре поколебавшие кору зачумленного Парижа.
Застигнутое врасплох развернувшимися событиями англоамериканское население центральных кварталов, не успевшее бежать из окруженного Парижа, в первую минуту растерялось. Однако отрезанные джентльмены быстро поняли, что сидеть сложа руки и ждать, пока займется ими большевистская власть Парижа – нельзя. Надо было подумать о самообороне, тем более что среди отрезанных джентльменов в зачумленном Париже очутился ряд видных английских и американских финансистов.
Как раз за несколько дней до мобилизации финансисты эти съехались в Париж на секретную конференцию. Конференция должна была наметить суммы финансирования подготовленной войны. Между французскими и англо-американскими финансистами во время конференции неожиданно наметились серьезные разногласия, грозившие привести к срыву всего совещания и тем самым к отсрочке войны, в то время как приказ о мобилизации был уже подписан.
И вот, проснувшись на следующий день после бурного заседания, английские и американские участники конференции узнали неожиданно, что Париж эвакуирован и что французские коллеги «забыли» вовремя предупредить их об этом факте. Оставленные во взбунтовавшемся Париже джентльмены рвали и метали, бросались радиотелеграфировать своим правительствам, в свои газеты о небывалом вероломстве французских союзников, но… радиостанции оказались разгромленными отступившими войсками, и весь город был уже в руках восставших рабочих. Выбраться оказалось невозможным. На следующий день вспыхнула чума.
Тогда джентльмены поняли, что сдаваться без боя нельзя, и они созвали в здании банка «Америкен-экспресскомпани» секретный митинг с целью обсудить происшествие.
На митинге решено было единогласно объявить на время эпидемии кварталы, заселенные англичанами и американцами, самостоятельной англо-американской концессией. Вооруженная милиция из молодежи должна была ночью перебить небольшие отряды красной гвардии и воздвигнуть баррикады на границах новой концессии.
Впрочем, доблестным джентльменам не пришлось даже применять оружия, и переворот обошелся без кровопролития, так как вся красная гвардия, занимавшая центральные кварталы, вымерла к тому времени от чумы.
Темой оживленных прений на очередном собрании джентльменов явился вопрос о проживающем на территории новой концессии местном, французском населении. Часть джентльменов решительно настаивала на расстреле коварных французов и на выселении всех не англосаксонских элементов. Большинство голосов, однако, получило разумное предложение мистера Рамзая Марлингтона использовать французское население концессии, тщательно разоружив его, для служебных обязанностей, вербуя из него необходимые штаты отельной и личной прислуги. От службы, согласно предложению мистера Марлингтона, освобождались только лавочники и владельцы бистро как руководители общественно-полезных заведений, равным образом как и французы, которые смогут удостоверить, что их годичная рента превышает сто тысяч франков.
Предложение мистера Рамзая Марлингтона было проведено в жизнь. Французское население центральных кварталов, издавна привыкшее жить на побегушках и чаях англо-американских туристов, не оказало никакого сопротивления к проведению этого проекта и проявило себя в своей новой роли совсем неплохо, избавляя таким образом правительство новой концессии от многих непредвиденных хлопот.
Для управления новой концессией первое собрание избрало совет комиссаров, состоящий из двенадцати видных финансистов: шести англичан и шести американцев. В распоряжение временного правительства отдавалось здание «Америкен-экспресскомпани».
В итоге голосования в числе шести американских финансовых королей в совет комиссаров концессии избран был также мистер Давид Лингслей. Престиж фамилии и общественное положение не позволили ему отказаться от этого почетного звания, хотя государственные и административные дела явно противоречили его теперешним интересам и занятиям, и он решил посвящать общественности возможно меньше времени.
В упомянутый день, вернувшись в гостиницу в пятом часу утра, полный нежнейших отзвуков любовной грозы, мистер Давид Лингслей, пробужденный не вовремя звонком общественной обязанности, почувствовал сильнее чем когда-либо тяжесть своего социального положения; как солдат, вызванный внезапно на свой пост, облекается в тяготящее его снаряжение, мистер Лингслей в более чем кислом настроении стал медленно натягивать на себя свой изысканный костюм.
Мистер Давид кончал как раз бриться у зеркала, когда, предшествуемый стуком в дверь, в комнату вошел стройный, всегда улыбающийся лифт-бой (некогда первый секретарь крупного страхового общества, потерявшего всякий смысл при новом положении вещей) и доложил, что два господина по важному делу желают лично повидать мистера Давида Лингслея.
При других обстоятельствах мистер Давид, предчувствуя каких-нибудь скучных просителей, велел бы, вероятно, сказать, что его нет дома. Но сегодня, решившись испить до дна чашу общественных обязанностей, безнадежным жестом он велел просить их в гостиную.
Когда через некоторое время, еще завязывая галстук, он появился в дверях гостиной, навстречу ему поднялись с кресел равви Элеазар бен Цви и пожилой плотный господин в американских очках…
V
Это было давно, так давно, что иногда память П'ан Тцян-куэя, пустившись в. эти области, блуждала в них ощупью, теряясь среди волокон пушистой всепоглощающей мглы, из которой, как контуры драгоценных и хрупких игрушек из слоев ваты, выглядывали несвязные, разрозненные обломки какого-то иного, незнакомого мира предметов.
Маленький П'ан в пестрых, пронизываемых ветром лохмотьях был поглощен постройкой плотины на водостоке одной из узеньких и грязных улочек Нанкина, когда он увидел пробегающего по мостовой отца. Худой босоногий рикша, запряженный в две тоненьких оглобельки, бежал рысью, с трудом таща по изрытой выбоинами мостовой небольшую колясочку; в коляске сидел одетый в белое господин с белым, как одежда, лицом. Босые пятки рикши то и дело мелькали в воздухе, а на тощем, сведенном от усилия лице узенькими струйками неестественного дождя стекал пот.
П'ан Тцян-куэя впервые поразило тогда широкое, непонятно белое, точно набухшее лицо белого господина, странно выпуклые глаза с растопыренными ресницами и выражение покоя, достоинства и самодовольства, застывшее в его закругленных, расплывчатых чертах.
С этого времени прошло много длинных знойных дней и коротких, кротких ночей.
Образ белого господина стерся и поблек, остался где-то позади, в волокнах пушистой, как вата, мглы.
Белое широкое лицо с набухшими щеками, с растопыренными веками на неестественной выпуклости глаз потеряло свою определенную телесность, стало символом, вместилищем пробивающейся из всех пор кислоты ненависти.
Когда три года спустя, в жаркий до тошноты июльский день жалостливые соседи принесли из города и тяжело опустили на пол неподвижного рикшу со стеклянными непонимающими глазами, упавшего где-то на перекрестке от внезапной кровавой рвоты, – маленький П'ан не плакал, не цеплялся за ноги торопившихся соседей. С удивлением, внимательно осмотрел он черный открытый рот отца, непонятный таинственный грот со свисавшими красными сталактитами, исхудалые, костлявые ноги с огромными ступнями, стоптанными, как старые, поношенные туфли, и сосредоточенно, по-взрослому – как накануне носильщик Тао Чанг обидевшему его бакалейщику Линг Хо – погрозил кому-то в окно своим детским кулачком.
Потом он чинно уселся на полу и подобранным где-то на улице обломанным веером стал отгонять слетевшихся мух, норовивших попасть в раскрытый рот мертвого.
И вдруг, – стало ли тело сохнуть от невыносимой жары или просто лопнула какая-то железа, – из правого глаза мертвого показалась крупная прозрачная слеза и медленно поползла по морщинистому желтому лицу.
Маленький П'ан никогда не видел плачущих покойников; он не стал углубляться в исследование явления, он просто в ужасе вскочил на ноги и бросился вон из каморки, наугад, по узеньким извилистым улочкам, между дребезжащими пролетками.
Вечером на набережной, среди мешков с рисом, нашли его матросы, долго приводили в чувство пинками и, отпоив едкой водкой из гаоляна[39]39
Растение, похожее на наше просо, но значительно больших размеров.
[Закрыть], оставили ночевать в сарае.
Было тогда П'ан Тцян-куэю семь лет.
Жить и до того приходилось впроголодь – матери П'ан не знал, – теперь же надо было пробиваться уже исключительно собственным промыслом. Летом ночлеги на набережной, под звездами. В дождливые месяцы – по чужим задворкам, на чердаках, в амбарах. Поймали – били подолгу и с выдержкой. Не кричал – больше кусался. Одному толстобрюхому мандарину, ущемившему его за косу, так вцепился зубами в руку, что тот заорал благим матом. На крик сбежался весь квартал, и, не появись тогда случайно на улице похоронное шествие, исколотили бы, наверное, до смерти.
Ел что попало, – попадалось же немного. Крал кости у собак. Собаки рвали в клочья лохмотья, иной раз и с мясом; завидя его издали, враждебно скалили зубы. Питался преимущественно по-вегетариански. Подбирал на набережной рассыпанные при погрузке зерна риса. Варить их было негде; ел сырыми, всухомятку, долго, с наслаждением разжевывая каждое зернышко.
Зато старательно избегал он соблазна людных улиц – базаров, где толстые лабазники за несколько тунзеров[40]40
Китайская мелкая монета – 1/8 копейки.
[Закрыть] услужливо потчевали прохожих превкусным душистым чаем или пьянящим рисовым вином, где на лотках горой громоздились фрукты, пирожные на кунжутном масле, куски сахарного тростника и прочие лакомства. Пройдешь – не устоишь, в носу защекочет от приторного, пряного запаха, обязательно стибришь сахарную трость – ту, что потолще, – а потом беги (не убежишь никуда!) меж тесно сдвинутых лотков, как наказанный солдат сквозь строй, тщетно защищая спину от ударов разъяренных торговцев. После таких экскурсий неделю целую ныли плечи, и жесткая постель из лёсса казалась особенно неудобной.
Днем, когда не играл с другими бездомными малышами, он больше всего любил прогуливаться по улицам торговых кварталов, рассматривать искусно выведенные на свисающих шарфах замысловатые рисунки букв. Буквы колыхались, призрачные и в то же время незыблемые, как игрушечные домики из спичек, построенные неизвестным чародеем-архитектором. Любил в непонятных каракулях отыскивать знакомые контуры. Вот эта буква кокетливо задрала левую ножку, как ярмарочная балерина, а эта, словно дразнясь, показывает кому-то длинный нос. Причудливые сочетания черточек и крючков, для других понятные и привычные, для него несуразные и чуждые, таинственной загадочностью жгли детский мозг.
Порою забегал он на окраины, где в ажурном домике с колонками сорок мальчуганов с глазами, устремленными на таинственные узоры, качаясь не в лад, выкрикивали нараспев односложные гортанные звуки, подсказываемые с кафедры очкастым лимоном в длинном халате. Притаившись у крыльца, П'ан жадно ловил неразборчивую кашу голосов. Очкастый лимон посвящал детей богатых купцов в сокровенный смысл загадочных знаков.
Позже стал он чаще забегать в другое место. Невдалеке от базара, на улице, под дырявым выцветшим зонтом, старый седой каллиграф тоненькой кисточкой кропотливо выводил на длинных свитках вереницы узорчатых букв. Приклеившись к стене, маленький П'ан зачарованными глазами провожал искусные движения ловкой кисточки. Палочки росли, разветвляясь, сочетались в стройные фигуры, буква подползала под букву и поднимала ее на плечах, как гимнаст; гляди – уже тянется вверх устойчивая громоздкая пирамида, и каллиграф, взвешивая в двух пальцах кисточку, горделиво улыбается.
Это был единственный человек, который не гнал маленького П'ана и, заметив вдумчивость мальчика, его влюбленные, любопытные глаза, ласково улыбался. В дни, когда заказчиков было мало и выведенные на шелку мудрые изречения бесцельно колыхались по ветру, напрасно стараясь остановить торопившихся куда-то прохожих, он давал мальчику ненужный, испорченный свиток и кисточку и учил его первым чертам. Под неуверенной, благоговейно трепещущей детской рукой вырастали каракули, с трудом сохраняли устойчивость, чтобы через минуту рассыпаться кучей составных черточек.
Все же П'ан осилил науку письма. Скрепленные незримыми шарнирами палочки держались стойко: не сдунешь. Вот из шести столбиков настоящая пагода с крышей и все как полагается, а держится на одной тоненькой ножке. Вместо таинственной совокупности крючков – слова. Вот дерево, вот земля, а вот человек – бежит, не удержишь, так размашисто с разбега задрал ногу.
Позже оказалось: и слова и предметы – только видимость. Сущность не в них, а в черточках. Правда, не в тех, что выползают из-под кисточки, а в других – сокровенных и непроницаемых.
Старый каллиграф в долгие часы досуга просвещал душу чтением священной книги перевоплощений «И-кинг». На скорлупе черепахи сочетаются шестьдесят четыре черты – «куа», и в них сокрыта разгадка всей сущности бытия, недоступная бессильному человеческому глазу. Ее не в силах был расшифровать до конца ни мудрейший Фу Хи и его премудрый ученик Кон Фу-тзе[41]41
Фу Хи – китайский мудрец. Кон Фу-тзе – Конфуций, основатель китайской религии.
[Закрыть], ни тысяча четыреста пятьдесят истолкователей, трудившихся над ней на протяжении веков. Как же проникнуть в нее бедному каллиграфу, изучившему наизусть все сочетания линий, вплоть до тех, которые входят в состав священного узора «куа»?
Маленький П'ан не понял во всем этом ровно ничего, или, скорее, понял это по-своему. Он бегом пустился за город ловить черепах и долго искал на их скорлупе священный узор. Не найдя, он выдрал черепаху из скорлупы, чтобы посмотреть, не спрятан ли узор внутри. Но и там не было ничего. Мудрейший Фу Хи оказался обманщиком.
Вернувшись в город, П'ан не рассказал учителю о своем открытии, не желая его огорчить… Но решил про себя: нельзя допустить, чтобы учитель дальше заблуждался. Он долго думал над способом и, наконец, придумал. Когда утомленный жарой учитель преспокойно похрапывал на своем стуле, П'ан тихонько вытащил корень всех заблуждений, священную книгу «И-кинг»; помчавшись с ней на набережную, незаметно бросил ее в реку.
Проснувшись и обнаружив отсутствие книги, старый каллиграф громкими криками стал выражать свое отчаяние. Столпились зеваки. Нашлись соседи, которые видели маленького П'ана, бежавшего с книгой под мышкой. П'ана поймали. Били добросовестно и долго. Требовали, чтоб признался, кому продал книгу. Не добившись ничего, полуживого бросили на улице.
П'ан в недоумении потирал синяки. Ну, хорошо, били. К этому он привык. Но как же добрый дядя каллиграф стоял при этом и не заступился? Значит, и он злой. Значит, не стоило печалиться об его заблуждениях, не стоило красть книги. Не стоило дружить с людьми. Попробуй отними у них самую ничтожную кость, – искусают, как собаки.
Однако как же в большом, людном городе жить без человека? В городе – сколько вещей, столько загадок. Кто же объяснит? Пришлось пойти на мировую.
Перекочевал в восточные кварталы. Улицы здесь были шире. По бокам громоздились каменные многоэтажные дома, симметричные, как ящики, мчались по рельсам стеклянные вагоны, и в воздухе стоял неумолкающий грохот. Страннее домов, страннее вагонов были чудные экипажи, катящиеся по улицам без рельсов, без лошадей, без рикши, при повороте не касающегося земли, непонятного, торчащего в воздухе колеса.
Однажды, проходя мимо магазина, П'ан заметил: стоит повозка, нагруженная доверху цветными ящиками, и спереди вместо оглобель болтается большая ручка. Как не повернуть? Оглянулся – кругом никого. Не устоял, подбежал к ручке и завертел изо всех сил. Повозка захрапела громко, тяжело, словно внутри был спрятан взвод солдат.
Из магазина вышел человек в засаленном кожаном фартуке. П'ан предусмотрительно отскочил на противоположный тротуар.
– Ты что – покататься захотел? Садись, подвезу.
Косые глаза человека в фартуке улыбаются ласково, дружелюбно.
П'ан оскалился: «Знаем вас. Небось, манит, чтобы поближе, а там закатить увесистый подзатыльник». Но все же не убежал; на безопасном расстоянии присматривался к владельцу храпящей повозки.
– Ты что трусишь, малый? Садись, не съем, покатаю.
Больно уж захотелось маленькому П'ану покататься. Решил рискнуть. Ударит – бог с ним. Синяк – не беда. А вдруг и правду говорит – покатает. Осторожно приблизился к повозке.
– Лезь сюда. Не бойся. Вот тебе место свободное.
Влез. Добряк тронул колесо. Повозка покатилась. Поехали.
По дороге добряк разговорился. Зовут его Чао Лин. Родом он из Кен-Чоу. Был у него там такой же вот, как П'ан, сынишка, да умер в голодный год, когда Чао Лин был в Европе. И жена умерла. Теперь он в Нанкине – шофер в большом торговом доме.
Был разговорчив и прост. Дал банан и катал до вечера, развозя по городу цветные ящики. Расспросил про родителей. Пожалел. Прощаясь, сунул П'ану апельсин и сказал:
– Приходи завтра в десять к магазину. Покатаю.
Так подружились. Каждое утро в одном и том же месте поджидал П'ан грузную повозку с цветными ящиками, ловко взбирался на сидение, брал припасенный для него Чао Лином пучок бананов, иной раз и кусок сахарной трости и, аппетитно пожевывая, поглядывал сверху на прохожих.
Вкуснее сахарного тростника, вкуснее бананов были рассказы словоохотливого дяди о далеких заморских странах, в каких ему пришлось побывать на своем веку. Оказалось, – так по крайней мере утверждал бывалый дядя, – земля вовсе не плоская и не кончается морем, а круглая, как лепешка. Выедешь из Нанкина, объедешь весь свет и опять вернешься в то же место, откуда уехал. Было все это странно и чудесно до непонятности. Но дядя божился, что это так, а не верить ему было нельзя – видел все собственными глазами. Говорил, что белые люди доказали это уже давным-давно.
Раз как-то вытащил даже из кармана красивую записную книжку, и в книжке вклеена была картинка – не картинка, а карта всего мира. Два круглых полушария, как скорлупа черепахи, а на полушариях, как на скорлупе, – путаница неисчислимых линий: земля, море, Нанкин, Китай, мир.
Да, это и было несомненно таинственное «куа» – шестьдесят четыре священных линии, которые он, глупый П'ан, напрасно искал на скорлупе пойманной коварной черепахи.
Белые люди разрешили загадку премудрого Фу Хи.
Не обидь его дядя каллиграф, П'ан побежал бы сейчас к нему поделиться ослепительным открытием. Но, вспомнив, синяки и разбитый в кровь нос, ощетинился. Обид не забывал.
Зато таинственные белые люди, которых ненавидели все, даже старенький дядя каллиграф, выросли в его глазах до размеров сказочных всеведущих существ. Дядя Чао Лин рассказал про них много чудных вещей.
Где-то далеко, за много-много ли[42]42
Ли – около 540 метров.
[Закрыть], есть громадные, чудовищные города, где белые люди живут в многоэтажных ящиках; в ящиках этих вверх и вниз мчатся подвижные коробки, вскидывая жильцов в один момент на высочайший этаж. Под землей, по длинным проведенным трубам стремглав несутся вагоны, в минуту перебрасывая прохожих на десятки ли. Чтобы белому не трудиться самому, на него днем и ночью на больших заводах работают большущие машины, выбрасывая для него готовые вещи. Хочешь платье – бери и надевай. Хочешь повозку – садись и кати. Ни рикшей, ни лошадей. Все – машина. Странное, тяжелое слово – так и несет от него раскаленным железом; даже для того, чтобы убивать врагов не поодиночке, а оптом – тоже особые машины.
Как-то раз П'ан в изумлении спросил:
– А зачем белые люди, раз им так хорошо у себя, приезжают сюда, к нам, ездить на наших неудобных повозках?
Дядя Чао Лин засмеялся:
– Белые люди любят деньги. Деньги надо заработать. Белые люди не любят работать. Они любят, чтобы на них работали. Там, у них, на них работают машины и свои же, белые рабочие. Но белым людям все не хватает денег. Поэтому они приехали в Китай и запрягли всех китайцев, чтобы те на них работали. Белым людям помогают в этом император и мандарины. Поэтому-то китайский народ и живет в такой нужде, что ему приходится работать и на мандаринов, и на императора, и, самое главное, на белых людей, которым нужно много-много денег, и ему не остается ничего для себя самого.
Значит, против белых людей надо бороться? Значит, они – поработители, как говорил дядя каллиграф? Но как же бороться, когда они познали сущность вещей, разгадали самое «куа», над которым напрасно ломали себе голову и мудрейший Фу Хи, и премудрый Кон Фу-тзе, и тысяча четыреста пятьдесят истолкователей, и дядя каллиграф? Раз у них машины, чтобы все делать, и машины, чтобы убивать, – как же с ними бороться?
И дядя Чао Лин говорил: покамест нельзя. Надо у них учиться. Китайский народ – многочисленнее всех других. Если б он знал все то, что знают белые люди, он был бы самым могущественным народом в мире и не должен был бы работать на белых людей.
От этих разговоров у маленького П'ана кружилась голова и гудело в висках. По ночам ему снились громадные железные города, чудовищные, гигантские машины с зияющими железными ртами, из ртов машин потоком вылетали готовые платья, шляпы, зонтики, экипажи, дома, улицы, кварталы… И пробуждаясь, П'ан мечтал: подрастет, проберется туда, – пешком, конечно, нельзя, ну, скажем, на пароходе, – там подсмотрит, выследит и похитит тайну белых людей, вернется с ней обратно в Китай, повсюду построит громадные машины, а у машин (дядя Чао Лин говорил, что и для машин нужны рабочие) поставит белых людей, тех, что не любят работать, и заставит их работать день и ночь напролет, чтобы отдыхали загнанные, замученные, исхудалые, изголодавшиеся китайцы.
Иногда П'ан с Чао Лином выезжали вместе за город, развозить цветные ящики в пригородные поселки, и тогда Чао Лин, смеясь, давал в руки П'ану руль и позволял руководить повозкой. Оказалось, – это просто до странности. Под слабой детской рукой повозка послушно катилась, повертывала, ускоряла и замедляла ход, словно не замечала, что руководил ею не Чао Лин, а маленький мальчик П'ан. Называлась повозка А Вто Мо-биль.








