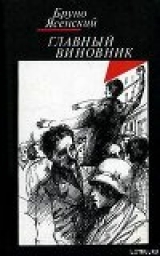
Текст книги "Я жгу Париж"
Автор книги: Бруно Ясенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
– Не предвидится ли возможность какого-либо осложнения? – беспокойно спросил господин в очках.
– Ни в коем случае. Вы видали телеграмму. Все готово до малейших подробностей. Мое присутствие на борту, я полагаю, лучшая тому гарантия. Не думаете же вы, надеюсь, чтобы я сам пошел на риск?
– Конечно. Я спросил просто так, для спокойствия. Вы послали еще одну телеграмму?
– Да, через минуту должен быть ответ.
В эту минуту на палубе появился посыльный.
– Телеграмма мистеру Давиду Лингслею.
Мистер Давид пробежал листок.
– Секретарь телеграфирует, что все предусмотрено, – сказал он, комкая листок в пальцах. – Будьте добры предупредить пассажиров, как я уже говорил, и отдайте последние распоряжения. В момент приезда встретимся на палубе.
Мистер Давид Лингслей медленным шагом поднялся по лестнице на борт.
Смеркалось быстро. В полумраке мистер Давид наткнулся на две белые фигуры, выносившие какую-то тяжесть на носилках. Он торопливо уступил им дорогу, прислонясь к трубе. В темноте щелкнула зажигалка. Поднеся к ней бумажку с полученной телеграммой, мистер Давид медленно зажег ею папиросу. Пламя зажженной бумажки осветило на мгновение лицо – бледное, суровое, почти каменное. Огонь потух. Лицо растворилось во мраке.
* * *
В одиннадцать часов на горизонте показались огни первых броненосцев. На борту началось сильное оживление. В темноте тут и там забегали человеческие тени, раздались отголоски приказов. «Мавритания» с потушенными огнями шла на всех парах.
Огни на горизонте приближались с каждой минутой; в темноте можно уже было различить простым глазом черные очертания плавающих зданий. С башни одного из них, как из пульверизатора, брызнул прожектор. Он нервно ощупал море и задержался на корпусе «Мавритании», ослепляя потоком света всех на борту.
В то же мгновение другой прожектор осветил борт с северной стороны. В глухой ночной тишине заунывно, протяжно завизжала сирена, и визг ее, одна за другой, подхватили ее более отдаленные сестры. Напряжение на палубе достигло высшей степени.
От броненосца, стоявшего напротив, со свистом отделился столб огня и снаряд дугой прореял над «Мавританией».
– Стреляют холостыми снарядами, – хихикнул господин в американских очках окружающей его группе плотных джентльменов.
– Не может ли по ошибке между холостых затесаться случайно один настоящий? – беспокойным шепотом спросил господин с черной остренькой бородкой.
– Ни в коем случае, – снисходительно улыбнулся господин в очках. – Где дело идет о мистере Давиде Лингслее, там не может быть ошибки.
«Мавритания» неслась вперед полным ходом. Теперь уж, одновременно с трех сторон, брызнули вверх три столба огня, и грохот выстрелов встряхнул свисающий, как парус, воздух. Где-то у юта раздался крик, потом грохот рушащихся обломков. На борту почувствовалось замешательство. Орудия палили непрерывно. Из середины палубы «Мавритании» вылетел черный столб дыма, подпирая рушащееся небо.
В ту же минуту на освещенной снопами прожекторов палубе «Мавритании» появился старый шамес в развевающемся, расстегнутом халате и побежал с криком, размахивая руками.
– Убит. Ребе Элеазар убит! – ревел обезумевший шамес.
– Мистер Давид Лингслей! Где мистер Давид Лингслей? – кричал господин в американских очках, хватая за грудь всех встречных джентльменов и заглядывая им в лицо.
Взрыв досок и дыма отбросил его на перила.
Господин в американских очках попробовал встать, но какая-то невидимая громадная гиря придавила его к земле. Наклонился над ним старый взлохмаченный шамес. Господин в очках хотел что-то сказать. Из горла его вылетел глухой хрип. Шамес наклонился ниже.
– Телеграмму… Послал сегодня в Нью-Йорк новую телеграмму… – прохрипел господин в американских очках.
Снаряды падали непрерывно. Размозженный ют «Мавритании» с молниеносной быстротой погружался в воду. Над волнами возвышался лишь бак с высоко водруженным килем.
На баке, торчащем высоко в небо, перекинутый через перила висел мистер Давид Лингслей. Из его руки, оторванной вместе с частью туловища, обильной струей хлестала на палубу кровь.
Мистер Давид Лингслей не ощущал боли. Он чувствовал, как медленно погружался куда-то вниз, но это не была вода, это был скорее мягкий плавный лифт, медленно опускающий его вдоль мелькающих этажей сознания. Мимо него в обратную сторону поднимались другие стеклянные лифты, полные знакомых, полустершихся в памяти лиц. На первом плане он увидел неестественно увеличенное лицо племянника Арчи с добрыми карими глазами, с прядями светлых шелковистых волос на умном широком лбу: племянник Арчи улыбался. Мистер Давид Лингслей попытался отразить эту улыбку странно неподвижными уголками губ. Он с гордостью сознавал, что минуту тому назад выполнил какое-то крайне важное дело, на которое у него всю жизнь не хватало времени и которым племянник Арчи должен был бы быть очень доволен, но никак не мог вспомнить, какое именно. Потом освещенные этажи стали все реже и реже в черном непроницаемом колодце.
Плавный, качающийся лифт мягко скинул его в смерть.
X
В холодном зале заседаний института над громадным столом, покрытым зеленым сукном и усыпанным кипами бумаг, в высоком председательском кресле сидел П'ан Тцян-куэй в серых кожаных перчатках и в плотно обмотанном вокруг шеи шарфе (дабы возможно меньшая поверхность кожи непосредственно соприкасалась с поверхностью зачумленного воздуха).
На двух концах стола две машинистки одновременно выстукивали текст двух диктуемых им циркуляров. Настольный телефон, то и дело прерывающий работу острым причитанием звонка, выбрасывал из черного дула трубки рапорты из разных пунктов сеттльмента.
Донесения в общем были неутешительны. Несмотря на исключительные меры, чума распространялась на территории нового сеттльмента медленно, но непрерывно. П'ан Тцян-куэй решил свести с ней счеты по-азиатски.
На второй день существования сеттльмента на стенах домов появился леденящий кровь декрет. Декрет извещал, что так как господствующая ныне форма чумы оказалась на практике неизлечимой и зараженные ею лица, жизнь которых поддерживается искусственно, становятся лишь дальнейшими распространителями заразы, в будущем каждый зараженный будет немедленно расстрелян. Здоровые жители обязаны тотчас же доносить о каждом случае заболевания. Виновные в укрывательстве зараженных подлежат немедленному расстрелу наравне с зараженными.
Сухие телефонные рапорты доносили каждую минуту о новых расстрелах. Чума приняла вызов. На зеленом сукне стола, где вместо карт падали с шелестом подписываемые на лету листки приказов, разыгрывалась азартная партия. Из глубины высокого кресла П'ан Тцян-куэй клал на подаваемые ему очередные декреты зигзаг своей фамилии, будто бросал на стол новый козырь. Партнерша отвечала откуда-то издалека в рупор телефонной трубки цифрой новых расстрелов.
Продиктовав очередные циркуляры, П'ан Тцян-куэй жестом отправил обеих машинисток и остался один в темнеющем зале. Напряженный в неравной бессонной борьбе мозг требовал отдыха. Звонок телефона выкашлял новую цифру расстрелов. П'ан Тцян-куэй со злобой снял трубку и положил на стол. Бессильный рот трубки шипел тихо в пустоту.
П'ан Тцян-куэю вдруг захотелось воздуха. Вот уже три дня он не покидал зала, прикованный к креслу. Нахлобучив шляпу, он запер зал на замок и по широким каменным ступеням быстро сбежал на улицу мимо вытянувшихся в струнку часовых.
На улицах было пусто. По узким тротуарам шмыгали кое-где одинокие желтые прохожие.
Знакомыми улицами добрел П'ан Тцян-куэй до Люксембургского сада, превращенного в государственный крематорий. Откуда-то из глубины его приветствовал глухой треск залпа. П'ан Тцян-куэй поморщился и ускорил шаг.
Странным рикошетом впечатлений ему вдруг пришел на ум профессор, вызвав на его губах редкую улыбку.
В ночь переворота, в силу особого приказа, профессор был арестован и интернирован в одном из особняков Латинского квартала, где он жил до сих пор в строжайшей изоляции.
В особняке была оборудована лаборатория, где под личным руководством профессора двадцать четыре часа в сутки китайские студенты-бактериологи корпели над изобретением спасительной сыворотки, способной побороть смертоносный микроб.
Надо признать, что профессор был верен своему слову, работая круглые сутки до изнеможения. В азартной тяжбе с непобедимой болезнью в нем ожила его жилка ученого; работая сначала неохотно, он с каждой неудачей постепенно сам стал увлекаться борьбой, задавшись целью во что бы то ни стало победить коварную бациллу, задевшую его самолюбие бактериолога и осмелившуюся подвергнуть сомнению самую силу современной науки. Чем дольше длились неудачные опыты, тем сильнее загорался он в своем непреклонном упорстве. Кончилось тем, что он почти перестал спать, не оставляя ни на минуту лаборатории, и с трудом удалось заставлять его принимать еду. Запертый среди микроскопов, пробирок и реторт, исхудалый и желтый от бессонницы и переутомления, с дико взъерошенной мочалкой бородки, он напоминал средневекового алхимика, поставившего себе целью отыскать заветный философский камень и не отказывающегося от своей затеи, несмотря ни на какие неудачи.
На третий день после переворота П'ан Тцян-куэй лично навестил профессора в его новом жилище, желая узнать, не нуждается ли он в чем-нибудь. Профессор лихорадочно переставлял какие-то пробирки и возился с микроскопом.
– Я обязуюсь умертвить эту проклятую бациллу, – сказал он, потряхивая у света какой-то пробиркой, – но обещайте мне, что изобретенную мною сыворотку вы не используете исключительно для вашего желтого населения, сделаете ее достоянием и белых кварталов города. Я отнюдь не намерен спасать от смерти азиатов, предоставляя моих соплеменников собственной участи.
– На этот счет могу вас успокоить, – ответил с улыбкой П'ан Тцян-куэй. – Ваша сыворотка в день ее изобретения станет достоянием, правда, не всех белых кварталов, но зато несомненно самого людного из них: рабочего квартала Бельвиль. Кстати, если вы не знаете последних новостей, я могу вас уведомить, что рабочие кварталы Бельвиль и Менильмонтан обладают уже в настоящее время лабораториями не хуже наших, в них ваши коллеги по науке трудятся над ликвидацией упорного микроба. Я подумал, что вам небезынтересно быть в курсе их работ и обмениваться с ними своими личными наблюдениями. Мне удалось, – признаюсь, не без труда, – завязать с ними телефонное сообщение. Для этого необходимо было не более и не менее как соединиться проводами через все отделяющие нас от них кварталы, а это при настоящем раздроблении Парижа на обособленные государства – вещь далеко не легкая. Мы ухитрились использовать для этой цели тоннели метро. Сегодня вечером для вас поставят аппарат, который соединит вас непосредственно с лабораторией коммуны Бельвиль.
Профессор восторженно засуетился.
– Что вы говорите! Это изумительно придумано! Конечно, это громадное облегчение. Если у них есть хорошо оборудованная лаборатория, можно будет одновременно проделывать ряд опытов. Это несомненно ускорит результат моих исканий.
– Нет ли у вас еще какого-нибудь желания?
– Да. Велите убрать из лаборатории радио. Ассистенты могут послушать известия, если они их интересуют, где-нибудь в другом зале. А мне сейчас не до известий. Мешает работать.
– Ваше желание будет удовлетворено.
Они расстались, обменявшись крепким рукопожатием, словно два добрых старых друга.
Спускаясь по лестнице к выходу, П'ан столкнулся внезапно с одним из ассистентов, маленьким пухлощеким японцем. В свое время были они коллегами по Сорбонне. Маленький японец-чистюлька по тщательности своего туалета напоминал всегда П'ану старательно обтертую от пыли безделушку.
Японец, казалось, поджидал его здесь специально. П'ан Тцян-куэя поразили строгая бледность его лица и решительность, с которой тот загородил ему дорогу.
– Что случилось? Вы хотели мне что-нибудь сказать?
– Осмеливаюсь обратиться к вам с большой просьбой, с громадной просьбой… – произнес вполголоса японец узкими, как-то странно, не в лад словам, подпрыгивающими губами, и губы эти затрепетали, упали, приникли к костлявой огрубевшей руке П'ан Тцян-куэя.
П'ан Тцян-куэй от неожиданности выдернул руку.
– Вы с ума сошли! В чем дело?
– Осмеливаюсь обратиться к вам с большой, с громадной просьбой… – повторил ассистент, быстро пережевывая слова и отрезывая каждое белыми, торчащими наружу зубами. – Я здесь нахожусь в абсолютной изоляции. Мне нельзя встречаться ни с кем. Сегодня мне позвонили из города… Жена захворала… Боли… Быть может, вовсе не чума. Даже, наверное, не чума. Должно быть, съела что-нибудь несвежее… Соседи донесли… За ней приехали и увезли ее в барак. Сегодня вечером, в восемь часов, она будет расстреляна. Вы понимаете, сегодня вечером. Если б переждать хоть до завтра… Производятся опыты над новой сывороткой. Завтра будут результаты. Все указывает на то, что результат будет положительный. Вы понимаете, нельзя же ее при таких обстоятельствах убивать сегодня. К тому же возможно, что это вовсе не чума. Первые симптомы бывают ошибочны. Быть может, что-нибудь просто желудочное, необходимо переждать, убедиться. Изолировать по крайней мере на несколько дней. Ведь в изоляции она не будет представлять ни для кого опасности. Надо только задержать выполнение казни. Ваш приказ по телефону… Понимаете, коллега?… Зовут ее…
П'ан Тцян-куэй смотрел на ассистента с удивлением и любопытством.
– Не понимаю вас, товарищ. Или, вернее, начинаю вас, кажется, понимать, – сказал он резким, полным презрения голосом. – Если я не ошибаюсь, – дело в протекции. Вы требуете от меня нарушения закона о борьбе с эпидемией для того, чтобы продлить на несколько дней жизнь одного из зараженных индивидов на том единственном основании, что индивид этот – ваша жена. Вы забываете, должно быть, что ежедневно гибнут, без всякой протекции, десятки наших лучших работников и что лишь благодаря введению закона о ликвидации зачумленных нам удалось понизить смертность в республике свыше чем на пятьдесят процентов…
Японец слушал, быстро моргая веками.
– Производятся как раз опыты над новой сывороткой. Завтра должны быть результаты. Завтра чума может оказаться излечимой. Задержите весь сегодняшний транспорт. Если опыт не удастся, не поздно будет казнить их завтра. А может быть, нам как раз удастся их спасти… Впрочем, я уверен, что у жены вовсе не чума… Просто что-нибудь желудочное… Если б изолировать…
П'ан Тцян-куэй сухо оборвал:
– Вы повторяете песенку каждого зачумленного. Если у вашей жены и не было даже чумы, сейчас она больна ею уже без сомнения. Из заразного барака не выходит никто. К тому же мы не имеем никакого права делать исключение кому бы то ни было и разводить носителей заразы. Все ваши сыворотки до сих пор не дали никаких положительных результатов. Нет оснований полагать, что последний опыт будет удачнее прежних. По-вашему, нам пришлось бы откладывать со дня на день ликвидацию зараженных и копить зачумленных, не в силах будучи уберечь их от соприкосновения со здоровым населением, не располагая к тому же столь многочисленным штатом санитаров. Другими словами, это означало бы повышение смертности в республике на прежние пятьдесят процентов. Я поражаюсь, товарищ.
Губы маленького японца беззвучно вздрагивали.
П'ан Тцян-куэй сбежал по лестнице вниз и миновал ворота. На улице глазам его представился вновь на мгновение маленький японец-чистюлька с вздрагивающими уголками серых губ.
«Ради одной юбки перезаразить всех? – подумал П'ан с горечью. – Собственно, таких надо бы расстреливать».
Впрочем, тут же забыл про весь инцидент.
Занятый делами крохотного сеттльмента, П'ан Тцян-куэй не заглядывал с тех пор к профессору. Правда, ежедневно получал подробный телефонный бюллетень о состоянии работ профессора, которые, вопреки всем усилиям, по-прежнему не давали положительных результатов. Пользуясь свободным моментом, П'ан Тцян-куэй решил его навестить.
Тропинками вечереющих улочек ноги вскоре вывели на площадь Пантеона. Окно в третьем этаже в доме № 17 зияло по-прежнему бельмом закрытых ставней.
Внезапно пошел дождь, заслоняя дома шторой из стеклянных капель. П'ан Тцян-куэй, желая переждать его, вошел в открытый Пантеон.
Пантеон был пуст, и от высокого купола, от тенистых сводов веяло прохладой и покоем. Пустая касса сияла по-прежнему негостеприимной надписью: «Вход 2 франка». Одинокие шаги по каменному паркету долго перекликались звонким многократным эхом. Со всех сторон белками глаз без зрачков всматривались в пришельца хорошо знакомые фигуры.
* * *
Дождь прошел уже давно, когда П'ан Тцян-куэй появился опять у выхода из Пантеона.
У решетки собралась за это время кучка желтых студентов, приветствуя диктатора восторженными восклицаниями. П'ан Тцян-куэй застенчиво поднял воротник пальто и через минуту исчез в извилистых проулках.
Между тем быстро наступали сумерки, и на утопающих во мраке мостиках тротуаров желтые фонарщики поспешно развешивали игрушечные бумажные шары, пестрые аксессуары какой-то причудливой венецианской ночи.
В лаборатории профессора устоялся тошный тепличный воздух, облекающий все контуры зыбкой, извилистой линией; точно мухи под толстым стеклянным колпаком, копошились в нем валившиеся от усталости прозрачные ассистенты.
Профессор с растрепанной шевелюрой переливал из одной колбы в другую мутноватую, белесою жидкость и, смешивая ее с содержимым различных пробирок, приготовлял какую-то реакцию. На вопросы П'ан Тцян-куэя отвечал невнятным бормотанием, раздраженно отмахиваясь от них руками. Невозможно было вытянуть из него ни единого слова.
Полуживые от изнурения ассистенты, казалось, не понимали задаваемых им вопросов, отвечали не сразу и невпопад.
Побродив по залам, П'ан Тцян-куэй взглянул на часы: семь – час вечернего рапорта. Быстрым шагом направился к выходу. В дверях налетел на него с размаха небольшой ассистент в белом халате. Хрустнуло стекло. Разлитая жидкость обрызгала П'ан Тцян-куэю лицо и пиджак.
Маленький ассистент рассыпался в извинениях. П'ан Тцяи-куэй кинул взгляд на зажатую в пальцах ассистента шейку разбитой пробирки со стекавшей еще мутной белесой влагой, поднял глаза на белевшее перед ним лицо. Лицо показалось откуда-то знакомым. Одно мгновение силился вспомнить. Узкие вздрагивающие губы… Маленький японец-чистюлька… Просил протекции для жены…
Японец продолжал извиняться. П'ан Тцян-куэй посмотрел в упор ему в глаза и натолкнулся на отпор пары холодных, устремленных на него зрачков. Ему показалось, что в них мелькнули две злорадные искорки.
Не произнеся ни слова, П'ан Тцян-куэй круто повернул и направился в глубь лаборатории. Вынув из шкафа большую бутыль с раствором сулемы, он выплеснул ее содержимое на пиджак, долго и тщательно мыл лицо и руки. Затем не глядя на все еще извинявшегося ассистента, он быстро сбежал по лестнице.
Вернувшись в институт, П'ан Тцян-куэй занялся приемом докладов и распоряжениями на завтрашний день. Стрелка больших часов приближалась уже к двенадцати, когда, отдав последние распоряжения, диктатор отпустил курьера и притушил слишком яркую люстру.
В углу зала, у стены, принесенная сюда три дня тому назад и все три дня остававшаяся нетронутой, стояла узкая походная кровать. П'ан Тцян-куэй постелил ее сам и в первый раз за три дня стал раздеваться. Оставшись совершенно голым, он тщательно вытер все тело каким-то прозрачным раствором. Натираясь под мышками, он на минуту задержался и, подняв руку, внимательно присмотрелся. Железы под мышками ему показались слегка набухшими. Долго и тщательно он ощупывал их пальцами.
– Самовнушение, – пробормотал он наконец и, набросив на себя рубашку, быстро нырнул под одеяло.
Уснул тотчас же.
Ночью ему снились разукрашенные флагами кварталы, оркестры и марширующие по улицам колонны китайской Красной армии. Украшенный красным флагом Пантеон открыт был настежь, и у решетки его ожидала вереница утопавших в цветах грузовиков. По обе стороны шпалеры солдат, словно деревянные, отдавали честь ружьем. П'ан Тцян-куэй удивленно спросил первого солдата о причине торжества.
– Перевозим их в Китай, – ответил солдат. Теперь только П'ан Тцян-куэй вспомнил, что пришел ведь сюда именно за этим, и, пересекая зал, быстро сбежал в подвалы.
Подвалы были открыты, и в них толпилась торжественная желтая толпа. Протиснувшись вовнутрь, П'ан Тцян-куэй увидел взвод солдат, приподнимавших громадными железными ломами саркофаг Руссо. Саркофаг, будто прикованный к земле, не давался.
– Еще! Разом! Р-р-раз!
Ни с места.
П'ан Тцян-куэй, оттолкнув первого солдата, всей тяжестью тела налег животом на лом.
– Теперь по команде: р-р-раз!
Не пошатнулся.
– Р-р-р-раз!
Опять ни черта.
– Р-р-р-раз!
Пот каплями выступил у него на лбу. Образ исчез. П'ан Тцян-куэй долго не мог осознать, что именно случилось, где он, погруженный в непроницаемую тьму.
Первым рефлексом, который затрепетал, как рыба, на зеркальной поверхности сознания, была сильная боль внизу живота. Сейчас… Что же это было? Ага. Налегал животом на лом. Когда же это было и где?
Боль становилась с каждой минутой все невыносимее и помогла мысли утвердиться в пространстве. Тьма. Ночь. Кровать. В зале института. Боль. Разве???
Боль становилась нестерпимой. П'ан Тцян-куэй спрыгнул босиком на холодный паркет, нащупал выключатель и повернул его. Вспыхнул свет, отрезывая вымощенное бумагами зеленое сукно стола, высокие спинки кресел, потолок, ночь.
Дикая боль в животе не унималась. П'ан Тцян-куэй с трудом добрался к окну, где на подоконнике стояла оставленная с вечера бутылка коньяку, и залпом выпил ее жгучее содержимое. Коньяк раскаленной струею разлился по внутренностям, заглушая на миг ощущение боли.
П'ан Тцян-куэй медленным, неуверенным шагом вернулся к кровати. Мысли прыгали, укороченные, недодуманные до конца, как картины в старом, рвущемся ежеминутно фильме.
Острая боль в животе снова давала себя чувствовать.
П'ан Тцян-куэй вытянулся во весь рост и попытался не думать ни о чем. Проглоченный коньяк кипел под черепом теплым плеском ритмичных волн. Живот, точно мешок, полный боли, удалился куда-то; все тело словно удлинилось чрезмерно, увеличивая на несколько метров расстояние между головой и животом. Холодные волны боли наплывали оттуда одна за другой. Усталый мозг, напрасно пытавшийся погрузиться опять в теплую ванну сна, бросал на экран закрытых век рассыпающиеся и с трудом вновь соединяемые образы. На минуту одолел его сон.
В полусне действительные очертания предметов стали медленно стираться и изгибаться, создавая из новых сочетаний одних и тех же линий все новые пейзажи.
Там, где только что тысячью свечей сияла люстра, теперь пламенело громадное, шарообразное солнце, тяжелое, как капля раскаленного металла, готовая каждую минуту упасть на землю, обугливая ее. То, что минутой раньше казалось рядом скамеек, томно изгибалось теперь на солнце горбом тысяч борозд, торчащих из мутного стекла воды. Погруженные по колена в воду, маленькие, сморщенные, желтые люди в лохмотьях садят рис. Куда ни кинешь взгляд – всюду вода, борозды и сгорбленные, скорчившиеся под вековым ярмом труда человеческие спины под раскаленной каплей солнца, готовой каждую минуту упасть.
Громадная, мучительная волна всеобъемлющей любви медленно ползет от живота к гортани валом накопленных теплых слез. П'ан Тцян-куэй чувствует: еще миг, и он бросится лицом в размокший лесс борозд; станет целовать горькими губами раскаленные, пожелтевшие от пота зерна животворного риса; схватит в руки и прижмет с плачем к сердцу крохотное, морщинистое, бабье личико согбенного мужика.
Вдруг, точно сквозь слезы, видение начинает дрожать и блекнуть. На первом плане в воздухе мерещится пара гигантских ступней, мелькающих в беге, и туман спиц несущейся навстречу коляски.
Острая, жгучая боль и мрак. Да, это упала раскаленная капля солнца. Серый, едкий дым заволакивает все мягкой хищной лаской. В прядях дыма, как в петлях, колышутся искаженные человеческие лица.
Чье же это припухшее женское лицо с глазами, расширенными детским испугом? Близкие, знакомые черты. Чен! Слов не слышно, но в рисунке губ внятно трепещет где-то уже раз услышанная фраза: «Как страшно умирать».
Дым медленно рассеивается, открывая красные скелеты зданий.
Нанкин.
Пламя пожирает китайские кварталы, останавливаясь, как зачарованное, перед ажурной решеткой концессий. Из-за решетки белое, сытое лицо рябого мастера с похабной гримасой высунуло язык над дымящимся жерлом пулемета.
– За мной! – кричит П'ан Тцян-куэй наступающей за ним толпе, перерезывая гигантскими прыжками отделяющую его от решетки площадь.
Внезапно он оглядывается. Площадь пуста. Нет ни одного человека. Рябое лицо из-за решетки оскаливается гримасой дразнящего хохота над белой струйкой дыма, выбивающейся из пулемета.
Страшная боль в животе, кажется, рвет напряженные струны внутренностей.
– Попало в живот, – шепчет П'ан Тцян-куэй, напрасно силясь подняться и продолжать бег.
Боль вьется во внутренностях, как червь. Дым рассеялся. На потолке ясно светит люстра. Зеленое сукно стола. Телефон. В большом, ярко освещенном зале по углам извивается чей-то стон.
– Кто может здесь стонать?
П'ан Тцян-куэй одним броском приседает на койке. Оказывается это стонет он сам. Нечеловеческая боль в животе бьется, как раненая птица.
– Ага, значит – конец?
П'ан Тцян-куэй дважды громко повторил это слово, не в состоянии доискаться в нем какого-либо смысла. Скрючиваясь от боли, он начал одеваться. Одевался долго, с перерывами, чтобы перехватить дыхание после особенно острых припадков боли.
Протянул руку за пиджаком. Пиджак был еще влажный. П'ан Тцян-куэй остался с протянутой рукой. Пятна от сулемы…
Разбитая пробирка… Маленький японец… Две злорадные искорки в глазах… На лестнице – влажное прикосновение к руке теплых вздрагивающих губ.
П'ан Тцян-куэй выпрямился. Машинальным жестом натянул на руки серые кожаные перчатки и обмотал шею шарфом – средство, чтоб возможно меньшая поверхность кожи соприкасалась с зачумленным воздухом.
Окончив одеваться, П'ан Тцян-куэй с трудом добрел до стола, отыскал перо и бумагу. Боль, ползущая к глотке, наполнила уже весь рот, и дрожащие зубы беспомощно звонили тревогу. Чтобы писать отчетливо, он левой рукой должен был придерживать челюсть. Написав два письма, он аккуратно запечатал их и надписал адрес.
Только по окончании этой процедуры он вынул из ящика стола большой наган, товарища красных дней Нанкина, и уселся в кресло. На столе позвонил телефон.
П'ан Тцян-куэй отложил револьвер и взял трубку. В первый момент из-за перепуганного дрожащего голоса в трубке он не мог понять, кто говорит. Говорил адъютант, заведующий лабораторией профессора.
– Сегодня ночью неожиданно – не было симптомов – профессор умер. С вечера – не ложился спать. Ассистенты при смене обнаружили…
П'ан Тцян-куэй повесил трубку. На бледные закушенные губы с трудом выкарабкалась едва заметная улыбка. С улыбкой он положил обратно в ящик черный наган и из бокового ящика достал небольшой полированный шестизарядный револьвер.
Телефон зазвонил вторично.
– Алло! Товарищ П'ан Тцян-куэй? Нас разъединили, я хотел вам сказать еще, что изобретенная профессором позавчера сыворотка оказалась вполне удовлетворительной. Опыты дали положительные результаты. Арестованные фашисты, которым после прививки вспрыснута чумная сыворотка, не заболели. С завтрашнего дня можно будет организовать массовую прививку. Эпидемию в принципе можно считать ликвидированной.
– Хорошо, очень хорошо. Поздравляю вас, товарищ, – спокойно и отчетливо сказал в трубку П'ан Тцян-куэй. – Известите немедленно по телефону лабораторию в Бельвиле и сообщите им рецепт прививки. Немедленно! Уже сделано? Хорошо! Благодарю вас.
П'ан Тцян-куэй повесил трубку.
Не переставая улыбаться, он всунул себе в рот тонкое блестящее дуло. Зубы, как камертон, зазвенели о холодную сталь. Посаженная крепко между зубами мушка попала во рту на выдолбленное для нее место.
В пустом, ярко освещенном зале института от удивленных торжественных стен странным эхом отлетел грохот выстрела.
* * *
Хоронили П'ан Тцян-куэя с военными почестями, без музыки, в солдатском грохоте барабанов. Тридцать три барабанщика в сиротливом, зловещем соло, как барабанный туш среди умолкшего циркового оркестра в минуту смертельного прыжка, дробью мелькающих палочек прошивали перед ним длинную траурную дорожку. Экстренным декретом народного правительства тело его было освобождено от принудительного сожжения и временно положено в Пантеон.
В центральной части зала, в резном деревянном ларе, покрытом красным флагом, его оставили одного, захлопнув чугунные ворота. Белые без зрачков глаза мраморных фигур, словно расширенные изумлением, смотрели на странного пришельца.
В простом деревянном гробу, на простой парусиновой подушке лежал П'ан Тцян-куэй, прямой и неподвижный, в серых кожаных перчатках и плотно окутанном вокруг шеи шарфе, как будто желал он, чтобы возможно меньшая поверхность его зачумленной кожи непосредственно соприкасалась с прозрачным жизненосным воздухом.








