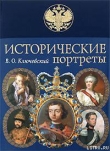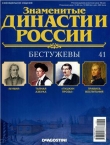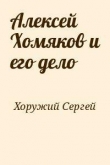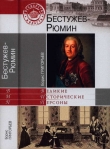Текст книги "Декабристы"
Автор книги: Бригита Йосифова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Сперанский лучше всех знает, как годы и годы подряд он упорно и добросовестно работал именно над переменами, над переустройством России, над просвещением! И что вышло из всего этого? Ничего. Россия все та же, с той лишь разницей, что Александр I мертв, а новый император, Николай I, уже командует расстрелом этих безумцев, дерзнувших выступить против него. Как прекрасны безумцы! Давно ли он был с ними?
От Невы дует ледяной, захватывающий дыхание ветер. Сперанский попросил подать карету и отвезти его домой.
Весной 1826 года Следственная комиссия завершила свою продолжительную, сложную и неблагодарную работу. Был учрежден Верховный уголовный суд. Как член Государственного совета в него вошел Михаил Сперанский. Какая-то скрытая злоба, какая-то неприязнь Николая I таится за этим фактам. Именно тот Сперанский, над которым витают подозрения и обвинения и имя его упоминается сотни раз при допросах декабристов, оказался приобщенным к тем, кто будет определять судьбу восставших. Он должен судить и наказывать людей, которые многие годы были его друзьями: их связывала не только дружба, но и взаимное уважение. Сперанский будет судить людей, от которых в течение долгих месяцев добивались показаний, что он был их соучастникам.
За свое решительное и твердое «нет» декабристы получат специальный «подарок» от Николая I – назначение Сперанского их судьей! Отказаться от назначения Сперанский не может. Сперанский оправдал надежды Николая I; выполняя волю царя, он стад верной опорой трона в судебной расправе над декабристами».
От либеральных идей о конституция, реформах, преобразованиях, так характерных для молодого Сперанского, бывшего советника Александра I и мечтателя о благе России, не осталось ничего. Стечение исторические обстоятельств выталкивает его вперед, и из мечтателя-безумца он превращается в судью собственных иллюзий, государственного сановника – блюстителя закостеневшего и реакционного порядка!
Своими глубокими юридическими знаниями, красноречием, образованностью, своим логическим мышлением и огромной эрудицией Сперанский намного превосходит всех других членов суда. Никто как Сперанский не мог так блестяще выполнить волю царя – подвести «юридическую базу» под акт судебной расправы над декабристами.
Подготовку «Доклада» (приговора) суда императер возлагает на Сперанского, сенатора Казадаева и генерал-адъютанта Бороздина, но, в сущности, «Доклад.» пишет один Сперанский. Уже сам этот факт показывает его большую роль в суде над декабристами.
Его блестящему перу принадлежат страшные страницы доклада суда. Это мастерски выполненная конструкция, стройное сооружение, в котором просматривается жестокая сила обвинения. Текст надписан с убедительной логичностью, присущей когда-то самым лучшим докладам и запискам Сперанского Александру I, в которых он сам излагал, обосновывал и пламенно защищал первые дуновения декабризма.
На этот раз из-под его пера выходит документ, отличающийся своей политической аморальностью.
«Хотя милосердиню самодержавия закон не может „аложить никаких огршвчевий, – говорится в нем, – Верховный уголовный суд возвейяет себе дерзновение утверждать, что имеются такого рода преступления, которые столь тяжки и касаются безопасности государства, что они уже сами во себе неподвластны даже самому милосердию!“ Эти несколько строк красноречиво иллюстрируют небесстрастный, канцелярско-бюрократический стиль Сперанского.
12 июля 1826 года, в день объявления приговора, разыгрывается необычный «спектакль». От здания Сената отъезжает длинная вереница карет с членами Верховного суда. На улицах Петербурга жители молча наблюдают за этой процесеиеи Для столицы это не является чем-то новым. Новое и необычное только само направление – Петропавловская крепость. Там, в комендантском доме, предстоит первая и последняя встреча судей с подсудимыми.
В комендантском доме Петропавловской крепости Сперанский оказался лицом к лицу с людьми, против которых заполнял страницы виртуозно сформулированных обвинений Он встретился с людьми, осуждаемыми им на смерть и заточение за подготовку восстания, которое в конце концов должно было именно его, Сперанского, привести к высшему посту руководства обновленного русского государства! Какая ирония судьбы!
Лицом к лицу с осужденньми. Здесь Гавриил Батеньков, ближайший его друг, с которым он делил хлеб и кров своего дома. Здесь другие 24 декабриста, его братья по масонству. Среди них и трое осужденных на смертную казнь – Пестель, Рылеев и Сергей Муравьев-Апостол. Ведь еще в 1810 году Сперанский стал членом массонской ложи!
Какая злая пророчица протянула над ним свою костлявую руку и обрекла на чудовищнейшее падение, судить и посылать на виселицу людей, которых еще вчера уважал, любил, духовно был близок с ними Какая сила толкнула Сперанского к падению?
Не тот же ли деспотизм русского монарха, мракобесие самодержавия, беспощадная мажина полицейского аппарата, муки, унижения, каторга? Жить и творить так же мучительно и тяжело, как и служить покорно.
14 декабря – это трагедия одиноких рыцарей, горстки звезд во мраке деспотической ночи. Они блестят одиноко и угасают, едва загоревшись, едва родившись на небосклоне.
Против них – блюдолизы, царские лакеи, политические нечестивцы, добродетельные аристократы, зашуганные писатели, журналисты, которые в общем хоре изрыгают ругань, клевету на бунт на Сенатской площади.
К трону победителя на высоких, позорных волнах несутся угодничество и человеческая низость. Начинается невероятное соревнование в подлости, в стремлении извлечь личную выгоду. Верноподданные спешат зафиксировать свои имена на фоне национальной трагедии.
15 генералов в парадных мундирах, при всех орденах и медалях просят аудиенции у молодого монарха. В Зимнем дворце, в тех же торжественных залах, куда недавно с завязанными глазами вводили декабристов и только здесь снимали с них цепи и повязки, чтобы начать допрос, генералы коленопреклоненно просят, чтобы как можно большее количество «бунтовщиков» было осуждено к смертной казни. И несмотря на то, что сердце монарха «обливается слезами» – оно, русское воинство, просит монарха отрубить больше голов, чтобы убить дерзкие мечты либерализма и свободы. Сенатор Лавров, пользуясь правом члена Верховного уголовного суда, настаивает, чтобы было отсечено не менее 63 голов декабристов. Графиня Браницкая «жертвует» 200 пудов железа на кандалы для участников восстания на юге.
Таким был политический климат, в котором жил и трудился Сперанский.
Он отлично знал, что в течение многих месяцев над ним висело тяжелое царское подозрение. Он знал, с каким огромным мужеством и благородством руководители восстания на протяжении месяцев отрицали, не признавались в его участии, защищали и охраняли его имя от вовлечения в страшный мир обвинения.
Но одно дело быть опутанным коварными сетями Николая I и невозможность отвергнуть его решение стать членом Верховного уголовного суда, и совсем другое – самому взвалить на себя ношу написания доклада суда. Сперанский использовал свое виртуозное перо, чтобы как можно более убедительно доказать необходимость смерти и заточения своих друзей, своих товарищей по духу и времени.
Этот замечательный человек, блестящий государственный деятель, целиком живший идеями XVIII века, мастер слова, мистически преданный России, не мог уяснить простой истины, что в России в первый раз восстали дворяне, аристократы, которые хотели конституции и республики! Впервые совершался не просто обыкновенный дворцовый переворот, а вспыхнуло восстание с определенной политической направленностью. Смельчаки, горячо влюбленные в свободу, душой и сердцем воспринявшие идею республики, опередили свой век, поднялись над обычными понятиями того времени, в котором жили, вышли на Сенатскую площадь как предвестники будущего России.
Парадоксально, но факт, что этому монархисту не везло на царей. Когда-то Александр I рассердился на него и чуть было не расстрелял. Вспомним патетическое письмо профессора Паррота, который переубедил царя, и Сперанский остался жив. С первых дней своего царствования Николай I подозревал его в «вольнодумстве» и связях с декабристами. Лишь в конце жизни Сперанского он решился на благородный жест: удостоил его графского титула и наградил орденом Андрея Первозванного[38]38
За составление «Полного собрания законов» и «Свода законов» Российской империи. – Прим. ред.
[Закрыть].
Тот, который мечтал, что имя его будет связано с новыми государственными законоположениями, с просвещением, культурой, утонул в юридическом крючкотворстве. Он стал судьей декабристов, показавших на деле свои свободолюбивые порывы и стремления.
Самодержавие всегда нуждалось в таких людях, как Михаил Сперанский. Он оставил после себя десятки томов, содержавших законы Российской империи, как и тысячи статей и записок по государственному устройству, переведенных на все европейские языки.
Но раболепие Сперанского погасило блеск его ума. Страх стер обаяние его широкой энциклопедической образованности.
Цари наносили ему унизительные пощечины.
Осужденные на смерть и заточение декабристы защищали его. Они рыцарски оберегали его даже из мрачных застенков Петропавловской крепости. Они хотели его спасти, чтобы он был полезен России.
Сперанский ответил им жестокостью.
Исполин Некрополиса
В конце сентября 1836 года в 15-м номере московского журнала «Телескоп» появляется статья под заглавием «Философические письма к г-же ***. Письмо первое». Вместо подписи под ней значится: «Некрополис. 1829 г., 17 декабря». Несмотря на то что имя и фамилия автора не были названы, все безошибочно, правда не сразу, узнали его – Петр Яковлевич Чаадаев, всегда элегантно одетый человек, с бледным лицом и большим открытым лбом.
«Печальная и самобытная фигура Чаадаева, – писал о кем Герцен, – резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фоне московской знати. Я любил смотреть на него средь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас… Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и – воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него… Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе, они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения».
Этот тихий и загадочный человек среди мрака николаевской России осмелился «заговорить» открыто в печати, в полный голос. Н. Г. Чернышевский писал по этому поводу:
«Письмо… произвело потрясающее впечатление на тогдашнюю публику!»
Чаадаев был высочайше объявлен «сумасшедшим». «Письмо разбило лед после 14 декабря», – сказал Герцен. Это был, по его словам, обвинительный акт против николаевской России. Это был выстрел в ночи, в стране онемевших людей. Вот что писал Герцен о первом своем знакомстве с «Письмом» Чаадаева во время ссылки в Вятку:
«Я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку „Телескопа“. Надобно жить в глуши и ссылке, чтобы оценить, что значит новая книга… Наконец дошел черед и до „Письма“. Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… Читаю далее – „Письмо“ растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности… Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал… Я боялся, не сошел ли я с ума… Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернскях и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев…»
Москва, или Некрополис, как ее называл Чаадаев, вздрогнула, и эхо долго не утихало.
В 1895 году, оценивая роль и место Чаадаева в русской истории, в истории русского освободительного движения, Г. Плеханов писал: «Автора „Философических писем“ не только можно, но и должно было причислять к деятелям нашего освободительного движения».
Плеханов относил Чаадаева к замечательным людям России, внесшим значительный вклад в развитие русской общественной мысли.
«Философические письма» Чаадаева были своеобразным протестом против черной ночи самодержавия. Эта ночь заполнена увеселительными праздниками в Зимнем дворце, водной феерией фонтанов Петергофа, но не мыслями. Мыслить «иначе», что-то обсуждать, рассуждать не только запрещено, но и объявлено вредным.
И Чаадаев был объявлен «сумасшедшим». Его взяли под домашний арест. Его ежедневно посещает казенный врач, старательно заполняет медицинские протоколы своих визитов. Согласно им, Чаадаев никто больше, как «обыкновенный сумасшедший».
Приговор царя, объявляя Чаадаеву общественную смерть, тем самым поднял его на пьедестал героя, национальной знаменитости, к которой общество направляет свой изумленный взор. К его небольшому скромному дому в Москве вдут люди, которые добиваются приема, встречи, беседы.
«Итак, – писал Чаадаев декабристу Якушкину в сибирскую ссылку, – вот я сумасшедшим скор» уже год, и впредь до нового распоряжения. Такова, мой друг, моя унылая и сметная история».
Эта «унылая и смешная история» стала основной в биографии Чаадаева. Внешние данные о его жизни не дают ключа к разгадке этого обладателя сокровищами тайных мыслей…
Петр Яковлевич Чаадаев родился в 1794 году в Москве. Родители его умерли, когда ему было три года. Его тетка, княгиня Анна Михайловна Щербатова, приютила его с братом Михаилом в своем московском доме. Она окружила обоих мальчиков лаской и любовью. Брат ее, князь Д. М. Щербатов, стал их опекуном. Для детей наступили счастливые дни. Они живут в богатом доме, их обучают специально приглашенные учителя, в их распоряжении множество прекрасных книг. Юноша Петр Чаадаев собирает старые книги, дружит с букинистами. Он переписывается с иностранными фирмами, выписывает из-за границы библиографические редкости. В 1808 году оба брата, Петр и Михаил, поступают в Московский университет.
Чаадаев дружит с А. С. Грибоедовым, Н. И. Тургеневым, И. Д. Якушкиным, И. Снегиревым, Никитой и Артамоном Муравьевыми и А. И. Якубовичем… Они спорят о Руссо, Вольтере, Дидро. Читают произведения Радищева.
«Его разговоры и даже просто его присутствие, – писал о Чаадаеве в его студенческие годы один из современников, – действовали на других, как действуют шпоры на чистокровного рысака. В его присутствии как-то неловко было предаваться ежедневным пошлостям. При одном его появлении каждый как-то невольно нравственно и умственно оглядывался, подтягивался, становился собраннее».
Чаадаев для всех стал авторитетом, умницей, которого все слушали. После окончания университета традиционное для русского дворянина поприще – военная служба. Богатый дядя отправляет его в Петербург, в гвардию. Война 1812 года вырывает Чаадаева из мира книг. Он вместе с Семеновским полком, в котором служил, участвовал в сражениях при Бородине, Малом Ярославце, Бауцене, Лейпциге. Дошел до Парижа.
Победители возвращаются, преисполненные надеждами, окрыленные новыми идеями и начинаниями. Будущий декабрист И. Якушкин в своих воспоминаниях позже отметит: «В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, восхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед».
В 1820 году перед Чаадаевым открывалась блестящая служебная карьера. Император Александр I собирается приблизить его к себе. И все в Петербурге говорят, что «вторым человеком» в империи будет Чаадаев, предсказывают, что он займет место Михаила Сперанского.
Но ко всеобщему удивлению, Чаадаев подает в отставку, что порождает разные слухи, догадки и пересуды в кругах высшего общества.
По этому поводу Чаадаев пишет шутливое письмо к своей тетке, всячески успокаивает ее: «На этот раз, дорогая тетушка, пишу вам, чтобы сообщить положительным образом, что я подал в отставку… Сначала не хотели верить, что я серьезно домогаюсь этого, затем пришлось поверить, но до сих пор не могут понять, как я мог решиться на это… И сейчас еще есть люди, которые думают, что… подал в отставку лишь для того, чтобы набить себе цену… Дело в том, что я действительно должен был получить флигель-адъютанта по возвращении Императора, по крайней мере по словам ВасильчикоЕа. Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают».
Но это письмо прочитала не только княгиня Щербатова. Копия с письма была представлена правительству. Она сохранилась в правительственных архивах.
Через год, в 1821 году, Чаадаев уже принят в Тайное общество, но в 1823 году он покидает Россию, едет в Англию, Францию, Германию, Италию, Швейцарию и теряет связь с организацией революционного дворянства. Своему другу Якушкину (который его принимал в члены Тайного общества) он доверительно сообщал, что никогда не намерен возвращаться в Россию.
Вероятно, поэтому Якушкин и назвал Чаадаева членом Тайного общества в своих показаниях Следственной комиссии. Вот что писал он об этом роковом признании: «Тюрьма, железа и другого рода истязания произвели свое действие. Они развратили меня. Отсюда начался целый ряд сделок с самим собой, целый ряд придуманных мною же софизмов… Это был первый шаг в тюремном разврате… Я назвал те лица, которые сам Комитет назвал мне, и еще два лица: генерала Пассека, принятого мною в Общество, и П. Чаадаева. Первый умер в 1825 году, второй был в это время за границей. Для обоих суд был не страшен».
Пройдут годы, целое десятилетие. И Чаадаев напишет в Сибирь своему другу Якушкину. Напишет не для того, чтобы упрекнуть его: «Ах, друг мой, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как он мог позволить тебе до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения?.. Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего глубины. Мы прожили века так или почти так, как другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей: вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и бокалом вина».
Горькие слова! И неверные!
Мысли Чаадаева о восстании 14 декабря 1825 года разделяли и некоторые другие представители передовых кругов того времени, в том числе и те члены Тайного «общества, которые в период, предшествовавший восстанию, находились за границей. Николай Иванович Тургенев, узнав о восстании, будучи в Париже, писал: „Было восстание, бунт. Но в какой связи наши фразы – может быть, две или три в течение нескольких лет произнесенные – с этим бунтом?..“ И далее: „Ребятишки! Этот упрек жесток, ибо они теперь несчастны. Я нимало не сержусь на них (участие Тургенева в заговоре было выдано восставшими на первых же допросах. – Авт.), но удивляюсь и не постигаю, как они могли серьезно говорить о своем союзе. Я всегда думал, что они никогда об этом серьезно не думали, а теперь серьезно признаются!“
Александр Сергеевич Грибоедов с иронией заявил:
– Сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России.
Чаадаев возвращается в Россию, когда восстание подавлено, когда пятеро его руководителей повешены, а другие их единомышленники сосланы на каторгу. И среди них Матвей Муравьев-Апостол, который когда-то провожая Чаадаева за границу и, прижимая к груди, шептал: «С богом!», единственный, кто повел свои войска на штурм самодержавия, после того как восстание уже было, в сущности, сломлено, разбито.
В конечном итоге Чаадаев выбрал для себя не более легкий, если не еще более мученический, путь. Его протест вполне равен подвигу пятичасового стояния декабристов на Сенатской площади.
В июне 1826 года Чаадаев возвращается в Россию. На некоторое время он был задержан по обвинению в связях с декабристами, а затем освобожден. В начале сентября 1826 года Чаадаев приезжает в Москву. По стечению обстоятельств в то же время в Москву из ссылки в Михайловское возвращается Пушкин.
В октябре того же года Чаадаев поселяется в Подмосковье, у своей тетки, где живет уединенно, ни с кем не общаясь, без друзей, много читает. За ним установлен постоянный тайный полицейский надзор. Здесь, окруженный одиночеством, он осмысливает свою жизнь за границей, осмысливает недавние события, думает о будущем.
В то время Чаадаев стал объектом одной тягостной и несчастней любви.
В его жизни было несколько женщин, которые дружили с ним, любили его. Одной из них была тихая и нежная девушка Авдотья Сергеевна Норова, соседка Чаадаева, Она его любила безумно, болезненно. Для нее Чаадаев превратился в кумира, божесшо, судьбу. Авдотья Норова умерла рано, и ее смерть вызвала глубокое потрясение у Чаадаева, Годы спустя, уже перед своей смертью, он попросил похоронить его в Донском монастыре, рядом с могилой Авдотьи Сергеевны Норовой, иди, добавил он, в Шжровском монастыре, рядом с могилой Екатерины Гавриловны Левашевой.
Многие, в том числе и Герцен, считали, что неизвестная дамаг которой были адресованы «Философические письма», – это Екатерина Гавриловна Ненашева. Позднее было установлено, что письма, посвящены К. Д. Пановой.
В жизни Чаадаева Е. Г. Левашева занимала особое место. Она – соратница, утешительница Чаадаева, напоминавшая своим характером декабристов. Кажется, только в России, могут родиться женщины, со своей неповторимой нравственностью, с нежными сердцами, с прекрасными, светлыми умами. О ней Герцен, писал: «Женщина эта принадлежала к тем удивительным явлениям русской жизни, которые мирят с нею, которых все существование – подвиг, никому неведомый, кроме небольшого круга друзей. Сколько слез утерла она, сколько внесла утешений не в одну разбитую душу, сколько юных существований поддержала она и сколько сама страдала. „Она изошла любовью“, – сказал мне Чаадаев, один из ближайших друзей ее, посвятивший ей свое знаменитое письмо о России».
Вот одно из ее писем к Чаадаеву. В нем хотя и не говорится о любви, но все оно преисполнено нежности, утонченности духа, в ума. В письме содержится исключительно высокая оценка, которую дает Левашева Чаадаеву. «Искусный врач, сняв катаракту, надевает повязку на глаза больного, – писала Екатерина Левашева Чаадаеву, – если же он не сделает этого, больной ослепнет навеки. В нравственном мире – то же, что в физическом, человеческое сознание также требует постепенности. Если Провидение Вам вручило свет слишком яркий, слишком ослелительный для наших потемок, не лучше ли вводить его понемногу, нежели вслеллять людей, заставлять их падать лицом ма землю. Я вижу Ваше назначение в ином: мне кажется, что Вы призваны протягивать руку тем, кто жаждет подняться, и приучить их к истине, не вызывая от них того бурного потрясения, которое не всякий может вынести. Я твердо убеждена, что именно таково Ваше призвание на земле; иначе зачем Ваша наружность производила бы такое необыкновенное впечатление даже на детей? Зачем были бы даны Вам такая сила внушения, такое красноречие, такая страстная убежденность, такой возвышенный и глубокий ум? Зачем так пылала бы в Вас любовь к человечеству? Зачем Ваша жизнь была бы полна стольких треволнений? Зачем столько тайных страданий, столько разочарований?..»
Но вернемся к Е. Д. Пановой, женщине, которой Чаадаев посвятил «Философические письма» и с которой, по словам современников, он познакомился «нечаянно». В сохранившемся письме Пановой к Чаадаеву читаем: «Уже давно, милостивый государь, я хотела написать Вам, боязнь быть навязчивой, мысль, что Вы уже не проявляете более никакого интереса к тому, что касается меня, удерживала меня, но, наконец, я решилась послать Вам еще это письмо; оно, вероятно, будет последним, которое Вы получите от меня.
Я вижу, к несчастью, что потеряла то благорасположение, которое Вы мне оказывали некогда; я знаю: Вы думаете, что в том желании поучаться в деле религии, которое я выказывала, была фальшь. Эта мысль для меня невыносима; без сомнения, у меня много недостатков, но никогда, уверяю Вас, притворство ни на миг не находило места в моем сердце; я видела, как всецело Вы поглощены религиозными идеями, и мое восхищение, мое глубокое уважение к Вашему характеру внушили мне потребность заняться теми же мыслями, как и Вы. Поверьте, милостивый государь, моим уверениям, что все эти столь различные волнения, которые я не в силах была умерить, значительно повлияли на мое здоровье; я была в постоянном волнении и всегда недовольна собою, я должна была казаться Вам весьма часто сумасбродной и экзальтированной… Вашему характеру свойственна большая строгость. Не стану говорить Вам, как я страдала, думая о том мнении, которое Вы могли составить обо мне. Прощайте, милостивый государь, если Вы мне напишете несколько слов в ответ, я буду очень счастлива, но решительно не смею ласкать себя этой надеждой…»
Трудно утверждать, действительно ли играла Панова какую-то роль в жизни Чаадаева или же просто увлекалась его религиозными идеями и мистицизмом, но, публично посвятив ей одиозные по тем временам для официальных властей «Философические письма», он невольно навлек на нее трагедию. И если за эти письма самодержавие объявило Чаадаева «сумасшедшим», то судьба Пановой еще более трагична – по настоянию супруга она была помещена в сумасшедший дом!
Сохранился официальный документ московского губернского правления, свидетельствовавший об умственных способностях Пановой. На вопрос, довольна ли она своим новым местом жительства, Панова резко ответила: «Я самая счастливая женщина во всем мире и всем… довольна». А когда ее попросили рассказать о самочувствии, она заявила, что нервы ее до того раздражены, что она дрожит «от отчаяния, до исступления, а особенно когда начинают меня бить и вязать».
Физическое насилие для той, которая вдохновила автора «Философических писем»…
В небольшой комнате на Ново-Басманной улице в Москве Чаадаев создавал свою «частную» философию.
«Мы, – писал Чаадаев, – никогда не шли рука об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода… Сначала – дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности».
И далее с горечью: «Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего…»
И уже полемично: «И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом… мы должны были бы соединить в себе оба великих начала… и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара… Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих; ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили… Ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую и бесполезную роскошь…»
И без паузы, с болью, он продолжает дальше: «Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас не заметили бы…»
Своим мыслям, выраженным в «Письмах», Чаадаев придавал общественный смысл, государственное значение. В них чувствовалось нечто вызывающее, нечто предосудительное. В них как будто синтезировались все эти чудачества Чаадаева: отшельничество, капризы, боль, друзья, злословие, общественный долг, карьера. За всем этим крылся глубокий протест Чаадаева против николаевской действительности, несмотря на то что он несет на себе налет религиозных взглядов, налет католицизма. Выход из этой действительности он ищет в парадоксах истории, в столкновении веков, в уроках средневековья. Но католицизм автора не та сила, которая может встряхнуть самодержавие и все переменить.
Тогдашний министр просвещения Уваров сразу же, как только прочел «Философические письма», направил царю следующий доклад: «Усмотрев в № 15 журнала „Телескоп“ статью „Философическое письмо“, которое дышит нелепою ненавистью к отечеству и наполнена ложными и оскорбительными понятиями как насчет прошедшего, так и насчет настоящего и будущего существования государства, я предложил сие обстоятельство на рассуждение Главного управления цензуры. Управление признало, что вся статья равно предосудительна в религиозном, как и в политическом отношении, что издатель журнала нарушил данную подписку об общей с цензурою обязанности пещись о духе и направлении периодических изданий; также, что, не взирая на смысл цензурного устава и непрестанное взыскательное наблюдение правительства, цензор поступил в сем случае если не злоумышленно, то по крайней мере с непростительным небрежением должности и легкомыслием. Вследствие сего главное управление цензуры предоставило мне довести о сем до сведения Вашего Императорского Величества и испросить высочайшего разрешения на прекращение издания журнала „Телескоп“ с 1 января наступающего года[39]39
1837-го. – Прим. ред
[Закрыть] и на немедленное удаление от должности цензора Болдырева…»
Император уже сам прочитал «Философическое письмо» и на докладе Уварова наложил такую резолюцию: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу».