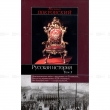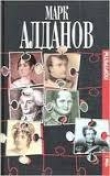Текст книги "Декабристы"
Автор книги: Бригита Йосифова
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Дело генерал-майора князя Сергея Волконского содержит ряд интересных материалов и документов. Здесь вопросы Следственного комитета, собственноручно написанные ответы князя, данные о его происхождении и служебном положении. В послужном списке подробно отражен боевой путь генерала Волконского во время военных кампаний в 1806—1816 годах.
Давайте раскроем дело и познакомимся со страницами допроса Сергея Волконского.
«Высочайше утвержденный Комитет требует от генерал-майора князя Волконского откровенного показания.
– Как Ваше имя и отчество и сколько от роду лет?
– Зовут меня Сергеем сыном Григорьевым; от роду имею 37 лет и четыре месяца с половиною.
– Присягали ли на верное подданство ныне царствующему государю императору?
– Учинил и сам лично присягу ныне царствующему государю императору в городе Умани, приводя к присяге штаб 19-й пехотной дивизии и полки прежде командуемой мною бригады, Азовского весь полк, а Днепровского шесть рот в их штабах.
– Какой веры и каждогодно ли бываете на исповеди и у святого причастия?
– Православного греческого исповедания, у святого причастия почти ежегодно бывал, а ежели не исполнял когда сей христианской обязанности, то объяснил об сем на духу. В сем году на шестой неделе поста был допущен к исповеди и принятию святых тайн.
– Где воспитывались? Если в публичном заведении, то в каком именно, когда и куда из оного были выпущены? И ежели у родителей, то кто именно были Ваши учителя и наставники?
– До 14-летнего возраста получил образование в родительском доме; наставниками моими были первоначально иностранец Фриз, а по смерти его отставной t российской службы подполковник барон Каленберг, которого также уже нет в живых; с 14-летнего был отдан в вольный пансион в Петербурге, в заведение г-на аббата Николя состоящего, где я пробыл до 18 лет. Кто же в сем пансионе были учителями, я поименно их не назначаю, как известных по годовым отчетам Министерству просвещения. В 1798 году был по несколько месяцев в пансионе у г-на Жакино, который, сколько могу припомнить, преподавал уроки французского языка в 1-м Кадетском корпусе.
– С которого времени, откуда заимствовали первые вольнодумческие и либеральные мысли, т. е. от внушений других или от чтения книг, и каким образом мнения сего рода в уме Вашем укоренялись?
– Полагаю, что до 1813 года не изменял тем правилам, которые получил в родительских наставлениях и в домашнем и публичном воспитании, и по собственному о себе понятию считаю, что с 1813 года первоначально заимствовался вольнодумческими и либеральными мыслями, находясь с войсками по разным местам Германии, и по сношением моим с разными частными лицами тех мест, где находился. Более же всего получил наклонность к таковому образцу мыслей во время моего пребывания в конце 1814-го и в начале 1815 года в Париже и Лондоне, как господствующее тогда мнение… Приняв вышеизъясненный образ мыслей в таких летах, где человек начинал руководствоваться своим умом, и продолжив мое к оным причастие с различными изменениями тринадцать лет, я никому не могу приписывать вину, как собственно себе, и ничьими внушениями не руководствовался, а может быть, должен нести ответственность о распространении оных.
– Что именно побудило Вас вступить в Тайное общество и кто были известные Вам члены оного, как начально вошедшие, так и впоследствии присоединившиеся?
– Вступил я первоначально в Тайное общество под названием Союз благоденствия, сколько могу припомнить, в 1819 или 1820 году. Предложение о вступлении и приобщение к обществу сделано было ген-майором Михаилом Фон-Визиным в Тульчине; в первом присутствии, сколько могу припомнить, видел я в числе членов Фон-Визина, Бурцева, Пестеля, Юшневского, Абрамова, Ивашева, Комарова. Лично был я знаком только с Фон-Визиным и по его разговорам, со мною бывшим, судил, что главная цель общества – принятие мер к прекращению рабства крестьян в России, произведенное без всякого потрясения и с соблюдением обоюдных выгод помещиков и крестьян; к чему я готов был участвовать. По вступлении узнал я, что целью общества было приготовлять сочленов, в служении по гражданской службы искоренять вкравшийся злоупотребления, в военной же – введением не жестокого обращения с нижними чинами и охранения собственности их от расхищения; также учреждением искренней дружбы между сочленами.
Вот могу сказать с чистосердечием, что побудило меня вступить в Союз благоденствия…
– С которого времени Южное общество вознамерилось ввести в России республиканское правление посредством революции и тогда ли или уже впоследствии предназначено посягнуть против всех священных особ августейшей императорской фамилии?
– Предложение о вводе республиканского правления и покушения на жизнь высочайших особ было в одно время, и сделанная оговорка «буде необходимо будет» не может быть принята в соображение…
– В чем заключались главные черты конституции под именем «Русской правды», написанной Пестелем, и правил Южного общества, а также двух приготовленных оным прокламаций к народу и войскам, и ложнаго преступнаго Катехизиса, который был принят обществом?
– Сочинение под именем «Русской правды» мне не было никогда сообщаемо, ни письменно для сохранения или передачи, ни чтением и изустном объяснением; равно также я не имею никакого сведения о изготовленных будто бы прокламациях к народу и войску. Что же касается до ложно-преступнаго Катехизиса, не читал и не видал и в совещаниях, мне известных или в которых я находился, о принятии онаго не было и речи. Объясняю чистосердечно и по сознании моем в соучастии в преступлении – зачем бы мне скрывать истину по сему обстоятельству?
– Есть показания, что Польское общество имеет одно свое отделение в Умани, где вы всегда находитесь. Поясните: кто именно составляет сие отделение и в чем состоят известныя Вам действия его?
– Не могу о сем дать никакого сведения, и обстоятельство сие совершенно неизвестно мне. Клеветы же чистой без всякаго правдоподобия от меня, я уверен, и не требует Комитет.
– Комитету известно также, что намерение посягнуть против жизни государя и всех священных особ августейшей императорской фамилии предположено было первым началом возмутительных действий общества и что на сие преступное покушение было общее согласие всех членов.
– Я повторяю здесь, что преступное намерение при начатии революции признать необходимым покуситься на жизнь государя императора и всех особ августейшей фамилии предложено было Сергеем Муравьевым в Каменке, и, сколько могу припомнить, были при сем я, Пестель, Бестужев и Давыдов, и оное было принято бесспорно».
… И так страница за страницей. Распутывание нитей заговора идет медленно, обстоятельно. Следуют вопрос за вопросом, на них даются ответы. Сначала идут сведения о Haградах, заслугах, военном стаже и прочее. Но одинаково страшны и одинаково подсудны, подлежащие «смертной казни отсечением головы», являются преступления – подготовка к цареубийству и само знание о «Русской правде».
В своих показаниях Волконский пишет то, что уже известно следствию. Целый том показаний написал молодой генерал! И в них нет ничего нового, ничего не известного Комиссии.
Когда просматриваются показания декабристов, самыми скупыми, скудными и лаконичными вам покажутся показания князя Волконского. Он утверждает, что никогда ничего не знал о «Русской правде», никогда ее не читал, никто ему не рассказывал о ней и не излагал ее содержания. А что хотел убить царя без какого то ни было чувства страха или раскаяния, он этого не отрицает.
Есть ли более тяжелое и страшное признание? Или это наивнейшая попытка самозащиты? Нет, на это нет даже намека. Из его поведения просматривается только одно стремление, одна забота – скрыть, уберечь и сохранить «Русскую правду», защитить и не подвергнуть обвинению Пестеля.
Волконский не падает духом в эти невероятно тяжелые дни и месяцы допросов. В показаниях его нет раскаяния. Спокойный тон в стиле лаконичных военных рапортов того времени.
27 января 1826 года Николай I знакомится с письменными показаниями Сергея Волконского и взрывается яростью. Для него ясно, что эти показания ничего не раскрывают, что Волконский не желает помочь следствию. «Требовать, чтоб непременно все ныне же показал: иначе будет закован», – приказал император.
Близкие Марии хорошо понимают, что в первую очередь нужно устранить «внешнее на нее воздействие». Они все делают для того, чтобы Мария ни с кем не встречалась, кроме родных. Слугам приказано возвращать домой посетителей, отказывать им во встречах с молодой княгиней. Под предлогом «заботы о ее здоровье» к Марии не допускают даже ближайших подруг и жен других арестованных.
А когда Мария, несмотря ни на что, все же стала собираться в Петербург, ее мать Софья Алексеевна поспешила сообщить своему зятю, что его долг отправить жену в имение, подальше от ужасов следствия, предстоящего суда и наказания.
В Петропавловской крепости по высочайшему разрешению императора Волконскому передают письмо от княгини Софьи Алексеевны. В темной и тесной камере Волконский читает письмо при тусклом свете свечи.
«Дорогой Сергей, Ваша жена приедет сюда с единственной целью, чтобы увидеть Вас, и это утешение ей подарено. До сих пор она не знает всего ужаса Вашего положения. Помните, что она очень больна и мы опасаемся за ее жизнь. Она так ослабла от страданий и беспокойства, что, если Вы не будете сдержанны и расскажете ей о Вашем положении, она может сойти с ума. Будьте мужественным и христианином, настаивайте на ее скорейшем отъезде к Вашему ребенку, который нуждается в присутствии своей матери. Расстаньтесь по возможности как можно спокойнее».
Ясно, что эти слова адресованы человеку, которого уже выключают из жизни. Все понимают, что за преступления, в которых обвиняют князя, его ожидает тяжелейшее наказание – либо виселица, либо отсечение головы. Где-то в глубине сердца они, конечно, надеются, что император проявит «милосердие» и дарует жизнь Волконскому. На это надеются и в семье самого Волконского. Ведь его мать – влиятельная придворная дама, состоит в свите самой императрицы…
Наступивший апрель превратил недавние заснеженные дороги в черную, раскисшую, непроходимую грязь. Подули теплые ветры, над русскими полями нависли дождевые облака. Все чаще проглядывает пока еще скупое солнце. Но люди радуются и этому. Окончилась наконец долгая и тяжелая зима.
Ничто больше не может удержать Марию: ни письма ее близких, ни наставления матери, ни слезы сестер. Она стоит перед ними в черном костюме, с небольшим кожаным чемоданом, в котором сложены письма и документы, – она отправляется в Петербург, чтобы просить о свидании с супругом.
День и ночь летит ее карета по грязным, бесконечным дорогам. Дождь хлещет в окна. Закутавшись в теплое одеяло, сжимая в руках дорожные часы, часто и нервно Мария нажимает кнопку. Раздается мелодичный звон, отсчитывающий время… 4 часа, затем – 6 часов, потом..: Мария считает с закрытыми глазами. Часы напоминают ей о других звуках, о другом мире… Этот звон будил ее каждое утро дома, когда на террасе уже дымился серебряный самовар, а преданные слуги подавали ягоды, собранные в лесу или саду, кухарка предлагала ей горячие блинчики. Жизнь была светлой и беззаботной. Мир ее был устроен так, что она видела его лишь светлую и безоблачную сторону. Крестьяне трудились, чтобы вкусным был ее хлеб, безмолвно убирали ее дсм, заботились об экипажах, каретах, лошадях. И зачем такой устроенный мир так неожиданно рухнул? Зачем арестовали ее супруга, его товарищей? Почему Пестель, этот молчаливый и стеснительный, но гордый полковник, о котором все говорили, что он гений, теперь в Петропавловской крепости? Почему?
Из писем близких она узнает, что они подняли руку на царя. Что за безумие, что за поведение? Разве не царь-император является их верховным главнокомандующим, главой государства? Кто может поднять руку, замахнуться на трон, кроме безумцев?
… До Петербурга еще далеко, много дней и ночей пути. Останавливаются на почтовых станциях, меняют лошадей, наскоро перекусывают, греют руки о большие чашки чая. Но Мария ничего не замечает, ничего не слышит. В ее голове лишь одна-единственная и неотступная мысль: почему? Почему бунтовали? Бунтуют простолюдины, безнравственные пьяницы, ничтожные люди, которые опустились на дно, потонули в невежестве. Бунтуют голодные, проклятые и обиженные… Их можно понять. Но они, заслуженные офицеры, князья, приближенные ко двору императора? Почему бунтуют? Чего хотят?
Некому ответить на ее вопросы… Только дождь монотонно барабанит в окна кареты, только мелодичный звон часов возвращает ее к воспоминаниям о недавних счастливых днях.
В Петербурге Мария не теряла ни минуты. Она пишет письма императору и умоляет разрешить ей свидание с арестованным супругом. Император ожидал этой просьбы. Он знает, что Мария перенесла тяжелую болезнь и сейчас в тяжелом состоянии. Он приказывает графу Орлову и лекарю сопровождать ее в Петропавловскую крепость.
Собравшись с силами, Мария направляется в Петропавловскую крепость. Рядом с ней любезный и внимательный граф Алексей Орлов, будущий шеф жандармов. Как только открыли тяжелые ворота и стража пропустила их карету, она с какой-то необъяснимой отчетливостью запомнила все: лица часовых, их голоса, скрип дверей помещения, в которое они вошли. Это был кабинет коменданта крепости. Сюда скоро приведут ее мужа. В коридорах слышатся шум, суета. Вскоре дверь открывается, и она впервые за много месяцев видит своего Сергея. Лицо его осунулось, глаза горят каким-то новым, незнакомым ей блеском. Сергей шепчет ласковые слова, называет ее «ангел мой». Из писем и встреч с близкими он уже знает, что должен быть ласковым и предупредительным с Марией. Она ничего не знает о степени его виновности, ни о подробностях заговора и бунта. Мария так ничего и не узнала от него, кроме твердого решения – она должна вернуться в имение к Николеньке и там ждать приговора.
Оба долго и нежно держат руки друг друга. Мария достала носовой платок, хотела вытереть лицо, но раздумала и отдала его Сергею. Он улыбнулся и подал Марии свой носовой платок. Тихо, нежно и ласково, как маленькой девочке, он говорит ей, что она должна немедленно уехать из Петербурга, поцеловать и обнять от его имени Николеньку.
Мария робко пытается настоять на своем решении:
– Мое место быть при тебе, Сергей. Ты нуждаешься во мне. Ты в беде.
Сергей сказал ей, что она прежде всего мать. Николенька нуждается в ее ласке и заботе.
Комендант подал знак. Встреча окончена. Последнее объятие, последний прощальный взгляд.
Карета увозит Марию из крепости. На воздухе легче дышать. Но сердце ее сжимается от непосильной муки. Дома Мария развертывает платок, отданный мужем. Она волнуется, втайне надеется, что на нем что-то написано скрытное, очень важное. Может быть, Сергей в первый раз ей объяснит, втайне от всех, за что арестован, чего хотели его товарищи. Может быть, он ищет помощи в побеге, нуждается в деньгах, одежде? Мария готова на все! Она уже не имеет другой судьбы, другого повелителя, кроме Сергея.
Но на платке ничего нет. Только несколько малоразборчивых слов, исполненных любви и утешения. И больше ничего.
13 апреля она пишет прощальное письмо мужу. Как верная супруга, Мария точно исполняет его желание. «Утром я уезжаю, как ты того пожелал, – пишет она. – Я отправляюсь к нашему дорогому сыну и привезу его как можно скорее. Твоя покорность, спокойствие твоего ума дают мне силы».
Александр Раевский, брат Марии, весь ушел в заботы и тревоги сестры. Он принял на себя тяжесть всех переговоров, ходил во дворец, встречался с императором, разговаривал с членами Следственной комиссии. И не от какого-то чувства к Сергею, а из-за глубочайшего сочувствия к судьбе сестры он требовал от своего зятя почти невозможного: молчания и сокрытия от Марии тяжкого обвинения.
«Позвольте мне, князь, – писал Александр Раевский Сергею Волконскому в Петропавловскую крепость, – засвидетельствовать Вам мою искреннюю благодарность за такт и выдержку, проявленные Вами во время тяжелого свидания с Вашей несчастной женой: от этого зависела ее жизнь. Вы должны быть уверены» что Ваша жена и Ваше дитя никогда не будут иметь друга более верного и усердного, чем я… А теперь я обращаюсь к Вам как к человеку, которого несчастье не заставило забыть священные обязанности отца и супруга. Мой отец возложил на меня заботы о Вашей несчастной жене, и я прошу Вас, на мою ответственность, скрыть перед ней тяжесть обвинения, которое висит над Вами. Подорванное ее здоровье, безусловно, требует того. Этим поступком Вы, наверное, сохраните жизнь матери Вашего единственного сына. Вы, своим собственным поведением, столь мужественным и молчаливым, признаете необходимость этого. Теперь необходимо Вам письменно оправдать меня в глазах Вашей жены. Используйте для этого первый удобный случай, который Вам позволит написать ей. Эта мера необходима, чтобы не смогла позже моя сестра упрекать меня, что от нее была скрыта истина. Я Вас умоляю не отказать в этой настойчивой просьбе, не заблуждайтесь, я Вам клянусь относительно мотивов, которые мною руководят в эти жестокие минуты – подумайте, что благодаря дружбе, которую питает ко мне Ваша жена, я для нее большая поддержка».
Слова Александра Раевского искренни, позже подтвержденные в повседневной жизни: после смерти отца он стал уполномоченным исполнителем и распорядителем имущества сестры, опекуном ее ребенка. Но его привязанность к сестре граничила с жестокостью, суровым вмешательством в ее личную жизнь. Он решал, какие письма вручать Марии, какие возвратить отправителям. Александр просматривал все письма, скрывал от сестры каждую новость, каждую весточку об арестованных. До нее с трудом доходят слухи и подробности следствия.
«Боже мой, – пишет она 16 августа 1826 года Сергею, – когда же кончится время испытаний для меня! Если бы знать, какова будет твоя судьба!.. Но какой бы то ни была твоя судьба, раз и навсегда решенной, – я была бы спокойнее. Потому что никакая мука не может сравниться с неизвестностью. Минуты, которые сейчас переживаю, в этом ужасном душевном состоянии, самые тяжелые в моей жизни».
30 мая 1826 года члены Следственной комиссии закрывают папки с показаниями декабристов, тяжело и с облегчением вздыхают. Слава богу, их работа наконец Закончена! Председатель высочайше учрежденного так называемого «Комитета по разысканию соучастников злоумышленного общества» доволен. Это военный министр Татищев. В ходе допросов он опирался на авторитет великого князя Михаила (брата императора), князя Голицына и на Голенищева-Кутузова, военного генерал-губернатора Петербурга. Членами этой Комиссии были и Бенкендорф, генерал-адъютант Чернышев, надменный, ограниченных способностей человек, который в ходе следствия терроризировал арестованных, Левашев, Потапов.
1 июня был учрежден Верховный уголовный суд, которому был предан 121 человек: 61 – Северного общества, 37 – Южного общества и 23 – Общества соединенных славян.
Через сорок дней Верховный суд представил царю свой доклад. Люди читали его с ужасом, и особенно заключение, сформулированное в одной фразе: «Все подсудимые, без изъятия, по точной силе наших законов подлежат смертной казни».
Далее, за пышными фразами канцелярско-бюрократического языка, следует: «По сим уважениям суд большинством голосов определил… следующие положения о казнях и наказаниях: …смертную казнь четвертованием… смертную казнь отсечением головы… политическую смерть, т. е. положа голову на плаху и потом сослать вечно в каторжную работу… Заключение на определенный срок».
Пусть все переживут неотвратимость возмездия. И тогда последует царский указ с «безграничной милостью». Преступники из первого разряда, осужденные на «смертную казнь отсечением головы», помилованы императором. Они получают наказание «вечная каторга».
Среди них и Сергей Волконский, которому были предъявлены следующие обвинения: «Участвовал согласием в умьгсле на цареубийство и истребление всей императорской фамилии; имел умысел на заточение императорской фамилии; участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении оного с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудиториата».
Император бескрайне «милостив» и к другим, осужденным к «смертной казни четвертованием». Он смягчает им наказание: они будут повешены. Это полковник Павел Иванович Пестель, Кондратий Федорович Рылеев, подполковник Сергей Иванович Муравьев-Апостол, подпоручик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, Петр Григорьевич Каховский.
В ночь на 24 июля 1826 года в специальных тюремных экипажах в Сибирь отправлены осужденные на вечную каторгу – князь Трубецкой, князь Оболенский, Давыдов, Артамон Муравьев, братья Борисовы, Якубович и князь Волконский. Путь далекий и трудный. Целых три месяца добираются они до своих «каторжных нор». Их везли в строжайшей тайне и при усиленной охране.
25 октября 1826 года сопровождавший узников офицер явился к начальнику Нерчинских заводов и рудников Бурнашову и передал ему царский приказ об осужденных: всех привлечь к работе и относиться к ним по установленному для каторжников положению, строжайше следить за их поведением, не допускать общения между собой.
Строго было определено количество руды, которое должен добыть каждый декабрист, – три пуда в день.
В сопроводительных документах подробно описывается внешность каждого декабриста. О Сергее Волконском написано: «Рост его два аршина и 8 с половиной вершков, лицо чистое, глаза светлые, лицо и нос продолговатые, волосы – темно-русые, борода светло-русая, имеет усы. На правой ноге шрам от пули».
Начальник охраны Черниговцев письменно докладывал о группе декабристов: «Все перечисленные восемь душ размещены в Благодатском руднике. Ни один из них не знает никакого ремесла. Владеют грамотой и всякими науками, входящими в курс благородного воспитания. Некоторые из них знают иностранные языки, собственноручно написали на тех языках образцы».
Подробно описывая личный багаж декабристов, начальник охраны добавляет: «У каждого из них есть икона, Евангелие, крест, кресты для ношения на груди, белье, одежды в определенном количестве, шубы, а у некоторых – чугунные кресты, календари и прочее».
После отправки на каторгу Сергея Волконского 20-летняя Мария Волконская твердо решила последовать за супругом и разделить с ним невзгоды и лишения. 26 ноября 1826 года она коротко и восторженно пишет Сергею:
«Дорогой и любимый Сергей, все решила сегодня утром. Я еду, как только установится санная дорога».
Под этими словами ее отец, старый генерал, добавил дрожащей рукой:
«Ты видишь, мой друг Волконский, что твои друзья сохранили к тебе старые чувства. Я отступил перед желанием твоей жены. Уверен, что не задержишь ее дольше, чем нужно. Сына будущей весной возьмет с собой. С богом, мой друже, будь великодушен. Твой друг Н. Раевский».
Это письмо еще больше укрепляет убеждение Марии, что уже ничто не может ее задержать – ни привязанность к родителям, ни спокойная, исполненная столькими удовольствиями жизнь, ни запрещение ее брата. Она отрекается от всего во имя одного: облегчить участь осужденного супруга! Мария Волконская отправляется в Петербург. Она останавливается в семье своего мужа, где сталкивается с неприязнью и высокомерием старой княгини Волконской и ее дочери Софьи, которые ранее упорно распространяли слухи, что в Сибирь, чтобы разделить участь сына, отправится мать Сергея. В конечном счете она никуда не поехала и ее заботы о сыне выражались разве только в пустых письмах о жизни в Петербурге, о пышных балах и приемах.
Восемь лет спустя после заточения Сергея Волконского на вечную каторгу старая княгиня решила просить императора помиловать сына и вернуть его в Петербург. Всемогущий монарх удовлетворил ее просьбу, узнав о ее смерти: срок каторги для Волконского был сокращен… на один год!
Находясь в Петербурге, Мария пишет письмо Николаю I в надежде, что он разрешит ей поехать в Сибирь. Ведь только он и никто другой может решить этот вопрос.
Потянулись тягостные дни неизвестности и ожидания. Нужно купить новую карету и сани, приготовить небольшой необходимый багаж. Нужны шерстяные чулки, белье, шубы для Сергея, нужны лекарства, нужны деньги.
Наконец долгожданный ответ от императора пришел. В нем говорилось:
«Я получил, княгиня, Ваше письмо от 15 числа сего месяца; я прочел в нем с удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в Вас принимаю; но во имя этого участия к Вам я и считаю себя обязанным еще раз повторить здесь предостережения, мною уже Вам высказанные относительно того, что Вас ожидает, лишь только Вы проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю вполне Вашему усмотрению избрать тот образ действия, который покажется Вам наиболее соответствующим Вашему настоящему положению.
Благорасположенный к Вам 1826, 21 декабря Николай»
Теперь нельзя терять ни одной минуты. Нужно спешить. Мария может уже ехать, невзирая на то, что император запретил женам осужденных брать с собой в Сибирь детей. Тем самым он надеялся сломить волю и самых сильных духом, считая, что материнский долг сильнее супружеского.
Для Марии это неожиданный, жестокий удар. Но для себя она уже решила все – осталось только попрощаться, осталось тяжелое расставание с семьей. Прежде чем показать письмо отцу, она уведомила его о своем отъезде и о том, что уполномочивает его быть опекуном ее маленького сына. Если до этого старый генерал все еще надеялся на отказ императора, то теперь, при наличии этого письма, которое Мария дрожащими руками подала ему, понял, что расставание неминуемо. Отец поднял руки в отчаянии и громко сказал: «Прокляну, если не вернешься через год!» Он был не в состоянии вынести разлуку с дочерью, не мог свыкнуться с мыслью о ее добровольном изгнании. Он, прославленный генерал войны 1812 года, который в самый опасный и тяжелый момент боя при д. Дашковке, в священном порыве любви к родине встал с двумя малолетними сыновьями Александром и Николаем перед своими солдатами и повел их в атаку, остановив таким образом отступление. А сейчас откуда взять силы, где найти утешение?
В ту же ночь, 21 декабря 1826 года, Мария отправилась в путь.
… В последний раз она наклоняется и целует руку отца. Он благословляет ее и резко отворачивает голову, чтобы скрыть выступившие слезы.
«Все кончено, – вспоминала в своих „Записках“ Мария, – больше я его не увижу, я умерла для семьи».
Лошади мчались по Петербургу. У Марии осталась еще одна обязанность – попрощаться со свекровью. Та вручает ей пачку ассигнаций – столько, сколько необходимо заплатить за лошадей до Иркутска. Мария никого не просила о помощи, о деньгах. Накануне она пошла в ломбард, где оставила свои бриллианты. На полученные деньги она оплатила долги мужа, остальные зашила в одежду. Она знала, что жандармы могут ее обыскать и конфисковать багаж.
Итак, карета мчит ее по снежным дорогам, по безлюдным просторам между Петербургом и Москвой. В руках Мария держит драгоценный для нее ларец. В нем она хранит письма, которые уже получила из Сибири. Первые письма Сергея из страшного мира каторги, из глубоких рудников. Она даже не может себе представить весь ужас его положения. И что может понимать она, которая знает лишь теплый, уютный мир дворцов и имений!
В который раз Мария достает и читает написанные крупным, неровным почерком мужа письма. Она вникает в каждое слово, стремится понять скрытый их смысл. Ей все кажется, что Сергей хотел сказать что-то другое. Она пытается понять это другое, тайное, только их, личное…
После тяжелого и утомительного путешествия по заснеженным дорогам карета Марии Волконской въезжает на окраину Москвы. Она склонила голову на мягкие подушки, спрятала руки в теплую меховую муфту. От усталости и бессонницы под глазами большие черные круги. Стиснув губы, Мария с нетерпением ожидает приезда в дом Зинаиды Волконской, супруги Никиты Волконского, брата Сергея Волконского.
Зинаида живет богато, расточительно. Ее дом был самым блистательным литературным и музыкальным салоном того времени. Сюда приходили на дружеские встречи поэты, музыканты, певцы, иностранные гости.
Но Зинаида Волконская не только светская дама. Она пишет стихи, обладает великолепным голосом и проницательным умом. Она – одна из лучших знатоков и ценителей искусства, представительница романтизма. Ей принадлежала идея создания в Москве музея европейской скульптуры, которая была реализована только в 1912 году.
Друзьями Зинаиды Волконской были Пушкин, Веневитинов, Мицкевич, Гоголь.
Зинаида встречает Марию с распростертыми объятиями. Слуги вносят багаж Марии, помогают снять шубу. Мария просит разрешения переодеться и отдохнуть. Зинаида нежно обнимает ее и ведет в отведенную ей комнату.
Вечером в честь Марии устраивается концерт. Приглашены заграничные певцы и ее близкие друзья. В Москве тогда находился Пушкин. Он с радостью отозвался на приглашение Зинаиды Волконской и был бесконечно счастлив, что сможет пожать руку Марии, снова увидеть ее лицо, пожелать счастья в предстоящем ей долгом и печальном пути в Сибирь.
Для поэта это особенная встреча… Пять лет назад он был страстно влюблен в Марию. Но она по-детски и шутливо отвергла его любовь. Он увидит в этот вечер другую, замужнюю Марию. По стечению обстоятельств эта молодая женщина решилась на подвиг! В тот вечер многие мысли волнуют Пушкина. Она отправляется туда, к его товарищам и братьям по духу, едет как добровольная изгнанница, чтобы разделить их судьбу, одиночество, труд, неволю.
К дому Волконской поэт идет пешком. Холодно. Ветер обжигает его разгоряченное лицо. Перед глазами неотступно возникает все та же страшная картина: пять виселиц и безжизненные тела Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина… С каждым из них он дружил. Долгие годы связывала его с ними нежная дружба, содержательные беседы, споры, мечты. Недавно в Михайловское Рылеев прислал свои стихи. Недавно он вел интересные разговоры с Пестелем. Недавно…
Снег скрипит под ногами Пушкина. Шуба давит на плечи, и он чувствует, как от волнения на лбу выступила испарина. В этот вечер он идет на встречу с молодостью. С верой, с мечтами из недавнего!
Прекрасен салон княгини Зинаиды. Горят сотни свечей, предупредительные слуги разносят освежающие напитки. Итальянские певцы с изумительными голосами исполняют арии и дуэты из итальянских опер. Пушкин напряженно всматривается в лица гостей, обходит комнаты.