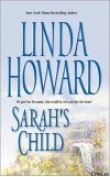Текст книги "В замке и около замка"
Автор книги: Божена Немцова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Annotation
«В замке и около замка» – это повесть о двух мирах: мире бедности и мире богатства. Мастерски обрисовав тяжелую жизнь батраков, Немцова создала яркий образ мальчика сиротки Войтеха, который с малых лет вынужден бороться за кусок хлеба.
Божена Немцова
1
2
3
4
5
6
7
8
Послесловие
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Божена Немцова
В замке и около замка
1
В замке работали, бегали, суетились. Ключница проветривала комнаты, садовник украшал их цветами, в замке и во дворе скребли и чистили, чтобы господа нашли все в полном порядке. Барыню ждали на другой день.
– Веселее будет жить,– радовались обитатели замка.
– Бог даст, и заработков побольше будет,– говорили бедняки и ремесленники, живущие около замка.
На следующее утро прибыла прислуга, вслед за ней повозки с тюками и ящиками. После обеда на холм, где стоял красивый замок, въехала удобная карета, в которой сидела госпожа Скочдополе, она же фон Шпрингенфельд.[1] Напротив нее, спиной к коням, помещалась камеристка, мамзель Сара, на козлах возле кучера – горничная Кларка, а рядом с барыней лежал ее любимец. Это был не муж, не брат и не друг – это был Жоли, крохотная собачка английской породы, обаятельное существо с длинными ушами и тонкой, шелковистой черно-бело-бурой шерстью.
Барыня обожала Жоли.
Пока господин Скочдополе был всего лишь господином Скочдополе и о нем знали только то, что он богат, в доме все было иначе; у его жены не было ни любимчика, ни камеристки; не было и столько прислуги; ни замка, ни лошадей, ни борзых собак; господин Скочдополе не ездил на охоту, не приглашал к себе гостей, и никто не приезжал к нему из города подышать свежим воздухом.
Когда же у господина Скочдополе скопилось столько денег, что он не знал, куда их девать и даже сколько их у него, супруге не понравилась простая фамилия Скочдополе. Она надоедала мужу до тех пор, пока он не купил приставку «фон», и они стали именоваться по-аристократически: «фон Шпрингенфельд».
Барыня была очень довольна – это звучало совсем иначе, и с того времени никто не осмеливался называть ее по-старому, если не желал лишиться ее милости.
«Большому кораблю – большое плаванье». Раз есть титул, необходимо и поместье.
За деньги можно устроить все. Фон Шпрингенфельды купили себе поместье, лошадей, борзых собак, завели и одели в ливреи прислугу, стали ездить на курорты, устраивать банкеты, давать балы.
Если есть пирожок, отыщется и дружок,– приятелей нашлось более чем достаточно, особенно таких, которые живут на чужой счет. Господин фон Шпрингенфельд слыл джентльменом, его жена – красавицей, а ее хороший вкус, остроумие и бог знает что еще превозносились до небес. Госпожа фон Шпрингенфельд была недурна собой, но она считала себя красивее, чем была на самом деле, и этому способствовала главным образом ее камеристка[2] мамзель Сара.
Чтобы удержать мамзель Сару, барыне приходилось платить ей большое жалованье и делать много подарков. Только таким путем удалось переманить Сару от одной графини, считавшейся самой элегантной дамой в столице. Сара служила у графини второй горничной, и платили ей не слишком много, но зато говорили: «Она служит у графини»,– и поэтому горничная не решалась поступить на службу к новоиспеченной дворянке.
Однако деньги смягчили ее гордое сердце. Мамзель Сара стала доверенной барыни, и, если говорила: «Так должно быть» или: «Так было в нашем замке» (подразумевая свою прежнюю хозяйку), госпожа фон Шпрингенфельд тотчас же давала приказание сделать так, как сказала Сара, чтобы все было, как у графини. Однажды Сара сказала:
– У вашей милости должен быть песик. У нас (то есть у графини) тоже был – мы получили его из Англии. Ах, мой прелестный Жоли! Не могу забыть его! – и она начала рассказывать о собачке, добавив, что в аристократическом доме такой песик совершенно необходим.
Госпожа фон Шпрингенфельд стала тотчас же искать себе собачку, и один добрый друг, желавший угодить богатой барыне, нашел для нее желанного любимчика и заплатил за него восемьдесят дукатов. Друг думал, что его хорошо вознаградят, и не ошибся, так как этим подарком он приобрел расположение барыни.
Сколько было радости, когда Сара решительно сказала, что песик красивее, чем у графини!
Назвали его Жоли, как у графини, и установили для него твердый режим, который должен был строго выполняться. Наблюдала за собачкой мамзель Сара. Жоли обычно спал в ее комнате в мягком кресле с бархатной подушкой. Утром, когда мамзель Сара завтракала, он кушал кофе или сливки, после завтрака Сара носила его к барыне, которая немного играла с ним. Когда госпожа фон Шпрингенфельд одевалась, надзор за Жоли поручали лакею. Закончив туалет, она купала собачку, расчесывала ей шерсть, завертывала в тонкую простынку, укутывала в предназначенное для этой цели синее атласное одеяльце и клала обсыхать на подушку. Привыкший к ласке песик позволял делать с собой что угодно. Затем барыня шла с ним на прогулку в сад или, когда фон Шпрингенфельды были в столице, выезжала с ним в карете. В полдень Жоли получал на второй завтрак немного мяса под соусом, а в четыре часа котлетку из куриной грудки, куропатки или другого нежного мяса. Чтобы меню не надоело Жоли, оно менялось ежедневно. Лакей всегда приносил ему пищу на фарфоровой тарелке и ставил на накрытый стол – иначе собачка даже не дотронулась бы до еды,– а после обеда должен был вытирать ей морду.
Остальное время дня уходило у Жоли на забавы и игры, до тех пор, пока Сара не укладывала его в постельку.
Если же случалось, что песик не хотел играть или есть, думали, что он нездоров, и тотчас же посылали за врачом. Когда господа жили в поместье, прописывать лекарство было не так легко, и поэтому они привозили рецепт с собой. Врач, человек, правда, добрый и любезный, никогда не соглашался лечить песика; мамзель Сара советовала, разумеется, чтобы госпожа фон Шпрингенфельд отказала ему в праве получать бесплатно продукты из поместья – так поступила со своим доктором графиня, и после этого он делал все, что от него требовалось,– или чтобы она пригласила домашнего врача. Однако в этом вопросе барыня не могла последовать совету камеристки – поблизости не было другого доктора, а держать домашнего врача было для нее все же дороговато. В столице дело обстояло по-другому, там нашелся более покладистый доктор, который за несколько дукатов прописывал порошки и для собачки.
Однажды госпожа фон Шпрингенфельд захворала, и все время болезни хозяйки Жоли грустил и лежал около ее постели. Это растрогало барыню. Мамзель Сара рассказала, что графинин Жоли тоже грустил, когда его хозяйка болела, и графиня была так тронута, что назначила песику пожизненную пенсию в пятьсот дукатов, на случай если он ее переживет.
Это очень понравилось госпоже фон Шпрингенфельд, и она, следуя возвышенному примеру графини, установила для собачки пенсию в пятьсот дукатов серебром, если Жоли будет жить дольше, чем она, и пятьдесят дукатов тому, кто будет за ним ухаживать. Все это она написала и скрепила своей подписью и печатью.[3]
С той поры мамзель Сара стала еще больше, чем раньше, заискивать перед собачонкой.
Когда слух об этом курьезном завещании разнесся в кругу друзей госпожи фон Шпрингенфельд, все начали восхвалять ее барственную щедрость и благородные чувства, проявившиеся в этом поступке. Ее сравнивали с княгиней, которая, получив в подарок от своего возлюбленного прекрасного коня, велела построить для него особую конюшню с дубовым паркетом, мраморным желобом, полированными яслями и стойлом. За конем ухаживал специальный слуга, а когда княгине надоело кататься верхом, никто не смел ездить на этой лошади. Ее только водили на прогулку, кормили булками и отрубями и каждый день давали большой кусок сахару. И этот порядок был установлен для лошади пожизненно, что тоже было подтверждено письменно.
Один господин Скочдополе был недоволен поступком своей жены, однако молчал. Он относился к ней больше чем внимательно и не осмеливался препятствовать ее причудам и капризам по причинам, которых никто не знал. Поэтому он на все махнул рукой и подумал: «Кто знает, где будет пес к тому времени, когда она умрет!»
У господина Скочдополе тоже были слабости, но вместе с тем он был отзывчивым, добрым человеком и не кичился своим дворянством. Его старое имя было ему милее, а приставку «фон» он купил для того, чтобы сохранить мир в доме.
Его страстью и раньше была охота, и он радовался своему поместью главным образом потому, что мог охотиться в его окрестностях. Все его приятели тоже были охотники и посещали друг друга.
Они не слишком строго соблюдали этикет, не были так прилизаны, как шуты, увивавшиеся вокруг госпожи Скочдополе, и нутро их было здоровее. Поэтому господин Скочдополе охотнее блуждал в обществе своих приятелей по лесам или разговаривал с ними за бокалом вина, чем бывал в пропахшем духами салоне своей жены, где никогда не чувствовал себя свободно.
Прислуга и служащие любили господина Скочдополе больше, чем его жену. С мамзель Сарой они встречаться не любили; те, кто собирался получить что-либо от госпожи Скочдополе, заискивали перед мамзель и Жоли и боялись испортить с ними отношения. Только деревенские псы – собаки мясников, пастухов, сторожей и прочие «мужланы» – не считали нужным обращать внимание на маленького кавалера и не боялись его. Когда мамзель Сара, прибыв в замок, вышла с Жоли на прогулку, собаки сбежались, напали на песика, начали скалить зубы, неприлично заигрывать с ним, оскорбляя его деликатность, так что мамзель была не в силах стерпеть этого, взяла его на руки и отнесла в замок. Она пожаловалась барыне на собачий сброд и предложила запретить посторонним входить в парк с собаками. Приказ был немедленно написан на дощечках, и их вывесили возле парка, а кроме того, Жолинку стали водить на длинной серебряной цепочке.
Мамзель Саре хотелось добиться еще большей власти над поместьем, но пока это ей не совсем удавалось, потому что иной раз вмешивался барин, который, к несчастью, не слишком жаловал ее.
Повара Сара недолюбливала, так как он не хотел подчиняться и не посылал лакомств по ее просьбе; но барин любил его, а барыня тоже была к нему расположена, потому что благодаря его искусству об ее столе много говорили, и некоторые знакомые хотели сманить этого повара. Поэтому придирки мамзель ему не вредили.
Горничную Кларку Сара тоже терпеть не могла. Но та была дочерью старой ключницы, служившей еще у матери барыни и бывшей много лет экономкой у господ, когда они не жили еще на широкую ногу. Кларинка была красивая девушка, умевшая хорошо и просто делать женскую работу, скромная и добрая. Мать ее овдовела, когда Кларка была еще ребенком; она отдала девочку на воспитание к сестре в провинциальный городок, а сама поступила на службу к госпоже Скочдополе. Кларинка пробыла у своей тетки до тех пор, пока не выросла, а мать работала и копила для нее деньги.
Когда госпожа Скочдополе стала дворянкой, Марьяна, сделавшись ключницей в замке, взяла Кларку к себе.
Девушка понравилась барыне, и так как ей в это время понадобилась горничная, она сказала об этом ключнице и убедила ее, что Кларкино счастье заключается в том, чтобы учиться у Сары,– она увидит свет, а если не устроится иначе, то сможет позднее занять место Сары.
Матери все это было не по душе, но что она могла сказать барыне!
«Если я не сделаю этого,– думала, она,– то лишусь места и растрачу те несколько дукатов, которые скопила для девочки, чтобы ей легче жилось и не пришлось служить. Пусть поступает на место: бог сохранит ее, если она не отвернется от него». Она согласилась на предложение барыни, и Кларка стала горничной. Но Сара терпеть ее не могла и всячески изводила. Когда господа жили в столице, много слез пролила из-за нее Кларка; когда же они переехали в замок, где она была под защитой матери, Сара не осмеливалась мучить девушку, хотя мать ничего не знала о кознях мамзель: Кларка не жаловалась.
Барыня относилась к ней не плохо, как вообще ко всем, но что бы та ни делала, ей казалось, что все не так хорошо выходит, как у Сары, хотя девушка вскоре усвоила себе навыки, необходимые при одевании, и нередко думала, что одевала бы барыню лучше, чем Сара.
Больше всего бесили Сару в Кларке ее молодость и красота, которыми Сара похвастаться не могла; никто не любил ее, так как вдобавок ко всему она была злая и заносчивая. Перед Сарой заискивали те, кому нужно было, чтобы она замолвила за них словечко барыне.
А Кларку любили все, но больше всех писарь управляющего. Кларке он тоже нравился, мать хвалила его, говоря, что он порядочный человек, но мамзель Сара ненавидела его именно за это, она хотела, чтобы он подчинялся ей. Ее очень обижало также, что он называл ее не мамзель, а барышня.
– Неужели этот грубиян писарь не знает, как меня называть? Он думает, что перед ним простая деревенская девушка, и потому величает меня барышней,– однажды сказала она Кларке, желая уязвить ее.
– Мы, простые деревенские девушки,– ответила ей Клара очень любезно,– не позволяем обращаться к нам иначе, это для нас самая большая честь, но если вам не нравится, запретите ему называть вас так. Ведь «мамзель»– это исковерканное французское слово «мадемуазель» и означает тоже «барышня».
– Посмотрите-ка на нее, она хочет поучать меня!.. Что это значит? Я уже давно забыла то, чему вы еще только должны учиться,– сердито оборвала ее мамзель.
Подобные ссоры происходили между ними часто, но Клара всегда вовремя умолкала и тем самым закрывала рот своей противнице.
Когда барыня приехала в замок, служащие встретили ее приветствиями – она любила это. Казначей помог ей выйти из кареты, управляющий взял ее шаль, которую она забыла в экипаже, а писарь, как ни хотелось ему услужить Кларе, подскочил к карете – он всегда исполнял указания управляющего – с тем, чтобы взять на руки собачку. Подумав, что писарь собирается помочь ей, Сара наклонилась к нему; когда же он хотел взять песика, она гневно вскочила и сама протянула к Жоли руки. Но песик проскользнул мимо них обоих и спрыгнул на землю. Писарь быстро нагнулся, но Жоли убежал под карету.
Тут Сара вскрикнула, барыня оглянулась и, увидев собачку под каретой, завопила, будто пса уже не было в живых. Поднялся шум, но с Жоли ничего не случилось.
– Какое могло быть несчастье, если бы лошади дернули,– без конца повторяла Сара, прижимая к сердцу Жолинку и бросая ядовитые взгляды на писаря.
Бедный писарь надеялся стать объездчиком[4] и имел на это право, он мечтал даже о красивой хозяйке, а тут управляющий после встречи барыни сказал ему:
– Ну, вы сами себе все дело испортили, случится чудо, если вы теперь станете объездчиком. Вам нужно задобрить песика, не то все пропало.
– Если за свое счастье я должен благодарить собаку, лучше я поищу себе работу в другом месте. Но я думаю, что барин поступит соответственно заслугам и по справедливости,– сказал опечаленный писарь.
– Это ничему не поможет: барыня властвует над барином, а над барыней – мамзель и собака. Могу только дать вам совет: заслужите расположение мамзель и в свою очередь приобретите над ней власть.
– Никогда я не сделаю этого, не подчинюсь этому злому дракону и целовать собачью лапу не стану,– гордо ответил писарь.
– Мой дорогой Калина, приходится иногда зажигать свечку наперед чертом! – улыбнулся управляющий, желавший добра писарю.
2
Замок стоял на холме, а у его подножья был расположен городок. Река служила границей между господскими и городскими владениями и одним своим рукавом окружала город.
Жители городка делились на три категории. К первой принадлежали зажиточные хозяева, у которых был свой дом, усадьба и достаточно земли, а их жены и дочери носили шляпы и собирали у себя в парадной комнате на чашку кофе целое общество.
Из этих богачей выбирали обычно членов городского управления и бургомистра по старой поговорке: «Без денег и разума нет».
Ко второй категории относились ремесленники победнее, у которых был только клочок земли да домик; их жены ходили в чепцах, а зажиточные бывали очень недовольны, если бедняки позволяли своим дочерям носить шляпы, как у богатых. И, наконец, третья группа – так называемый сброд, батраки, с трудом сводившие концы с концами. Если кто-нибудь из них хотел в чем-либо равняться с первой категорией, это считалось величайшей наглостью. Если батрачки целовали барыне из первой категории руку, она тотчас же вытирала ее, чтобы не осквернить нечистым поцелуем, или подставляла рукав.
Усадьбы богачей и домишки ремесленников стояли по большей части около реки на насыпи. В каждом доме было несколько комнат, специально предназначенных для батраков; это были темные конурки с маленькими оконцами, с земляным полом, без печки или очага. Чтобы обогреться зимой и приготовить себе пищу, батраки ходили в большую людскую во дворе, помещавшуюся возле комнаты приказчика. За такую каморку батрак вносил двенадцать дукатов серебром в год; он был обязан круглый год работать на владельца усадьбы, получая за свой труд небольшое вознаграждение, и не имел права наниматься в другом месте, хотя бы ему предлагали там более выгодные условия. Но если у кого-либо из батраков была многочисленная семья, то ему было тяжело вносить хозяину ежемесячно даже эти деньги, в особенности зимой, когда бывает мало дела и заработки меньше. Поэтому, чтобы легче было платить за квартиру, батраки пускали ночлежников или постоянных постояльцев. Некоторые снимали комнатушки у крестьян, где жилье обходилось не дороже и не налагало никаких обязательств.
В каждой такой конурке батраки хранили запасы продовольствия на зиму. Под кроватями были вырыты ямы, в которых лежал картофель.
В одно прекрасное утро, вскоре после приезда барыни в замок, из темной, пахнувшей плесенью каморки вышла женщина с двумя детьми. Мальчик лет семи-восьми держался за ее юбку, на одной руке она несла маленького ребенка, а в другой – небольшой сверток. Одежда на ней и на детях была ветхая и заплатанная, но чистая. Вслед за ней вышла другая женщина, за которой тащилось несколько ребятишек.
– Скажу я вам, милая Караскова,– сказала вторая женщина,– я бы с удовольствием оставила вас у себя ночевать и дальше, хотя вы ничего не могли мне заплатить, но вы сами видите, как у нас тесно. У меня своих пятеро детей, у шурина трое, у вас двое, пятеро взрослых, подумайте, сколько тут народу. Ведь вы знаете, в какой духоте мы спим. Зимой от этого по крайней мере теплее, но летом плохо. Хозяин поручил приказчику следить за тем, чтобы мы не спали вповалку, так как говорят, что в Праге люди опять умирают от холеры, и тут боятся, чтобы это не приключилось и у нас. И приказчик тоже ругается, когда мы пускаем ночлежников, потому что тут-де разбойничий притон и его обворовывают.
– Боже мой, боже,– вздохнула женщина, задетая за живое этими словами, и ее бледное, изможденное лицо покраснело от стыда.
– Не обращайте на это внимания, никто на вас не подумает, но вы знаете, что, когда ходят подобные слухи, невинные страдают вместе с виноватыми. Люди бывают плохие и хорошие, кто легко верит, тот легко и сомневается, поэтому хорошо, если у человека ушки на макушке. Приказчик должен следить за всем, обижаться нельзя, хозяин у него сердитый. Вы были всегда порядочной и честной женщиной, скажу я вам, и никто вас не подозревает, я бы охотно оставила вас у себя, если бы смела. Может быть, однако, все обойдется. Вот вам на дорогу.
С этими словами батрачка вынула из кармана несколько печенных в золе картофелин и протянула их женщине.
– Да отплатит вам бог сторицей за все, что вы сделали для меня, и да пошлет он вам на много лет здоровья. В добрый час,– всхлипнула женщина, выходя из усадьбы.
– Ты больше не будешь у нас спать, Войтех? – закричали дети мальчику. Но он не оглянулся.
– Я оставила бы ее здесь,– повторила батрачка,– но что, если она тут у меня умрет,– ведь она на глазах тает, и мне пришлось бы еще хоронить ее. У каждого довольно и своих забот, скажу я вам. Конечно, она найдет кого-нибудь, кто ее приютит.
Тем временем бедная женщина быстро, насколько ей позволяли силы, шла по насыпи мимо дворов к реке. На середине моста она облокотилась о перила и как-то странно посмотрела вниз на медленно текущую воду.
– Мамочка,– обратился к ней Войтех,– посадите мне Иозефека на спину, я понесу его, у вас, наверное, руки, болят. Пойдемте туда, у креста на лугу светит солнышко, там мы согреемся, идемте, мамочка, не печальтесь: если нас не пустили ночевать, мы можем спать и на улице, теперь уже тепло!
– Ах, дитя мое, лучше всего было бы для нас троих спать с отцом в могиле,– вздохнула женщина, прижала к сердцу малыша и залилась слезами.
Войтех заплакал вместе с ней, и так, в слезах, они медленно побрели по мосту на другую сторону.
У последнего двора возле моста несколько батрачек вязали свясла[5] и без умолку громко болтали о всякой всячине. Когда Караскова проходила мимо ворот, они увидели ее.
– Куда она тащится с детьми? – спросила одна из них.
– Куда? Наверное, заработать что-нибудь хочет,– сказала другая.
– Ну уж, она и на кусок хлеба не заработает.
– Не бери греха на душу, Катержина,– прикрикнула на нее старуха.– Караскова хорошо работала, пока была здорова, а теперь на нее смотреть жалко. Она, бедная, потеряла мужа, досыта хлебнула горя, захворала, а чем – неизвестно. Это что-нибудь да значит!
– По-моему, она уже полгода больна лихорадкой.
– Вот именно, полгода,– опять отозвалась старуха,– она не может от нее избавиться и при этом кормит еще грудью ребенка, а ест одну картошку. Ее пожалеть нужно. Как вспомню, какая она девушкой была: кровь с молоком, бойкая, как волчок, всегда чистенькая, как цветочек. Из-за нее барыни ссорились, каждой хотелось взять ее в горничные, так хорошо она владела иглой.
– Если бы она не испортила себе жизнь из-за Карасека, то не дошла бы до этого.
– Эх, бабоньки,– воскликнула другая,– ведь мы все женщины и знаем, как это бывает, если двое любят друг друга и оба молоды. Я бы не стала говорить об этом, если бы сама не испытала... на моей свадьбе венков тоже не плели.
– Еще бы! Стала бы ты отпираться от того, что ясно как белый день,– сказала насмешница.
– Ну, милая, не каждый в этом признается. Ты только попробуй сказать правду своей барышне Стазичке, задаст она тебе трепку,– это тоже ясно как день. Каждый должен отвечать за себя, и я много поплакала из-за этого. Мы бы раньше поженились, но думали: ничего у нас нет, как жить станем. Все говорили мне – брось его, а его уговаривали уйти от меня. Однажды пришел он к нам. Я стала хныкать и жаловаться на нищету. «Перестань, Андулка,– сказал он мне,– если бедный человек загрустит, это и есть настоящая беда; пусть богачи тоскуют. Будь только веселой, и будем любить друг друга. Хоть не наедимся вволю, зато уснем спокойно». Бросила я тяжелые мысли, потому что любила его, и сошлась с ним.
– Это верно, твой муж всегда весел, он сердца не печалит.
– Да, он такой,– продолжала она,– он смеется и поет, говоря, что это единственная награда за слезы, которые он мог бы пролить... Я стыдилась своего греха и охотно вышла бы за него замуж, но у нас было столько долгов, что мы не могли сыграть свадьбу. Иржи сказал: «Мы принадлежим друг другу, можем подождать, пока нас не обвенчают даром». Но меня это мучило; если человек...– пусть бог меня простит – и ребенок... все-таки будет чувствовать себя отверженным. Собралась я с духом, пошла к господину капеллану[6] за советом, рассказала ему все, а он велел прислать к нему Иржика. Тот пошел, и господин капеллан сам все устроил. Через три недели мы обвенчались, и после этого он еще окрестил бесплатно нашего Вашичека.
– Господин капеллан хорошо относится к беднякам, это правда. А что сказал Иржи?
– Он был очень доволен, а раньше ведь делал вид, что ему все равно. Он любит господина капеллана, и, если тому бывает нужно что-либо сделать или куда-нибудь послать, Иржи берет это на себя, даже если приходится работать ночью.
– Вот у тебя было так,– снова начала старуха,– a у Карасковой по-другому. Мать бранила Иозефа за то, что он берет батрачку, хотя сам – каменщик, зарабатывает порядочно и мог бы жениться на дочке ремесленника. Его мать уже умерла, но какая это была баба! Нет и нет! Не хотела давать разрешения, и господин капеллан и учитель уговаривали ее, но, боже упаси, голова у нее была, как каменная стена. А что из этого вышло? Карасек все же Катержину не бросил, а у старухи прибавился еще один грех на душе. Потом Катержина хотела пойти к свекрови с ребенком, чтобы она благословила их, но старуха передала, что выгонит сноху метлой вместе с ее байстрюком.[7] Она обругала Катержину так, что со стороны можно было подумать, будто в бедной женщине на волос честности нет. От одного этого можно зачахнуть.
– Это была баба-яга,– перебил ее кто-то.
– Даже сыну было с ней так тяжело, что он уже собирался уйти из дому, если бы бог не нашел другого средства и не взял старуху к себе. Только на смертном одре она одумалась и благословила их.
– А у старухи были деньги? – спросила Андула.
– Вот именно: ничего после нее не осталось, хватило только на то, чтобы одеть ее и похоронить.
– А чем же она так гордилась?
– Тем, что ее мамаша была родной дочерью барина, а ее дядя – духовным лицом. Начхать на это! У моей тети, говорят, есть где-то мельница, но какое мне дело, если она мелет не для меня. От такого родства столько же пользы, сколько от старой тряпки. Да, да, все из-за того, что старая Караскова не хотела смешивать свою благородную кровь с батрачьей и мучила своих детей. После ее смерти жить им стало легче и лучше; Иозеф зарабатывал много, у Катержины было вдоволь работы у господ. Она хорошо одевала своего мальчика Войтеха. Я с удовольствием смотрела на них, когда они шли втроем из церкви. Любо было поглядеть! Боже мой, как недолго им пришлось жить вместе! Когда я сейчас смотрю на нее, плакать хочется. Как-то она дала мне юбку, и не раз я получала от нее горшочек супа. Не будь я так стара и бедна, что самой есть нечего и негде голову приклонить, я поделилась бы с ней всем, что у меня есть. Пока я жила в комнате, я иногда ходила ей помогать, но когда им пришлось перебраться в каморку, все кончилось. Она не хотела больше ничего принимать от меня, говоря, что у меня самой ничего нет.
– Боже! – начала снова одна из женщин, когда та умолкла.– У меня мурашки по спине бегают, когда я вспоминаю, как упали леса с Карасеком. Я как раз была на той улице и вдруг слышу крик: «Иезус, Мария, леса у Опршалка упали! Карасек убился!» Я видела Караскову, она была бела как мел, когда бежала туда. Лучше бы господь сразу взял его к себе, чем человеку так долго мучиться,– у нее сохранилось бы по крайней мере несколько дукатов и ей не пришлось бы побираться.
– Скажите, пожалуйста,– проговорила старуха,– так только говорится, но за любимого человека можно отдать всю кровь. Катержина была рада, что ее мужа принесли живым. Она ухаживала за ним, день и ночь работала, чтобы добыть ему все необходимое. Она всегда говорила, что не жаловалась бы, если б он остался в живых, хоть и калекой. В то время бог помог ей родить второго мальчика. Но и это ее не сломило. Однако спустя десять недель муж ее все-таки умер, и тогда у нее словно крылья подрезали. Она слегла и с тех пор еле ноги таскает.
– Однако, говорят, что ей много помогали; госпожа Опршалкова, с дома которой упал Карасек, постоянно что-нибудь ей посылала.
– Эх, милые, кто одевается в дареное, ходит без юбки. Долго быть щедрым дело трудное. А попрошайничать Катержина не станет. Она многое распродала, когда муж был еще жив; сами знаете, если комару вырвать ногу, сразу и кишки полезут,– болезнь, потом слабость – и готово дело.
– Но ведь она раньше много шила на господ.
– Шила, пока жила в хорошей комнате, а когда поселилась в каморке, ей перестали доверять хорошую работу, давали только починку или вязать чулки. Что она за это получала? Конечно, такая несчастная, больная женщина с двумя детьми каждому в тягость. Войтеха хотели взять пасти гусей, а она не отпустила его, вот и начали ее ругать, что она много о себе думает и не заслуживает жалости. А что бы она, бедняжка, делала без этого мальчика, ведь он нянчит ребенка, когда она сама не может. Но какая от этого польза, теперь ей уже совсем плохо – кто заступится за бедняжку? Один бог ей поможет... Кто не знает, что такое несчастье, тот и не поверит.
– Если нет своего угла, то и голову негде приклонить. Говорят, сегодня сюда приходил барин, сказал, чтобы батраки не пускали к себе ночлежников и чтобы люди не спали вповалку, потому что опять появилась моровая болезнь.
– Я сама там была,– добавила одна батрачка,– когда утром приходил барин; он сказал, чтобы мы не пускали к себе ночлежников, проветривали каморки и не ели всякой дряни. Ну и оборвала же я его, мои миленькие. «Барин – сказала я,– мы будем охотнее есть мясо и клецки, чем крапиву, лебеду и картофель, только будьте добры платить нам столько, чтобы мы могли покупать все это; богатый ест, что хочет, бедный – что имеет. Мы проветривали бы наши каморки, но окна открывать нельзя, потому что, как вы изволите видеть, в раме только одно стеклышко, а рама эта прибита к стене. Дверей мы не открываем, так как боимся, чтобы кто-нибудь не взял то немногое, что у нас есть, когда мы уходим из дома на целый день. И картофель мы вынесли бы из комнаты, если бы имели возможность хранить его где-нибудь в другом месте. Мы и ночлежников пускать не станем, если вы, барин, снизите нам квартирную плату». Он не ответил ни слова и ушел, как будто его укусила собака. Но я все-таки отвела душу и подумала: «Теперь ты будешь знать!»
– Умирать никому не хочется – ни бедняку, ни тем паче богатому, но смерти не избежишь, крестом ее не прогонишь и не упросишь. Почему же нам не помогают, если за нас боятся? – сказала старуха.
– А что же вы думаете, разве пес лает ради деревни, а не ради себя? Он боится за свою шкуру. Зачем нам помогать, пока мы не умираем с голоду, времени будет достаточно и после,– опять сказала та же насмешница.
– Ну, вот,– снова начала старуха,– когда в прошлом году появилась комета, люди говорили, что это не к добру. Так и получилось. Дорогие мои, чем дальше, тем хуже, да спасет и не оставит нас господь бог!
– Если бы не было нуждающихся, не грело бы солнце! – воскликнула насмешница.
– Ты с самого рождения дерзка на язык,– сказали ей другие.
– Я сердита на нашего барина,– продолжала она,– на самом деле тридцать рейнских за такую каморку – разве это дешево? Если хотят проявить к нам какую-то милость, пусть устроят за эти деньги человеческое жилье, а не скотское. Мы здесь долго не останемся, ему придется позаботиться о других рабочих. А мы пойдем к помещику. Там тоже много не заработаешь, но зато не будешь считаться последним человеком, как здесь. Мой муж справится со всяким делом. А если ничего другого не найдется, никто не станет меня попрекать детьми,– этого я простить барину не могу, и оттого я сегодня сама отказалась от работы, даже мужа не стала ждать. Он, наверное, согласится со мной.