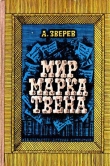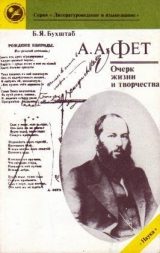
Текст книги "А.А. Фет. очерк жизни и творчества"
Автор книги: Борис Бухштаб
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
6
Периоды жизни Фета резко отделяются друг от друга. Последний период наступает в конце 70-х годов. Длительная деятельность энергичного, жесткого, твердо преследовавшего свои цели помещика дала обильные плоды. Сыграли роль и наследства от бездетных родственников так, после смерти племянника Фета П. И. Борисова к Фету перешло все достояние Борисовых. К старости Фет стал богат. Он перестает заниматься хозяйством. Дела передаются управляющему.
В 1877 г. Фет продал свое имение Степановку и купил в Курской губернии имение Воробьевку – с прекрасной старой усадьбой и роскошным парком. Там проводятся летние месяцы, а зимой Фет живет в Москве, в собственном доме-особняке, купленном в 1881 г.
В литературной жизни настает пора, более благоприятная для Фета. Жестокая политическая реакция и разложение народнической идеологии, господствовавшей в 70-е годы, вызывают спад социально-политических интересов у части интеллигенции, перепуганной и растерявшейся. Возрождаются симпатии к идеалистической философии и стремление к уходу от «политики», от «будничной действительности» в сферу «чистого искусства». Фет вместе с Майковым и Полонским возводится в сан патриарха «школы чистого искусства» и переходит на положение «маститого поэта». У него появляется ряд поклонников и подражателей среди молодых поэтов.
Творческая продуктивность Фета резко возрастает. Если в 60—70-е годы Фет писал в среднем 6–7 стихотворений в год (включая экспромты, шутки, письма в стихах), в 80-е годы число стихотворений поднимается до 20–21, а два предсмертных года – 1890 и 1891 – дают 25 и 36 стихотворений. Фет снова начинает печататься в журналах («Русский вестник», «Русское обозрение», «Нива») и, словно стремясь вознаградить себя за долгое молчание, через каждые два-три года выпускает новый сборник стихов – все под названием «Вечерние огни». Сборники рецензируются, и поэзия Фета снова начинает обсуждаться – поклонниками в восторженном тоне, противниками в умеренном.
Интерес к поэзии Фета по-прежнему проявляется лишь в узком кругу читателей. Но теперь Фет материально не заинтересован в литературном успехе и при всякой возможности устно, письменно и печатно уверяет, что морально он особенно удовлетворен именно своей непопулярностью. Так, в 1887 г. он пишет В. И. Штейну «Если у меня есть что-либо общее с Горацием и Шопенгауэром, то это беспредельное их презрение к умственной черни на всех ступенях и функциях. Скажу более. Мне было бы оскорбительно, если бы большинство понимало и любило мои стихотворения это было бы только доказательством, что они низменны и плохи».
Литературные занятия вновь стали для Фета основными, но не как профессия, а как реализация творческих потенций и как средство заполнить досуг обеспеченного бездетного старика.
С конца 70-х годов Фет усердно занимается переводческой деятельностью. Он переводит главный труд Шопенгауэра «Мир как воля и представление» и другие его книги, «Фауста» Гете, много мелких произведений, главным же образом занят переводом римских поэтов. В 1883 г. он выпустил своего рода «труд жизни», начатый еще на студенческой скамье, – стихотворный перевод всех сочинений Горация. Затем Фет стал переводить других римских поэтов. Работа эта была необычайно интенсивной и дала исключительные результаты. В последние семь лет жизни Фет выпустил в свет «Сатиры» Ювенала, «Стихотворения» Катулла, «Элегии» Тибулла, «Превращения» Овидия, «Элегии» Проперция, «Энеиду» Вергилия, «Сатиры» Персия, «Горшок» Плавта, «Эпиграммы» Марциала, «Скорби» Овидия.
К труду перевода почти всей римской поэзии (за который он был избран членом-корреспондентом Академии наук) Фет был хорошо подготовлен классической средней и филологической высшей школой. Всю жизнь он любил римскую поэзию. Стремление приобщить русскую интеллигенцию к античной культуре было тесно связано с эстетическими взглядами Фета. Древние классики были в его глазах представителями той «вечной красоты», которая противопоставлялась им современному искусству, искаженному и униженному «злободневностью» и «тенденциозностью».
Какова ценность переводов Фета – об этом рецензенты высказывались по-разному. В вечном споре двух направлений переводческой деятельности, одно из которых считает главным достоинством перевода точность, а другое – художественность, Фет был безоговорочным сторонником первого направления. «В своих переводах, – пишет Фет Полонскому, – я постоянно смотрю на себя как на ковер, по которому в новый язык въезжает триумфальная колесница оригинала, которого я улучшать – ни-ни». Он действительно достигает в своих переводах необыкновенной точности передачи смысла – иногда за счет синтаксической неуклюжести и стилистической какофонии, которые так жестоко были высмеяны в статье «Современника» о переводе «Юлия Цезаря».
В 1890 г. появились два толстых тома мемуаров Фета «Мои воспоминания», а в 1893 г. – посмертно – третий том «Ранние годы моей жизни». Свои книги Фет издавал сам; при его продуктивности он оказывался занятым почти непрерывной издательской деятельностью, тем более что некоторые переводы переиздавались.
Возвращение к литературной работе, к участию в литературной жизни, изменение общественного климата, само переселение из деревни в Москву – в значительной мере вывели Фета из прежней изоляции. Литературные занятия сближают его с филологами-классиками, философами, молодыми поэтами. Возобновляется дружба молодости с Я. П. Полонским. В конце 70-х годов Фет сближается с философом-идеалистом и литературным критиком H. H. Страховым, который стал главным его литературным советчиком, заменив в этом качестве Тургенева. С Львом Толстым, пережившим кардинальный идейный перелом, отношения становятся заметно холоднее. «Где тот жгучий интерес взаимного ауканья?» – пишет Фет об этих отношениях Страхову в 1883 г., а в 1891 г. пишет К. Р. «Беседа с могучим Толстым для меня всегда многозначительна, но, расходясь в самом корне мировоззрения, мы очень хорошо понимаем, что я, например, одет в черном и руки у меня в чернилах, а он в белом и руки в мелу. Поэтому мы ухитряемся обнимать друг друга, не прикасаясь пальцами, марающими приятеля».
Фет достиг тех жизненных целей, за которые бился с молодых лет до старости. Но покоя и удовлетворения не было.
Чувства спокойной удовлетворенности Фет вообще не знал. Тургенев писал о нем И. П. Борисову «Я не знаю человека, который мог бы сравниться с ним в умении хандрить». И. П. Борисов со своей стороны постоянно описывает Тургеневу мучительный характер Фета, подверженного приступам тоски, раздражения и отчаяния «И чем плач его слышится сильнее, тем лучше для него. Без этого нет ему и жизни. Окружите его всевозможными довольствами и со всех сторон безмятежным покоем – и он тотчас умрет и морально, и физически». Комментатор писем Борисова E. M. Хмелевская основательно замечает «Резкие переходы от кипучей энергии к полному упадку сил, приступы тоски и меланхолии, по временам мучившие Фета, очевидно, являлись признаками психического недуга, унаследованного им от больной матери».
Социальное положение Фета формально было теперь таким, какого он желал. Но жестоко раненное смолоду самолюбие не удовлетворялось достигнутым и требовало все новых компенсаций.
Крупной компенсацией была для Фета возникшая в 1886 г. дружба с великим князем Константином Константиновичем, писавшим посредственные стихи под инициалами К. Р. Письма Фета к К. Р. – психологически любопытные документы. Молодой поэт хочет встать к Фету в отношения ученика к учителю – Фет не сходит с позиции «вернопреданности» «августейшему поэту». «Милостиво», «изволили», «осчастливили» – такова лексика его писем к К. Р. Он неумеренно расхваливает стихи К. Р., – может быть, даже искренно; быть может, «письмо с короной золотой» настолько дурманило Фета, что «августейшие» стихи казались ему прекрасными.
Фет написал Константину Константиновичу и его жене много поздравительных, благодарственных и тому подобных стихов. Через Константина Константиновича он получил возможность поздравлять его сестру – греческую королеву, дочь его сестры, мужа этой дочери – великого князя Павла Александровича. Эти стихи Фет включал в свои сборники. Он, очевидно, мечтал о сближении с царским двором. Открылся путь и к этому.
В современной Фету критике его имя обычно сближалось с именем Майкова. Майков был тоже человеком реакционных воззрений, но вел себя осторожнее и никогда не был отчужден от литературы. Поэзия его была понятной, солидной, никого не эпатировала. Гораздо менее талантливый, чем Фет, Майков пользовался гораздо большей популярностью, считался в консервативных кругах лучшим поэтом своего времени и преемником Пушкина. С юных лет совмещая поэзию со службой (главным образом в цензурном ведомстве), он еще не старым дослужился до «генеральского» чина действительного статского советника, а в 1888 г., к 50-летнему юбилею литературной деятельности, был награжден чином тайного советника.
Фет буквально заболел желанием также получить какое-то отличие к литературному юбилею. Не служа, он не мог претендовать на высокий чин, но его больше устраивало получить придворное звание камергера. По малому его чину это оказывалось делом трудным. Но, пустив в ход приобретенные в жизни связи, Фет добился своего. В нетерпении он указал датой своего юбилея 1889 г., хотя начал печататься в 1840 г., а не в 1839-м. Больной старик, еле двигающийся от удушья, мучит себя дворцовыми приемами, сидит из-за них в городе в летнюю жару, тешится своим званием, являясь в камергерском мундире всюду – куда следует и куда явно не следует.1616
Б. Я. Полонский рассказывал мне, – пишет Ю. А. Никольский, – сколько детской радости было в старике Фете, когда он Бог знает к чему разодевался в полный камергерский мундир в своей деревенской глуши» (Никольский Ю. А. История одной дружбы. Фет и Полонский//Русская мысль. 1917. № 5. С. 127).
[Закрыть]
Друзья поздних лет жизни Фета отнюдь не были людьми радикальных взглядов, но его социальное поведение они считали постыдным. Полонский осторожно пытается разъяснить Фету непристойность таких выражений, как «Я робко за тобой пою», в стихах Фета Константину Константиновичу. Страхов после получения Фетом камергерства пишет Толстому «Я вам пожалуюсь на Фета, который так испортил себя в моих глазах, да и не в моих одних».
А Фета не удовлетворяет классовое сознание и идейные позиции его теперешних друзей. 23 января 1888 г. он пишет С. А. Толстой «Окруженный небольшим числом европейски образованных людей, назову Коршей – отца и сына, Грота – отца и сына, Соловьева – отца и сына, Страхова, я много раз пытался передать им то, что мне хотелось сказать, но каждый раз убеждался, что они не понимают меня, не потому, чтобы были неспособны к пониманию по умственному развитию, а потому, что <…> не поместные дворяне». В письме Фет сетует на переход культурной гегемонии от дворян к разночинцам и на классовую слепоту дворян-помещиков, которые «и не подозревают, что все, что подается им из враждебного лагеря, клонится к скорейшему их истреблению».
В конце XIX в. не было другого крупного русского писателя, который так откровенно, как Фет, исповедовал бы убеждения «дикого помещика», – можно сказать, выпячивал их с таким юродством. Он негодует на дворянство за освобождение крестьян.1717
«Оно… во имя непрожеванных чужих революционных учений явилось собственным доносчиком, обличителем и отщепенцем. И вот на основании этих же доносов те же самые руки ворвались в народную утробу и насильно порвали историческую пуповину, связывавшую два основных сословия, стоявших до той минуты горою друг за друга…» (Письмо Я. П. Полонскому от 10 января 1892 г.).
[Закрыть] Он уверяет, что только дворяне одарены подлинным художественным талантом.1818
Не потому ли муза нашей поэзии завоевала всемирное уважение, а нашей живописи никто знать не хочет, что первая посещает высшее сословие, а пластическая муза кого попало» (Письмо К. Р. от 24 августа 1890 г.).
[Закрыть] Он протестует против допущения к высшему образованию людей из низших слоев общества1919
К чему это неустанное накачивание на умственную вершину государственной башни всех подонков…» (Фет А. Где первоначальный источник нашего нигилизма//Русское обозрение. 1901. Вып. I. С. 193).
[Закрыть] и утверждает, что университетское образование – источник политического разврата. А. П. Чехов записал в своем дневнике «Мой сосед В. Н. Семенкович рассказывал мне, что его дядя Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался».2020
Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем В 20 т. М., 1944–1951. Т. 12. С. 332.
[Закрыть]
Перед нами прямо-таки плакатный реакционер-помещик, яростный борец за интересы своего класса. Однако плакат выполнен в тонах гротеска. Гротескно, что призванность к поэзии одного лишь дворянства декларирует поэт, добывший дворянство обманом, что крепостное право оплакивает землевладелец, самую возможность стать помещиком получивший лишь благодаря отмене крепостного права, что против высшего образования для «подонков» протестует человек, стоявший в студенческие годы на очень невысокой ступени социальной лестницы. В яростном максимализме Фета сказывалась не только ярко выраженная у него любовь к крайностям, к эпатажу, к запальчивым парадоксам и «острым углам». Здесь прежде всего сказалось страстное стремление убедить себя и других в том, что он подлинный дворянин, «трехсотлетний Шеншин».
Среди газетных публицистов той поры были, конечно, такие, которые могли сравняться с Фетом в реакционности. Но в них Фета раздражали недальновидность и казенный оптимизм. В последний год жизни он пишет К. Р. «Я не согласен с Говорухой касательно вымирания у нас революционной жилки. Конечно, я могу надеяться, что не доживу до печальных результатов такого направления, но грустно и неблагородно думать, что „apres nous le deluge"». (После нас хоть потоп» (фр.).
Бодрости, которую другим реакционерам давало сознание того, что у власти их люди, их класс, их направление, – такой бодрости у Фета и следа не было. Его гимны дворянству относятся только к прошлому, в настоящем же дворянство в его глазах – деградирующий и обреченный класс. В цитированном выше письме к С. А. Толстой от 28 января 1888 г. Фет называет современных помещиков дикарями и, жалуясь на невозможность появления журнала поместно-дворянского направления, пишет «У дикарей не только нет собственного журнала, как, например, даже у собачьих врачей, ветеринаров, но такой журнал даже не мыслим, ибо требует во главе своей настоящего помещика-земледельца. Так, мы знаем какого-то грамотного елецкого хлебного торговца, но едва ли найдется грамотный помещик-земледелец, а если бы и нашелся, то его бы никто не стал читать…».
Не радует Фета и развитие поэзии, хотя его направление как будто побеждает. Он и здесь видит одну деградацию. «Знаешь ли, что меня отталкивает от стихов? – пишет он Полонскому 11 августа 1889 г. – Это мои подражатели, которым нет числа; и подражают они по-видимому весьма хорошо, так что разве литературный кассир разберет фальшивую ассигнацию».
Фета давно терзали болезни. Хроническое воспаление век стало препятствовать работе. Пришлось нанять секретаршу, которая читала Фету и писала под его диктовку. Крайне усилилась одышка, мучившая Фета еще смолоду. Свое последнее стихотворение он начал словами
Когда дыханье множит муки
И было б сладко не дышать…
21 ноября 1892 г. Фет, очень ослабевший после тяжелого бронхита, попросил жену съездить к врачу и купить в магазине шампанского. По рассказу секретарши Фета, сообщенному ею двум биографам поэта, Б. А. Садовскому и В. С. Федине, Фет продиктовал ей, по отъезде жены, следующую записку (показанную ею Садовскому) «Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». Подписавшись под запиской и поставив дату, Фет взял со стола стилет, служивший ему разрезальным ножиком. Секретарша вырвала у него нож, порезав себе руку. Тогда Фет пустился быстро бежать по комнатам в столовую и попытался открыть шифоньерку, в которой лежали столовые ножи, но упал на стул и умер от разрыва сердца.
Вызвавший спор у биографов вопрос о том, считать ли Фета самоубийцей, представляется мне малосущественным.
7
Мемуаристы говорят о том, что в Фете поражала «прозаичность». «В нем было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало поэтического. Зато чувствовался ум и здравый смысл». «И наружностью, и разговорами он так мало походил на поэта <…>. Говорил он больше о предметах практических, сухих…». «Я никогда не замечала в нем проявления участия к другому и желания узнать, что думает и чувствует чужая душа. В нем не было той драгоценной Божьей искры, которая без обмана идет прямо в сердце…».
Это всё отзывы людей из круга Льва Толстого, дружбой которого Фет особенно дорожил и гордился, к жене которого относился, судя по мемуарам и письмам, с нежностью, близкой к влюбленности. В доме Толстых Фет, естественно, старался быть интересным и приятным. Последнее из приведенных высказываний принадлежит сестре жены Толстого, которой Фет посвятил знаменитые строки
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
Все это придает цитированным характеристикам особый вес. Можно привести и другие аналогичные характеристики из мемуаров и писем, рисующие образ человека эгоистичного, эгоцентричного, энергичного, практичного… Но эти источники (в том числе обширные мемуары самого Фета) не дают понять, как мог в этом человеке бить ключ такого сильного, такого подлинного лиризма. При такой плоской жизни какими же душевными движениями стимулировалось его творчество, какими переживаниями оно питалось?
У Фета было достаточно вкуса, чтобы не считать поэтичной и красивой свою жизнь, отданную погоне за богатством и удовлетворением тривиального честолюбия. Но не надо думать, что Фет когда-нибудь осуждал свою жизнь во имя высших идеалов или хотя бы признавал, что можно было прожить жизнь достойнее и красивее. Нет, свою жизнь он воспринимал как тоскливую и скучную, но считал, что такова жизнь вообще. И до знакомства с Шопенгауэром, и в особенности опираясь на его учение, Фет не уставал твердить, что жизнь вообще низменна, бессмысленна, скучна, что основное ее содержание – страдание, и есть только одна таинственная, непонятная в этом мире скорби и скуки сфера подлинной, чистой радости – сфера красоты, особый мир,
Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста, —
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота.
(«Какая грусть! Конец аллеи…»)
«Без чувства красоты, – формулирует Фет, – жизнь сводится на кормление гончих в душно-зловонной псарне».
(Фет А. Из деревни // Русский вестник. 1863. № 1. С. 467.)
Поэзии, по Фету, нечем поживиться в «мире скуки и труда»; красоту надо искать не «в мраке жизни вседневной», не «средь жалких нужд земных». Только
За рубежом вседневного удела
Хотя на миг отрадно и светло.
(«Все, все мое, что есть и прежде было…)
Странная любовь с детства к поэзии, искусству, красоте и мрачное презрение к жизни едва ли не с тех же лет предопределили сочувствие Фета к учениям, выводившим искусство и красоту за пределы повседневности, в особый мир «чистого созерцания». Такими учениями были в 40-е годы – романтическая философия искусства, еще имевшая тогда широкое распространение и несомненное влияние; в 60-е годы – теория «чистого искусства», проповедуемая авторитетными для Фета критиками Боткиным и Дружининым; позднее – философия Шопенгауэра.
Фет особенно любил развивать в беседах и письмах мысль о непроходимой границе между человеком как творцом и тем же человеком во всех других проявлениях его жизненной деятельности. Идея диспаратности «поэта» и «человека» как бы оправдывала «непоэтичность» жизни и характера самого Фета. Он всячески подчеркивал эту идею, стремясь выглядеть то служакой-офицером, то кряжевым помещиком, – ничем не быть в жизни похожим на поэта. Чем более «безумным» считал Фет свое лирическое творчество, тем рациональнее и суше старался он быть и казаться в жизни. В своих мемуарах он декларирует «Насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновением), пружины которого для нас скрыты (вечная тема наших горячих споров с Тургеневым), настолько в практической жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом».
Сказанное не нужно понимать так, что в жизни Фет был скучен, плосок или всегда угрюм. Т. А. Кузминская, относившаяся к Фету с видимой антипатией, пишет о первом знакомстве с ним «Он обедал у нас и поразил нас своим живым юмором, веселым остроумием и своими оригинальными суждениями». Она сообщает еще «Он был гостеприимен», «…был ли разговорчив? Очень, в особенности если кто умел его вызвать на это. Но Афанасий Афанасьевич умел и молчать. У него было много такту и утонченной манеры держать себя в обществе». Страхов пишет, что Фет «был неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов».
Некрасов писал Тургеневу 24 мая 1856 г. «…очень худо жить. Я-таки хандрю. Фет еще выручает иногда бесконечным и пленительным враньем, к которому он так способен. Только не мешай ему, – такого наговорит, что любо слушать».
Фет постоянно пропагандировал автономность искусства, его свободу от «будничной» логики. «Художественные истины, – писал он, – имеют весьма мало – чтобы не сказать, не имеют ничего – общего с другими истинами».
Отчасти пропаганда Фета имела целью защиту права искусства на творческое преображение действительности, борьбу против требования иллюстративности, предъявляемого искусству вовсе не одними ненавистными Фету демократами. Упомянув в своих мемуарах об обеде у откупщика Кокорева, за которым хозяин произнес речь «о добровольной помощи со стороны купечества к выкупу крестьянских усадеб», Фет рассказывает «Помню, с каким воодушевлением подошел ко мне M. H. Катков и сказал „Вот бы вам вашим пером иллюстрировать это событие". Я не отвечал ни слова, не чувствуя в себе никаких сил иллюстрировать какие бы то ни было события».
В последний год жизни Фет пишет
«Если бы желающие во что бы то ни стало осудить нас как поэта сказали, что наши стихотворения гроша не стоят, потому что в них одна неправда, ибо мы не способны ни взлететь ракетой на воздух, ни уносить кого-либо на ковре-самолете2121
Фет намекает на свои стихотворения «Ракета» и «Люби меня! Как только твой покорный…».
[Закрыть] и т. д., то против такой истины мы не нашли бы ни малейшего возражения, но привели бы в свое оправдание нечто совершенно другое. Для передачи своих мыслей разум человеческий довольствуется разговорною и быстрою речью, причем всякое пение является уже излишним украшением, овладевающим под конец делом взаимного общения до того, что, упраздняя первобытный центр тяжести, состоявший в передаче мысли, создает новый центр для передачи чувств. Эта волшебная, но настоятельная замена одного другим происходит непрестанно в жизни не только человека, но даже певчих птиц… Реальность песни заключается не в истине высказываемых мыслей, а в истине выражаемого чувства. Если песня бьет по сердечной струне слушателя, то она истинна и права. В противном случае она ненужная парадная форма будничной мысли».
H. H. Страхов вспоминает о Фете «Он говорил, что поэзия и действительность не имеют между собою ничего общего, что как человек он – одно дело, а как поэт – другое. По своей любви к резким и парадоксальным выражениям, которыми постоянно блестел его разговор, он доводил эту мысль даже до всей ее крайности; он говорил, что поэзия есть ложь и что поэт, который с первого же слова не начинает лгать без оглядки, никуда не годится».
Этими «крайностями» Фет щеголяет и в письмах «В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда»; «Художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует»; «Моя муза не лепечет ничего, кроме нелепостей», и т. п.
Такими парадоксами Фет реагировал на вечные обвинения его поэзии на всем протяжении ее развития в непонятности, неопределенности, запутанности, отрывочности, причудливости, бессвязности, бессмысленности.
В наше время, после опыта поэзии конца прошлого и всего нашего века, трудно уже понять такое восприятие. Читая критические отзывы современников Фета об отдельных стихотворениях поэта, с трудом представляешь себе, на чем основаны эти приговоры «…читатель недоумевает, уж не загадка ли какая перед ним, не „Иллюстрация" ли это шутки шутит, помещая на своих столбцах стихотворные ребусы без картинок?»; «Едва уловляешь мысль, часто весьма поэтическую, в той форме, которую дает ей поэт, а иногда просто спрашиваешь в недоумении что это такое и что хотел сказать автор?»; «Стихотворение по недоконченности выражения доведено до крайней странности»; «Неопределенность содержания доведена до последней крайности <…>. Что же это наконец такое?»; «…стихотворение г. Фета своей отчаянной запутанностью и темнотою превосходит почти все когда-либо написанное в таком роде на российском диалекте!». Такие и подобные отзывы даются о стихотворениях, в которых нашему теперешнему сознанию трудно отыскать что-нибудь неясное, как «Пчелы», «Колокольчик», «Жди ясного на завтра дня…», «Последний звук умолк в лесу глухом…» и др. Во всяком случае это резкое восприятие современников указывает на своеобразие Фета и новизну его поэтического метода для русской поэзии.
Поскольку художественное творчество не имеет, по Фету, ничего общего с поступками художника, эстетические принципы никак не связаны с этическими. «Красота сама по себе до того лучезарна и привлекательна, что ни в какой святости не нуждается». (Письмо к К. Р. от 12 февраля 1888 г.) Критерии добра и зла необходимы в жизни, но чужды искусству. К художнику Фет обращается с такими словами
Но если на крылах гордыни
Познать дерзаешь ты как Бог,
Не заноси же в мир святыни
Своих невольничьих тревог.
Пари всезрящий и всесильный,
И с незапятнанных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадет.
(«Добро и зло»)
Еще в статье 1859 г. о стихотворениях Тютчева Фет писал «…вопросы о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался».
Внесение в искусство животрепещущих вопросов социальной жизни представлялось Фету дискредитацией искусства, своего рода святотатством. Он не уставал громить «тенденциозное» искусство. «…Видно, мне с тем и умереть, – пишет он Полонскому, – оставшись в поэзии непримиримым врагом наставлений, нравоучений и всяческой дидактики». «Всякая фантастическая галиматья может быть в искусстве правдой, – поучает он того же адресата, – но Боже тебя сохрани, если ты, свободный поэт, дозволил себя увлечь тенденцией в пользу или против крепостного права или свободы. <…> мне было бы горько, если бы ты истинно прекрасную вещь зарезал ржавым ножом тенденции».
Тщетно Тургенев в постоянных спорах с Фетом силился доказать ему, что лишение художника права говорить о том, что его волнует, – это и есть покушение на свободу творчества. Фет во имя этой свободы упрямо ограничивал и темы, и устремления художника. Он писал «…попробуйте воспеть изобретение пороха, компаса или лекцию о рефлексах, и вы убедитесь, что это даже немыслимо».
Такое декретирование тем и характера поэзии покоилось на убеждении в незыблемости законов искусства и красоты. Фет писал «Но ведь красота-то вечна. Чувство ее – наше прирожденное качество». «Высокое и прекрасное – высоко и прекрасно не потому, что им увлекается поклонник, а по собственной неизменной природе».
Тот факт, что «поклонники» имеют разные вкусы и разное любят в искусстве, нимало не смущал Фета.(Он с особенным ожесточением поддерживал тезис Шопенгауэра об элитарности искусства, утверждение, что «именно наипревосходнейшие создания всякого искусства, благороднейшие произведения гения для тупого большинства людей вечно должны оставаться закрытыми книгами и недоступными для него, отделенного от них широкой пропастью, подобно тому, как общество государей недоступно для черни».
Итак, Фет восстает против каких бы то ни было связей красоты с истиной и добром, искусства с логикой, этикой и вообще философией. И чем более поэзия Фета становилась философской поэзией, тем решительнее отрицал он право на существование философской поэзии. Уже в самом конце жизни он пишет «Муза рассказывает, но не философствует»; «Нет, не спрашивай никогда моего мнения насчет философских и гражданских стихотворений, в которых я ничего не понимаю».
Литературоведы, писавшие о Фете, обычно находятся под сильным влиянием его собственных мнений о себе. Но, так же как биограф Фета, исследователь его поэзии должен делать немалые поправки к его самооценке.
Себя как поэта Фет в стихах и в прозе постоянно именовал «безумцем»
И, издали молясь, поэт-безумец пусть
Прекрасный образ ваш набросит на бумагу.
…Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завoи, и блестки, и росы…
…Как богат я в безумных стихах…
«Кто развернет мои стихи, увидит человека с помутившимися глазами, с безумными словами и пеной на устах бегущего по камням и терновникам в изорванном одеянии». Лирический экстаз, «поэтическое безумство» – это то, что Фет более всего ценил в лирике и по наличию и степени чего строго судил своих собратьев – поэтов, включавшихся критиками в «школу чистого искусства».
«Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого, – но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт. В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю. Пусть он хоть в целом дворце обтянет все кресла и табуреты венецианским бархатом с золотой бахромой, я все-таки назову его первоклассным обойщиком, а не поэтом. Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».
«Что касается до Майкова, то он несомненно трудолюбивый, широко образованный и искусный русский писатель, он не то, что иной наш брат-самоучка вроде Кольцова, раздобылся карандашом да клоком бумаги – и ну рисовать. Нет, студия Майкова снабжена всевозможными материалами и приспособлениями. Это скорее оптовый магазин, чем переносная лавочка; но в этом магазине не найдешь той бархатной наливки, какою подчас угостит русская хозяйка, не претендующая ни на какие отличия. Если муз следует титуловать, то к нашим следует приписать Ваше Благородие, а майковскую надо титуловать Ваше Высокостепенство. Что касается до меня, то я скорее забегу к скромному шкапчику еще раз выпить рюмку ароматной влаги, чем в великолепный оптовый магазин, в котором ничем не дадут и рта подсластить».
«В поэте Полонском восхищаюсь не тою сознательно-философской стороною, которую он постоянно тянет в гору, как бурлак барку, умалчивая при этом о тех причудливых затонах, разливах и плёсах, которых то яркая, то причудливо мятежная поверхность так родственно привлекает меня своею беззаветностью».
«Мечты и сны» – вот, по Фету, основной источник его вдохновений
На утре дней все ярче и чудесней
Мечты и сны в груди моей росли…
Все, все мое, что есть и прежде было,
В мечтах и снах нет времени оков…
Фантазии, грезы, «темный бред души» – вот что, по Фету, закрепляет и передает его поэзия. Он говорит о своих стихах
Нет, не жди ты песни страстной,
Эти звуки – бред неясный,
Томный звон струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навевают эти звуки
Ласковые сны.
Звонким роем налетели,
Налетели и запели
В светлой вышине.
Как ребенок им внимаю,
Чтo сказалось в них – не знаю,
И не нужно мне.
Поздним летом в окна спальной
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова;